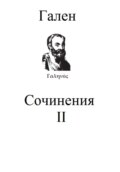Гален
Сочинения. Том 5
Гален. Опровержение возражений, выдвинутых Юлианом против афоризмов Гиппократа
1. Хорошо бы было, если бы, как законодатели предписывают для истца, уличенного во лжи, то же наказание, которого он требовал для ложно им обвиненного, возражающие против того, чего не понимают, несли достойное своих заблуждений наказание. Но так как они набираются наглости, чтобы выносить суждение, а закона против таких лживых обвинителей нет, то тупейшие люди осмеливаются выступать против мудрейших мужей. В Египте в древности каждое изобретение в каком-либо искусстве или ремесле оценивалось общим собранием людей образованных и записывалось на каменных стелах, хранившихся в святилищах; следовало бы, чтобы и у нас был совет справедливых и образованных мужей, которые судили бы о новых писаниях и полезные выставляли бы в общественных местах, а зловредные уничтожали. Лучше было бы, чтобы и имя писавшего не сохранялось, как и было в древности в Египте, ведь таким образом сдерживалось бы безмерное стремление честолюбцев к славе.
Теперь же, когда и писать всем дозволено, и судить кто угодно может, благосклонность толпы снискивают самые наглые, например Фессал, ругающий в своем сочинении Гиппократа, хотя в своей единственной книге, которая, как ему кажется, опровергает «Афоризмы» Гиппократа, он показал только то, что учения Гиппократа он совершенно не понимает. А ведь по справедливости следовало бы сначала изучить его и только потом пытаться опровергать. Или, может, я неправильно сказал? Но ведь никто не осмелился бы опровергать истины, разве что человек совершенно бесстыдный, как этот, ныне явившийся в Александрии, Юлиан, который, как говорят, написал сорок восемь книг против «Афоризмов» Гиппократа. Из них мне недавно попалась вторая, в которой он говорит, что следующий афоризм, по его мнению, ложен: «При расстройствах желудка и при самопроизвольных рвотах, если только очистить все, что должно очистить, – это полезно и больными легко переносится. В противном случае – наоборот. Так точно и опорожнение сосудов; если можно произвести его так, как это следует делать, оно бывает полезно и легко переносится. В противном случае бывает наоборот»[150].
Благодарю судьбу, что эта книга попалась мне в руки первой, так что не пришлось тратить времени на чтение длинного опровержения на первый афоризм, который является предисловием к последующим. В любом случае, если бы мне пришлось писать возражения против этой книги, то я не считал бы, что совершил нечто важное, речь ведь тут еще не касается медицинских воззрений. А вот упомянутый афоризм касается темы, важной для медицинского искусства: в нем врачу рекомендуется подражать тем непроизвольным самоочищениям верхнего и нижнего желудка, которые полезны, и объясняется, какие из них полезны, а какие вредны и как распознавать их, а также и для полезных, и для вредных приводятся отличительные признаки. Если бы Юлиан обучался врачебному искусству у учителей-гиппократиков, то не осмелился бы возражать против этих истин. Но поскольку ни он, ни Фессал, его наставник в этой глупости, не сведущи в искусстве потомков Асклепия, то нет ничего удивительного в том, что они не понимают и того, что понимают даже те, кто заявляет, что лечит без всяких теорий. Стоит послушать этих людей, утверждающих, что врачебное искусство врача совершенствуется главным образом благодаря опыту и подражанию. Ведь, по их словам, то, что оказалось полезным больному, они и собираются применять, при этом различая природное, то есть имеющее причину внутри тела, и случайное, то есть имеющее причину вне тела, следовательно, подражать не только природе, но и случаю. Эти мужи среди многих примеров случайной пользы рассказывают о человеке, который при падении порвал себе вену на лбу. Они решили вскрыть больному, находившемуся в похожем состоянии, что и тот, у которого вена повредилась при падении, ту же вену, надеясь на такой же результат. Мы можем научиться подражать природе, также наблюдая серьезное расстройство желудка, случающееся при воспалении глаз и затем приносящее большую пользу. Также мы видим, что страдающим желтухой часто становится легче после выделения желчеподобных масс, больным так называемой слоновьей болезнью – после истечения черной желчи, а больным водянкой – после истечения водянистой жидкости, из чего следует, что врачам нужно это использовать. Однако почему следует говорить о непроизвольных извержениях, если мы обучаемся искусству врачевания, перенимая опыт учителей? Неужели ученики Фессала должны подражать своему учителю, если он с помощью очистительной клизмы вылечивает больному желудок, а если очищение произошло произвольно, то его воспроизводить не следует? Или предположим, что у женщины случилась задержка месячных, а потом кровавая рвота. Неужели ученикам Фессала нужно повторять действия учителя, который, вызвав истечение или отворив жилу, излечил эту болезнь, а если месячные прорвались сами по себе и принесли облегчение, то природе им в этом подражать не следует? Ведь нет разницы, повитуха или Фессал вызвали месячные, или больная получила облегчение без их участия, от самопроизвольного истечения, – польза происходит от опустошения, а не от того, что его вызвало. Именно этому и учит Гиппократ: «У женщины, которую рвет кровью, если прорвутся месячные, наступает облегчение»[151]. Он говорит, что когда прорвутся месячные, тогда и наступит исцеление болезни, не важно, природа это совершит или человек. Ведь не причина события, а само событие приносит пользу больной. Одно лишь нужно, чтобы месячные пошли обильно, то есть, как выразился Гиппократ, “прорвались”, так что смысл его афоризма таков: «У женщины, которую рвет кровью, если обильно пойдут месячные, наступает облегчение». Мне бы и дня не хватило перечислить все самопроизвольные явления, которым подражают люди. Да никто с этим и не спорит, но это принимается как общее мнение всеми, кроме гнусных софистов, которые в искусстве врачевания хуже простых невежд, но способны бесстыдно и нахально сочинять величайшие глупости против наилучших из врачей. Таков и этот Юлиан, о котором всем известно, что он сам никогда не занимался искусством врачевания, но зато нагло оскорбляет древних врачей.
2. Невозможно сказать, о чем больше свидетельствуют его дерзкие речи против приведенного афоризма – о безмерном невежестве, бесстыдстве или дерзости, – а по правде говоря, так обо всем об этом и не только. Может, лучше было бы не удостаивать это письменным опровержением и не тратить на это понапрасну время? Однако многие друзья настойчиво просили меня написать для них комментарий на принесенную мне книгу, в которой Юлиан попытался опровергнуть указанный афоризм. Мне пришлось выдержать серьезную битву – по правде сказать, более тяжелую, чем рукопашную, – разбирая на протяжении шести дней или более множество глупостей, которые в ней Юлиан написал. Тут кто-нибудь, и весьма к месту, вспомнит известное изречение о том, что нет существа болтливее человека:
«Только Терсит меж безмолвными каркал один, празднословный»[152].
К Юлиану это изречение подходит даже больше, чем к Тер-ситу, так как он превзошел многословием всех когда-либо родившихся. И вот те, кто присутствовал при чтении его книги, дали этому человеку два прозвища – болтуна и говоруна, да такого, которому потребен не я с моими рассуждениями, но Одиссей со своим жезлом; вразумить же такого глупца не смогло бы и собрание всех Муз.
И вот после того, как был вынужден записать это, нынешнее рассуждение послужит как бы предисловием, чтобы не обвиняли меня те, кто будет читать это. Ведь я желаю обличить глупого и невежественного лжемудреца, который всю жизнь рассказывал нелепые вещи необразованным мальчишкам, среди которых кое-кто и поверил его кощунственной клевете на мужей древности. Так что прошу позволить мне бичевать его невежество словами более резкими, чем те, которые я обычно использую. Ведь ужасно было бы, если бы он мог порочить лучших из мужей древности, а нам нельзя бы было ясными доводами обличать его невежество, дошедшее до такой степени, что, откуда ни начни, ничего не найдешь верного в его писаниях.
3. В начале книги Юлиан занят в основном нападками на Сабина, оставляя Гиппократа без внимания. Именно это он, похоже, делает на протяжении всего сочинения, хоть и назвал книгу «Против афоризмов Гиппократа», а не «Против изъяснений Сабина»; затем, по своему обыкновению, глупо пустословит, сочиняя невнятную бессмыслицу, которую если бы кто-то и взялся разобрать, то написал бы огромную книгу, прежде чем по-настоящему приступил к разбору, да и то лишь если ему было бы позволено не все высказывать. Однако для пишущего это затруднительно, а вернее совершенно невозможно. Ведь в неподготовленных речах, какие мы часто произносили в присутствии образованных мужей, мы находили легкий путь изложения посредством подобия изложению древних; ведь когда мы во время публичных демонстраций истолковываем предложенное к толкованию произведение… ***[153] Если врач методической школы, сам того не заметив, станет выступать как натурфилософ и скажет без хвастовства и чванства, не делая вид, что выносит на всеобщее обозрение некие основы сокровенного учения, что болезненные процессы, происходящие с телом, бывают двух видов и для того, что составлено сообразно природе, возможно два вида перемен, или изменений, противоположных друг другу, – избыточное собирание и насильственное излияние, – то слова его покажутся разумными – не натурфилософам, конечно же, рассуждающим о материи вселенной, а врачам физической школы. Это и есть одно из нелепых рассуждений Юлиана; удаляясь от начал, определенных Асклепиадом, Темисоном и Фессалом, он опирается на этих философов, которые полностью устраняют пустоту из нашего мира. За этой нелепостью следует другая: «Я не стану отступать и сдерживать, чтобы не говорить об этом. Разве это мне сложно? Ведь так же, как происходит рождение элементов, рождается и природа теплого и холодного, влажного и сухого. Ведь эти вещи происходят, как потомки, от тех предков. Видишь, на какой возвышенный и недостижимый трон воссел научный метод и сокрыл себя, движимый скромностью и умеренностью, а я, первый и единственный, обнаружил его на небе, прогнав скрывавшую его тучу и освободив его!» Вот что говорит Юлиан, а затем и продолжает: «Еще менее мог бы я согласиться с Эпикуром, так как не принимаю его элементов, поскольку он не сводит сущее к одному». Все это и еще многое другое говорит Юлиан в своей книге «О методе», посвященной Филону. В другой же, в которой он ведет речь о различных заболеваниях души и тела, он пишет: «Состояние, соразмерное с точки зрения скопления и истечения, мы по человеческому суждению назовем здоровьем. Если же болезни вызывают отклонение от этого состояния, то тела неизбежно страдают, либо собираясь и делаясь тверже и суше, либо растекаясь и становясь мягче и влажнее, чем следует».
4. Таковы речи известнейшего софиста, утверждающего, что врачи методической школы следуют Зенону, Аристотелю и Платону. Мы же со своей стороны ему напомним, что все эти философы, а также их последователи считают здоровьем соразмерность тепла, холода, сухости и влажности, полагая, что болезни, происходящие от образа жизни, возникают вследствие избытка или недостатка того или иного из этих начал; они думают также, что в теле существуют жидкости, которые по своей функции могут быть сухими и влажными, а некоторые из них являются горячими и холодными, аналогично болезням. Так думал Платон и все его последователи, и Аристотель с перипатетиками, таково же было мнение Зенона, Хрисиппа и прочих стоиков. Юлиан же не прочел ни одной книги упомянутых мужей и вообще не имел представления о том, что такое последовательное рассуждение и что такое противоречие, а если бы имел, понимал бы, что это следует из учения, отрицающего пустоту; из учения же, признающего ее существование, следует, что здоровье – это некая соразмерность сосудов, а болезни, возникающие в зависимости от образа жизни, – затрудненное или избыточное течение жидкостей в них. Стоит ли мне приводить здесь одно за другим высказывания Аристотеля, Хрисиппа и всех остальных перипатетиков и стоиков, в которых они обвиняют флегму и желчь и объявляют, что существует четыре первичные болезни, соответствующие четырем началам – теплу, холоду, сухости и влажности? Или лучше этого не делать, ведь тогда пришлось бы написать не одну книгу и не две, а три, четыре и даже более, а ограничиться лишь тем, что сказал Платон? Пожалуй, лучше поступить именно так, чтобы не потонуть в многословии вместе с болтливым софистом.
Итак, приведем только его суждение, не касаясь перипатетиков и стоиков. Ведь ни у Аристотеля, ни у Теофраста не найдешь книги, в которой, говоря по необходимости о болезнях, они упоминали бы о чем-нибудь, кроме тепла, сухости, холода и влажности, но они всегда говорят именно об этом, а вместе с этим часто рассуждают о желчи, черной и желтой, нередко и о флегме, а некоторые авторы разъясняют и различие между ними, называя одно кислым, другое горьким или соленым, а третье – сладким. И Хрисипп не отличается в этом от них, а всегда точно так же рассуждает о болезнях и о естественных жидкостях. И если бы кто-то захотел отобрать изречения только лишь трех упомянутых мужей, ему пришлось бы исписать немало книг и потратить на свои занятия немало времени и сил, как это сделал Юлиан Александрийский; а если бы он пожелал собрать речения всех остальных стоиков и перипатетиков, то ему пришлось бы составить целую библиотеку.
Но, как я уже сказал, ограничусь лишь рассуждением Платона, во всем следовавшего учению Гиппократа. И не стану выбирать отрывки из всех его многочисленных сочинений, а остановлюсь лишь на цитате из «Тимея»: «Что касается недугов, то их происхождение, пожалуй, ясно каждому. Поскольку тело наше сплотилось из четырех родов – земли, огня, воды и воздуха, стоит одному из них оказаться в избытке или в недостатке или перейти со своего места на чужое, стоит какой-либо части (вспомнив, что как огонь, так и прочие роды являют не одну разновидность) воспринять в себя не то, что нужно, тут же, как и в случае других подобных нарушений, возникают смуты и недуги; от этих несообразных с природой событий и перемещений прохладные части тела разгорячаются, сухие – набухают влагой, легкие – тяжелеют и вообще все тело претерпевает всяческие изменения»[154]. В этом рассуждении Платон явно следует Гиппократу в учении о первоначалах и их свойствах. А далее он приписывает причину болезней естественным жидкостям: «Что касается белой флегмы, то содержащийся в ее пузырьках воздух опасен, когда она заперта внутри тела; отыскав сквозь отдушины путь наружу, она становится безвредней, но разукрашивает тело белыми лишаями и другими подобными недугами. Порой она смешивается с черной желчью и тогда тревожит своими вторжениями самое божественное, что мы имеем, – круговращения, происходящие в нашей голове; если такой припадок случается во время сна, он еще не так страшен, но вот если он поражает бодрствующего, бороться с ним значительно тяжелее. Поскольку природа поражаемой им части священна, он по справедливости называется священной болезнью»[155]. К этим словам Платон добавляет следующее рассуждение: «Едкая и соленая флегмы являются источником всех недугов катарального свойства; от множества различных мест, куда может устремиться истечение, недуги эти получили много разных имен»[156]. Таковы объяснения Платона относительно флегмы, а также черной желчи. Послушай же теперь, что он говорит о желтой желчи: «Напротив, так называемые воспаления различных частей тела, именуемые так от горения и опаливания, все обязаны своим возникновением желчи. Если желчь обретает через отдушины тела путь наружу, она в своем кипении порождает всевозможные нарывы; заключенная внутри, она производит множество воспалительных недугов, и притом самый тяжелый из них тогда, когда примешивается к чистой крови и нарушает правильное соотношение кровяных волокон. Эти волокна рассеяны по крови для того, чтобы поддерживать равновесие между разреженностью и плотностью: кровь не должна ни разжижаться от горячего настолько, чтобы просочиться через вены, ни сгущаться сверх должного и этим мешать собственному бегу по жилам. К тому, чтобы блюсти эту меру, волокна предназначены уже самым своим рождением. Если извлечь их даже из холодеющей крови мертвеца, весь остаток крови разлагается; напротив, если оставить их, они быстро свертывают кровь, оказавшись в союзе с обступившим ее холодом. Таково действие кровяных волокон; они оказывают его и на желчь, которая по своему происхождению являет собой старую кровь, а потом снова становится кровью из плоти. Когда теплая и разжиженная желчь сначала лишь понемногу поступает в жилы, она терпит под действием волокон свертывание и насильственное охлаждение, производя в недрах тела озноб и дрожь. Но стоит ей нахлынуть обильнее, она одолевает волокна своим жаром и, вскипев, приводит их в полный беспорядок; если же сил ее достанет на окончательную победу, она проникает до самого мозга и палит его, как бы сжигая корабельные канаты отчаливающей на волю души. Когда же, напротив, она оказывается слабее, а тело в достаточной мере сопротивляется ее разлагающему действию, поражение достается ей, и тогда она либо распространяется по всему телу, либо бывает отброшена по жилам в верхнюю или нижнюю часть брюшной полости и затем извергнута вон из тела, словно изгнанник из волнуемого смутой города. При своем удалении она производит кишечные расстройства, кровавые поносы и прочие недуги этого рода»[157]. Так говорил Платон в своем «Тимее», следуя Гиппократу. И если бы кто-нибудь решился привести все подобные изречения из других его книг, то показалось бы, что в многословии своем он подражает Юлиану – тем более если бы он взялся привести все изречения Теофраста, Аристотеля, Хрисиппа и всех перипатетиков и стоиков о жаре и холоде, сухости и влажности, желчи и соках, болезни и здоровье. Я полагаю, что некоторые и так осуждают меня за то, что я в столь длинных речах опровергаю ничего не понимающего софиста. Но тот, кто, о Зевс и бессмертные боги, не стыдится возносить хвалу Платону, Аристотелю, Зенону и их последователям и при этом спорить с учением Гиппократа об элементах, из которых состоят тела, – существует ли что-то, чего такой человек постыдится сказать обо всех них?
5. Однако оставим это. Посмотрите, что он пишет далее, не позволяя своим оппонентам, естественно, даже упоминать имя природы. Вот начало его рассуждения: «Они не убедят нас, как убедили себя самих, что в действительности познали, что есть природа – природа, о которой они вопят и поют повсюду, именуя ее то простым теплом, то смесью или сущностью холода и духа». После этого Юлиан приводит еще много обвинений, доказывая, что его оппонентам неизвестна сущность природы: например, он обвиняет Гиппократа в том, что в афоризме, который нам предстоит разобрать далее, он упомянул имя природы, а не написал, что нечто происходит само по себе. Но откуда здесь появилось имя природы? Откуда же еще, как не из пустой болтливости Юлиана, которая порождает длинные речи, – если же кто-то возьмется разобраться в них, он явно изобличит его глупость. Все врачи говорят, что одни очищения происходят благодаря природе, а другие – благодаря случаю, имея в виду, что их причина иногда находится в самом теле больного, а иногда – вне тела. Он же взял это в качестве отправной точки для своего пустословия о слове «природа». Смысл его рассуждения, если изложить его кратко, таков: «Те, кто не знают, что есть природа, не в праве даже упоминать природные очищения». Однако, о благороднейший из софистов, такое рассуждение не позволит допустить, что мы знаем, что у нас есть душа, или чувства, или разум, или память, или умение рассуждать, если мы не постигли их сущность. Однако что в этом удивительного? Ведь мы не знаем точно, какова сущность солнца, видимого нами самым ясным образом, – как же мы можем с готовностью ответить на вопрос о сущности природы, души, памяти или чего-то еще из названного? Но, хотя это мы сказали верно, если мы можем определить значение каждого из этих понятий и обладаем знанием из сущности, это следует вставить в рассуждение. Каждое растение управляется природой, а каждое животное – природой и душой, ведь и все люди называют питание и рост, а также их причину природой, а чувства и вслед за ними движения – душой. Так что никто из нас не заблуждается насчет того, что есть дела природы, но и не постигает сущности их тотчас после того, как узнал их, так же как мы не знаем сущности солнца, но ясно видим его восход и закат, и шествие его между восходом и закатом, когда оно определяет время. Сущность же его мы постигаем лишь по прошествии времени и в результате изучения. Если же природные выделения действительно невозможно постичь, не понимая сущности порождающей их природы, то тот, кто показал, что сущность эта непознаваема, должен немедленно затем признать, что и их он не понимает. А так как наш великолепный Юлиан заявляет, что ее он не знает, а их знает, получается, что все то, что он говорил ранее, – вздор. Ведь мы, когда происходит обильное опорожнение без помощи очистительного лекарства, как через матку, так и через кишечник, говорим, что все это происходит естественно, или вызвано природой (что совершенно одно и то же), и воспроизводим то, что явно приносит пользу больным. Юлиан же, кажется, не знает и того, что все люди говорят каждый день и что все знают, то есть не знает того, что здоровье есть состояние, соответствующее природе, а болезнь – состояние противоестественное. Если же на самом деле нельзя использовать эти наименования, не познав сначала сущность природы, мы не сможем говорить, что состояние здоровых соответствует природе, а состояние больных противно ей.
Однако, если угодно, мы можем согласиться с ним в том, что, если не знать заранее, что наши тела состоят из горячего, холодного, сухого и влажного, мы не сможем хорошо подражать тому, что происходит благодаря природе или случаю. Что же нам мешает точно узнать все это, раз уж у нас есть доказательство нашего учения, и лучшие из философов, которыми и ты восхищаешься, разделяют мнение Гиппократа и согласны друг с другом – разве что кое-кто, решив, что разногласие – это свидетельство незнания, не превратится в апоретика из стоика.
Ведь если это рассуждение кажется тебе убедительным и ты действительно считаешь, что человеческому познанию недоступно все то, по поводу чего разнятся мнения философов, почему ты прежде всего не откажешь в вере своим великолепным обобщениям, которые породил твой до небес превознесенный метод? Ведь никто из других врачей не знает этих истин даже туманно, но явственно постиг их, как он сам считает, лишь Фессал, и, что еще важнее, даже после того, как Фессал постиг все это и разъяснил славнейшему хору своих последователей, из них никто ни с кем не согласен, но они ведут друг с другом еще более яростный спор, чем тот, который Фессал вел со своими соучениками. Итак, если разногласия – это знак неведения, то прежде всего следует отказать в доверии обобщениям Фессала, так как относительно них существуют величайшие разногласия. Разумеется, мнение, согласно которому природа нашего тела представляет собой соразмерное смешение воздуха, огня, воды и земли, и мнение, согласно которому она есть смешение влажного, сухого, горячего и холодного, расходятся между собой. Однако это расхождение не так сильно, как расхождение обоих этих учений с обобщениями Фессала – при том, что прежние учения приняли и Платон, и Зенон, и Аристотель, и Теофраст, и Евдем, и Клеанф, и Хрисипп вместе со многими философами, среди которых называющие себя стоиками, перипатетиками и платониками. А учение Фессала настолько не нашло признания среди других врачей, что с ними не согласны даже те безметодисты, которые прикрываются священным именем метода. Ведь ни Гиппократ, ни Диокл, ни Праксагор, ни Филотим, ни Мнезифей, ни Эрасистрат, ни Герофил, да и никакой другой врач, будь то логик или эмпирик, никогда бы не признал обобщений Фессала.
Итак, если необходимо сравнить разногласия между собой, не найдешь несогласия большего, чем несогласие с идеями Фессала. Притом что всего во врачебном искусстве существует три общих направления, по словам самих принадлежащих к ним врачей, если уж и эмпирики, и догматики отрицают идеи Фессала, то надо понимать, что общее несогласие с ними отнюдь не мало, но непреодолимо, так что даже сам породивший эти общие положения Темизон, а также никто из учеников Фессала, не имеющих метода, не следовал им во всем. Ведь и правда нет никого, кто не добавил бы к этим положениям другие, или не устранил бы какие-то из них, или не изменил бы каким-то образом. А так как во всем этом и сами они не согласны, Фессал остался в одиночестве, потому что его идеи никто не поддерживает, кроме Юлиана, да и тот только на словах. Ведь на деле оказывается, что Юлиан противоречит сам себе. Всякий, кто желает узнать об этом подробнее, может ознакомиться с нашим сочинением «Об учении методистов». Однако, если бы Фессал был единственным, кто говорил бы состязающимся за истину, что критерием является доказательство и согласие с мнениями других, никто бы его не осудил. Но неужели мы не осудим Фессала, который входит в противоречие со всеми прочими врачами, а Гиппократу, в пользу которого, помимо лучших врачей, свидетельствуют величайшие философы, откажем в вере исключительно из-за его расхождений с Фессалом? Кто сможет вынести такое? Кто потерпит такую глупость? Кто не пожалел бы времени, потерянного на спор с человеком, который сам не помнит и не понимает того, что сам пишет, но говорит и пишет, по пословице, все, что на вздорный язык придет?
6. Однако оставим это и послушаем то, что сказано у Фессала в первом рассуждении, в котором он говорит, что источником и корнем разбираемого афоризма является учение о том, что избыток жидкостей «есть общая причина болезней». Лучше здесь привести его рассуждение полностью, его же словами. Написано же у него так (ведь здесь уместно начать спор с ним с первых же его слов): так как афоризм начинается словами «При расстройствах желудка», он заявляет, что и остальная часть афоризма имеет корень и источник в том, что избыток жидкостей приводит к болезням тела как общая причина их, так что если доказать, что причина болезней – не в жидкостях (ведь это ложное мнение), вместе с этим доказывается и негодность всего афоризма, в котором из неясного заявления выводятся ложные следствия. Вот его слова. И было бы прекрасно, если бы можно было создать некий театр – не такой, который строит Фессал в своих вздорных книгах, венчая себя на его сцене, но театр, в зале которого сидели бы люди образованные. И хорошо было бы спросить Юлиана в этом театре, из какого метода доказательства он исходил, когда доказывал истинность своего рассуждения. А доказательство его, если разъяснить как следует, будет вот каким: «Те, кто думает, что опорожнения помогают больным, по необходимости считают, что общей причиной болезней является избыток жидкостей». И мы бы с удовольствием спросили у зрительного зала, состоящего из образованных людей, верно ли такое рассуждение, чтобы пустослов Юлиан почувствовал изумление этой толпы. Он не сможет почувствовать этого из одних только слов, будучи таким человеком, каким он предстает в своих сочинениях. Но я уже сейчас могу сказать, какими аргументами можно было бы хорошо воспользоваться в таком театре. Стадо ослов Фессала делает кровопускание многим больным, страдающим от лихорадки. Если они считают, что причиняют вред опорожнением, то они неправильно поступают, делая кровопускание. Если же они считают, что это полезно, значит, они полагают, что избыток жидкости является общей причиной болезней, а они этого признать не хотят. Но кто-нибудь из них, пожалуй, скажет: «А почему из того, что опорожнения приносят пользу, обязательно следует, что общей причиной болезней является избыток жидкости?» На это ответить проще всего: такой непосредственной связи не существует, и вот этот человек из вашего стада пусть покажет на этого Юлиана и скажет, что лучше бы ему воздержаться от речей, потому что он говорит глупости. Так сказал бы кто-нибудь из них в театре. Ныне же (ведь у нас нет такого театра) почти все совершают одни и те же ошибки в рассуждениях, говорят ли они истину или явно заблуждаются.
Юлиан-то как раз всегда пишет что придется, нимало не заботясь об истине. Я же всю жизнь ни о чем ином так не заботился, как о том, чтобы постигнуть науку доказательства, и с усердием упражнялся в ней, и, кажется, трудился напрасно. Ведь все те, кто следит за ходом доказательств, прекрасно знают, что Юлиан не перестает говорить глупости. А все те, кто принадлежит к его стаду, с самого начала не изучают ничего из того, о чем мы говорим. Именно поэтому, как я уже говорил раньше, друзья задали мне немалую работу, предложив написать это сочинение, и ради них я перейду к более научным рассуждениям. Так вот, Юлиану следовало не только называть имена, обозначающие различные причины, но и понимать смысл этих названий. А вместо этого он (и это одна из общих ошибок всех методистов) называет непосредственную причину, но не понимает, чем она отличается от изначальной причины, иначе бы он знал, что развитие болезней есть дело изначальных причин. Ведь то, что вызвало возникновение болезней, по необходимости вызывает их рост, создавая и далее нечто подобное изначальной болезни. Если так случается, едкое лекарство, способное вызывать язвы, попав на кожу на час, вызовет язвы лишь на так называемом эпидермисе. Если же оно будет приложено на более длительное время, то окажет существенное воздействие сначала на кожу, а затем на находящуюся под ней плоть. Так как предшествующие причины имеют такую природу, уже возникшая болезнь не может быть исцелена, прежде чем они исчезнут. Так как при наличии действующей причины болезнь может усилиться, она, конечно, не может быть полностью вылечена, пока не будет устранено то, что ее создает. Так вот, пока предшествующие причины, к которым относится и избыток жидкости (предположим пока, для этого рассуждения, что он является предшествующей причиной), не будут устранены, невозможно вылечить уже возникшую болезнь, и поэтому Асклепиад думает, что избыток жидкости является причиной болезней, и говорит, что опорожнением можно излечить больных, но не в том смысле, что устраняется болезнь, которую избыток жидкости уже вызвал, а в смысле, что не даст болезни развиваться и позволяет врачу довести лечение до конца.