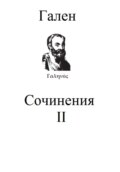Гален
Сочинения. Том 5
8. И опять мне не нужны последователи Эрасистрата со своими пустыми разглагольствованиями о том, почему больным лихорадкой нужно давать пищу, так как у меня есть рассуждения самого Эрасистрата, о которых я уже упоминал ранее. Так, в третьей книге «О лихорадках» он описывает воспаления, возникающие из-за избытка крови, а в первой книге сочинения «О ранах» многократно говорит, что голодание помогает избавить вены от излишка старой крови, чтобы затем они наполнились новой кровью. Итак, что же он пишет? «С этим согласуется и то, что раненым, если у них имеется воспаление, нельзя давать пищу. Ведь вены, опустошенные от питательных веществ, с большей легкостью примут кровь из артерий». Итак, согласно Эрасистрату, голодание может излечить воспаление постольку, поскольку является средством опустошения вен. Ведь он говорит, что голодание при воспалении стало обычной практикой не по какой-то иной причине, а из-за того, что опустошенные вены с большей легкостью примут кровь из артерий. Но зачем же, скажите, ради богов, заставлять больного долго страдать, когда вены можно опустошить быстро и легко – посредством вскрытия? Поэтому я не понимаю, как Эрасистрат, не войдя в противоречие с самим собой, может утверждать следующее: «Я не вскрываю вен для того, чтобы у больного хватило сил на голодание, которое прописывается при воспалении». А зачем ты заставляешь больного, страдающего воспалением, голодать? Для того, чтобы опустошить вены от крови? Тогда почему бы тебе не вскрыть больному вены с самого начала? Эрасистрат запутался настолько, что мне его жалко. Он вступает в противоречие не только с явлениями, наблюдаемыми в медицинской практике, но и со своими собственными словами. Кроме того, он, оказывается, не знает, для какой цели применяется голодание, хотя об этом подробно и ясно писал еще Проксагор, не говоря уже о Гиппократе и Диокле. И уже Праксагор не был столь наивен, чтобы полагать, что голодание используется для опустошения вен и что это и есть единственное его применение. Ради Зевса, объясните, почему, если необходимо избавиться от лишней крови, надо прибегать к самому слабому из средств, ведущих к этому, отвергая средства, которые могли бы быстро привести к желаемой им цели? Но даже если допустить, что при ранах воспаление надо лечить так же, как и при полнокровии, что мы будем делать с избытком крови, еще остающимся в венах и растягивающим их? А что мы будем делать, если этот излишек крови попадет в артерии? Мне всегда казалось, что нет ничего естественнее, чем вывести избыток вещества из вен с помощью их вскрытия. Неужели даже в том случае, когда избыток крови поднимется к груди и возникнет опасность разрыва какого-либо сосуда, он будет не вскрывать вены, а перевязывать конечности шерстяными повязками? Оказывается, для Эрасистрата достаточно ограничиться только перевязками! О боги! Если уж ты собираешься использовать средство, отводящее лишнюю жидкость, неужели ты не понимаешь, что вскрытием вен это достигается гораздо лучше, чем сложными перевязками? В самом деле, мне удавалось посредством вскрытия вен избавить многих больных даже от непрерывных кровотечений. Но Эрасистрату, я думаю, такие вещи не были известны. Ведь для того, чтобы понимать, какую вену следует вскрывать при каком виде кровотечений, необходимы глубокие специальные познания. Итак, поскольку именно это средство в наибольшей степени достигает того, что тебе нужно, то есть опустошения и оттягивания жидкости, зачем тебе еще терять время и мучить больного, когда можно одним действием избежать и разрыва сосудов, и следующего за ним воспаления, и голодания, которое назначается, чтобы излечить это воспаление? Ведь, если разрыв сосудов обусловлен их переполнением, устранив причину, можно предотвратить и последствия, а предотвратив разрыв, предотвратишь и воспаление, и в таком случае в голодании не будет нужды. Но ты, как мне кажется, так любишь назначать голодание, что целенаправленно вызываешь состояния, требующие таких назначений. Что страшного в методе лечения, который удаляет причиняющее страдание вещество, не вызывая при этом никаких осложнений?
Но мне кажется, что я зря утруждаю себя, когда можно напомнить тебе твои собственные слова. Не сам ли ты говорил об этом в первой книге сочинения «О здоровье», в том месте, где, сначала описав причины избытка крови в сосудах, затем говоришь о лечении этого состояния, заявляя, что цель всех этих способов – опустошение сосудов? Там ты писал, что одним больным помогают одни средства, а другим – другие. Для устранения «переполнения», как ты решил называть избыток веществ в венах, ты рекомендуешь физические упражнения, многочисленные омовения и облегченное питание. Однако не всем, по твоим словам, подходят одни и те же опустошающие средства, там как не все привычны к одним и тем же средствам, но одним привычнее омовения, другим – упражнения, третьим – вызывание рвоты после принятия пищи, так же как не все подвержены одним и тем же болезням, но одни – эпилепсии, другие – кровохарканью, а третьи – заболеваниям печени и селезенки. Так вот, ты говоришь, и говоришь правильно, что эпилептика не следует лечить от излишнего полнокровия с помощью водных процедур и омовений, а того, у кого есть опасность разрыва внутренних сосудов, – с помощью гимнастических упражнений. Ведь напряжение, вызываемое гимнастическими упражнениями, создает опасность разрыва сосудов под грудной клеткой просто при их слабости, безо всякого переполнения. Но с тем, что лишнюю жидкость надо выводить, соглашаешься и ты. У нас есть следующие опустошающие средства: упражнения, омовения, облегченное питание. Но занятия гимнастикой ты и сам не рекомендуешь. О том, стоит ли рекомендовать пациентам в таком состоянии пользоваться банями, ты не говоришь ничего. Я скажу о том, что подтверждено наблюдениями и опытом, и если позволено будет гадать о твоем мнении, то и ты, полагаю, придерживался тех же взглядов. Ведь и ты сам в сочинении «О кровотечении» рекомендуешь использовать для оттягивания избыточной жидкости перетяжки конечностей и голодание и при этом не рекомендуешь пользоваться водными процедурами для опустошения сосудов. Думается мне, ты избегаешь применять водные процедуры, если сосуд уже разорван, раз ты говоришь, что даже при возможности разрыва применять эти процедуры не следует. Даже если ты и не знал об этом, мне было бы достаточно результатов наблюдений. Ведь при любом кровотечении бани очень опасны, и причина этого очевидна: при нагревании кровь превращается в пар и газ, при этом приходя в движение и увеличиваясь в объеме. Кроме того, при горячих водных процедурах ткани становятся мягкими и слабыми. Как же им при этом не пострадать, если, с одной стороны, они стали более мягкими, а с другой – то, что может их разорвать, увеличилось в объеме и стало подвижнее? Именно по этой причине мы не используем горячие бани в качестве опустошающего средства для больных, у которых есть опасность разрыва вен из-за избытка крови. Теперь обратимся к оставшемуся третьему способу опустошения вен – к облегченной диете. Давайте выясним, что это такое, на примере трех видов этой диеты, указанных Эрасистратом. Первое – это скудная и нежирная пища. Второе – отсутствие всякой пище вообще. Третье – вызывание рвоты после еды. Ну, посмотрим теперь, как мы будем пользоваться такой облегченной диетой? Может, порекомендуем больному вызывать рвоту после еды? Но мы уже отказались от гимнастических упражнений из-за вызываемого ими напряжения; как же мы порекомендуем вызывание рвоты, которое сопровождается не меньшим напряжением? Ведь это очевидно даже для несведущего в медицине человека. Следовательно, нам остается или предписать полное голодание, или все же давать больному немного нежирной пищи. В последнем случае, даже если пища питает немного, она все же дает питательные вещества. А нам нужно не прибавлять, а убавлять количество вещества в сосудах. Итак, нам осталось прибегнуть, как к последнему якорю спасения, к средству скверному и мучительному – морить больного голодом. И после этого мы еще высмеиваем Аполлония и Дексиппа за то, что они морили голодом больных… Но я хотел бы напомнить тебе, что ты учил именно этому. Ведь ты и сам, как мне кажется, понимаешь, что голодание – не средство выведения лишнего вещества. Сначала я докажу свое положение, а затем приведу твои собственные свидетельства. Отсутствие пищи не принадлежит к разряду вещей сущих, так же как слепота или глухота: все это есть отсутствие чего-либо. Питание принадлежит к разряду вещей сущих, и назначение этой вещи – поступление в организм питательных веществ. Отсутствие же питания и само не является чем-то сущим, и назначение его ты не сможешь определить, как определяешь назначение потения, вскрытия вен и клизмы, то есть опорожнение, или назначение пищи, то есть питание. Так вот, голодание есть середина между тем и другим, то есть между опорожнением и питанием. Само по себе оно не питает и не опорожняет. Тогда почему, задает вопрос Эрасистрат, многие умирают от недостатка пищи? По нашему мнению, они умирают не от отсутствия пищи, иначе звери, которые зимуют в норах, не могли бы обходиться без пищи. Однако они обходятся без пищи, и Эрасистрат сам объясняет каким образом. Он говорит следующее: всякое живое существо способно дышать через поверхность тела, одно в большей степени, другое в меньшей, в зависимости от того, насколько пориста у них эта поверхность.
Существуют различные причины, увеличивающие или уменьшающие эту пористость, и не в последнюю очередь это состояние тела – теплота, холод, покой или движение. Когда окружающий воздух горяч, выделение через поверхность тела происходит наиболее интенсивно. При холодном воздухе и неподвижности животного поверхность его тела уплотняется и испарений через нее не происходит или они наблюдаются в малой степени. По этой причине зимующие и живущие в норах животные не нуждаются в пище. Их тело, находящееся в покое, становится холодным и вялым, а внешняя поверхность тела затвердевает от холода, поэтому в течение всей зимовки через поверхность ничего не выделяется. Так как не происходит никакого выделения, ничто и не нуждается в восполнении. Ведь это и есть функция питания, а животные нуждаются в питании, чтобы восполнить опорожнение. Итак, очевидно, что причина этой потребности – выделение с поверхности тела и необходимость восполнить выделенное пищей. Когда же устранена причина, по которой животное нуждалось в пище, то и сама потребность пропадает. Поэтому животные не нуждаются в пище во время зимней спячки, как не нуждаются в это время и в поступлении питательных веществ. Таким образом, совершенно очевидно, что не голодание является причиной опустошения, а пористость поверхности тела. Если же ты уплотнишь ее посредством холода и покоя, то какая польза будет от голодания? И, разумеется, если у пациента есть риск кровохарканья, надо остерегаться и физических упражнений, и любого перегрева тела. Ведь напряжение часто приводит к разрыву вен, то же относится к нагреванию и омовению. Итак, не нагревая тела, ты не выведешь из него лишнего вещества, а нагревая, упражнениями или омовениями, нанесешь большой вред, вызвав риск разрыва вен. Что же нам остается посоветовать таким больным, ведь голодание не может быть средством опорожнения без физических упражнений или разогрева тела в бане? Я думаю, следует, наконец, прибегнуть к вскрытию вен как к сильному средству очищения. Воистину, удивительно обилие способов опорожнения, которые можно применить вместо голодания. Использование одного этого метода мало помогает в нашем случае, ведь он не ведет к опорожнению. Если же использовать его в сочетании с другими методами, которые по природе своей приводят к опорожнению, то причиняемый таким лечением вред превысит пользу, приносимую опорожнением.
Комментарий
Трактат «О вскрытии вен, против Эрасистрата» небольшой, но крайне важный для Галена. Есть еще одно произведение, схожее по названию и смыслу, – «О вскрытии вен, против последователей Эрасистрата, живущих в Риме»[126]. Оба этих текста являются ценными источниками, так как в них, во-первых, представлен подробный рассказ об одной из важнейших составляющих клинической практики Галена и, во-вторых, содержатся сведения о взглядах Эрасистрата.
В начале сочинения «О вскрытии вен, против Эрасистрата» Гален говорит о том, что знаменитый александрийский врач не пользовался венотомией и никогда не описывал этот метод в своих трудах. Это заявление Галена может показаться довольно вызывающим, ведь он сам делает оговорку: Эрасистрат игнорирует венотомию, несмотря на то что «данный способ лечения, наряду с другими серьезными лечебными методами, был в большом почете у его предшественников» (1, 147 К).
Гален утверждает: «Почти ни в одном из его сочинений нельзя найти даже термин “вскрытие вен”. Лишь один раз он упоминает о нем вскользь, в труде “О кровотечении”» (1, 148 К). Обратим внимание, что Гален называет сочинение Эрасистрата, в котором тот все-таки говорит о венотомии. Далее великий римский врач поясняет, что к венотомии Эрасистрат относится негативно: он рекомендует врачам, желающим воспользоваться этим методом, отказаться от своих намерений и наложить давящие повязки, например, в области подмышек и в паху. Гален приводит слова Эрасистрата: «Ведь в перетянутых частях тела задерживается значительное количество крови, подтверждение чему можно наблюдать при растяжении и вскрытии вен: ведь кровь течет значительно обильнее, если часть тела, на которой производится вскрытие вены, перевязана. Если же пациент страдает кровохарканьем или кровавой рвотой, большое количество крови можно задержать в голенях и предплечьях посредством перевязки. В результате, когда кровь оттекает из области груди, кровотечение становится значительно слабее» (1, 148 К).
Гален приводит слова Эрасистрата и указывает источник – его сочинение «О кровотечении». Сознательное искажение Галеном идей Эрасистрата в этом случае маловероятно – он рисковал бы быть обвиненным во лжи. В этом отрывке упоминается Хрисипп Книдский, который не считает венотомию методом выбора, так как пациент может быть истощен, а вскрытие вен лишь усугубит его состояние.
Далее Гален указывает на мнения своих знаменитых предшественников – Гиппократа и его последователей Диокла и Эврифонта, которые не только применяли венотомию, но и исцеляли с ее помощью очень тяжелых больных. Здесь Гален обходится без цитат и подробного описания теории, однако в том, что Гиппократ не отрицал значения венотомии, нетрудно убедиться на основе даже тех источников, которые дошли до историков, живущих в XXI в.
Гален настаивает: «На деле Эрасистрат настолько далек от признания пользы вскрытия вен, что он ничего не говорит о том, надо им пользоваться или все же не стоит, да и вообще не решается изложить свое мнение о нем, если не считать, как я уже говорил, единственного упоминания при описании лечения одной болезни. Однако его молчание выдает его главную мысль: он не обошел бы молчанием метод, который одобряет» (1, 150 К). И это несмотря на то, что его знаменитые предшественники и современники высоко оценивали и широко использовали венотомию. Это утверждение могло бы показаться сомнительным, если бы Эрасистрат был единственным критиком рассечения вен. Однако Гален указывает, что существовала целая группа известных врачей, современников Эрасистрата, которые придерживались такого же мнения: он упоминает Хрисиппа Книдского, Апоймата и Стратона.
Аргументы этих врачей касались двух моментов: технической сложности вмешательства и возможности причинить вред здоровью пациента, существенно превышающий пользу от самой венотомии. Гален формулирует темы для дискуссии следующим образом: «Ведь чем, спрашивают они, чрезмерное кровопускание отличается от разбойного нападения с ножом на беззащитного человека? Другие же утверждают, что при этой процедуре пневма попадает из артерий в вены, так как она заполняет опустошаемые от крови вены. По мнению третьих, когда воспаление поражает артерии, из вен выходит слишком много крови» (2, 152 К).
Гален подчеркивает, что у сторонников венотомии для применения данного метода имеется теоретическое обоснование, однако считает: их «аргументы звучали бы убедительнее, если бы они утверждали то, что говорят некоторые другие врачи, исходящие из природы жидкостей» (2, 152 К).
Гален переходит непосредственно к изложению мыслей Эрасистрата – цитирует значительный по объему отрывок из одного из его произведений, название которого Гален не указывает. Однако можно предположить, что это трактат «О кровотечении». Благодаря Галену современные читатели имеют возможность составить представление о взглядах Эрасистрата на основе фрагментов из его работ, ни одна из которых не сохранилась. Ввиду важности этого отрывка воспроизведу его полностью: «Эрасистрат полагает: “Сосудом для пневмы служит артерия, а для крови – вена, кроме того, самые большие сосуды всегда разделяются на более мелкие. При этом мелких сосудов бывает значительно больше, чем крупных. Сосуды, разделяясь, пронизывают все тело так, что не остается места, где бы не было окончания сосуда. Концы сосудов настолько узки, что не позволяют вылиться содержащейся в них крови. Из-за этого, хотя устья вен и артерий смыкаются, кровь остается в венах и не проникает в сосуды с пневмой. Так бывает, если живое существо находится в своем естественном состоянии. Если же какая-либо причина заставляет кровь перетекать из вен в артерии, то это ведет к болезни. Существуют и другие причины, в том числе и полнота крови в сосудах, из-за которых оболочка вены растягивается, закрытые ранее концы вен открываются, и кровь перетекает в артерии, где она сталкивается с пневмой. Если столкнувшись с пневмой, движимой сердцем, она заставит ее изменить направление движения и окажется возле начала своего движения, то возникнет лихорадка. А если она, отталкиваемая пневмой, скопится в концах артерий, возникнет воспаление. Итак, в большинстве случаев воспаление возникает по этой причине”. Причиной воспаления при ранах он также считает попадание крови из вен в артерии, но в этом случае объясняет его стремлением природы заполнить пустоту. “При ранении, – говорит он, – пневма выходит из разорванных артерий, и возникает опасность их опустошения. Так как устья вен и артерий сливаются, пустое пространство заполняет кровь. Следовательно, если из артерий уходит пневма, туда перетекает кровь. Итак, когда пневма открывает проход крови, она изливается, а когда проход вновь закрывается, кровь под давлением пневмы, которую посылает сердце, скапливается в месте раны, отчего и возникает воспаление”» (3, 153–154 К).
Гален продолжает: «Что ж, предположим, что Эрасистрат правильно определил причины возникновения жара и воспалений, хотя в других сочинениях мы показали, что он заблуждается» (3, 155 К).
Цитируемый Галеном отрывок начинается с утверждения, согласно которому Эрасистрат полагал, что в артериях циркулирует пневма, а в венах – кровь. Известно, что Гален, вслед за Герофилом, считал, что артерии содержат кровь и один из видов пневмы – жизненный дух, образование которого великий римский врач связывал с деятельностью средней части души, локализующейся в сердце. Здесь констатируется еще одно очень важное расхождение во взглядах между Герофилом и Эрасистратом, ставящее под сомнение широко распространенное мнение о том, что Эрасистрат (как и Герофил) имел значительный опыт проведения вивисекций: при выполнении этой манипуляции очевидно артериальное кровотечение (оно не может не наблюдаться при пересечении магистральных сосудов).
В чем же тогда Гален может быть согласен с Эрасистратом? Главное здесь – тезис о том, что при кровотечении возникает воспаление. Эрасистрат видит причину в перетекании крови в артерии вследствие повреждений обоих видов сосудов (не следует забывать, что для Эрасистрата в норме есть только один вид крови – венозная). Переток крови в вены – явление патологическое, обусловливающее дополнительный проблемный фактор в виде давления пневмы (в норме содержащейся в артериях) на кровь (попавшую в артерии из венозного русла вследствие повреждения). Следствием этого является возникновение местной плеторы, локальное переполнение части тела кровью, ее застой и воспаление. Гален, понимая, что кровь содержится и в артериях, и в венах, принимает тезис Эрасистрата о локальном переполнении, застое и воспалении – несмотря на разницу теоретических взглядов, практические, местные последствия они видят одинаково.
Однако есть еще одна причина, приводящая к развитию воспаления: «Эрасистрат считает, что воспаления могут возникать не только из-за ран, но и по причине избытка пищи» (3, 155 К). Для иллюстрации этого суждения Гален приводит еще одну цитату из Эрасистрата, добросовестно ссылаясь на ее источник – третью книгу трактата «О лихорадках»: «При начале болезней и возникновении воспалений необходимо прекратить давать больному пищу, поскольку воспаление происходит из-за избытка питательных веществ. Если в такой момент больной дополнительно получит пищу, она в результате процесса пищеварения окажет соответствующее воздействие на тело, так что сосуды наполнятся пищей, и воспаление станет еще более сильным» (3, 155 К).
Именно при знакомстве с этим отрывком из трактата «О вскрытии вен, против Эрасистрата» становится понятна логика Эрасистрата. Даже если причиной кровотечения является повреждение, пища остается источником образования все новых объемов крови. Здесь Эрасистрат не противоречит большинству популярных тогда натурфилософских теорий, ведь еще Платон считал печень гемопоэтическим органом, преобразующим употребляемые в пищу вещества в кровь. Раз это так, то, по мнению Эрасистрата, питание больного следует ограничить.
Гален справедливо указывает на то, что Эрасистрат и его последователи попадают в ими же созданную логическую ловушку: пациента с воспалением кормить не надо, но организм его ослабевает, а риск венотомии – в моментальной реакции ослабленного организма (вплоть до летального исхода). Именно поэтому они приходят к заключению, что при воспалении не следует делать венотомию, а показаны голодание и повязки: «Итак, сам Эрасистрат согласен с тем, что следует избавиться от переполнения вен, так как иначе они, будучи заполненными, не смогут принять в себя кровь обратно, вопрос лишь в том, как следует опустошать вены. Мне, со своей стороны, кажется, что, раз уж мы согласились, что надо опустошать вены, самый простой и естественный способ сделать это – вскрытие вен. Ведь этот способ самый быстрый, а кроме того, при нем удаляется лишь то, что вызывает воспаление, тогда как голодание занимает много времени и приводит к истощению всего организма, чего в данном случае не требуется» (3–4, 156 К).
Далее Гален высказывает в адрес Эрасистрата много критических замечаний оценочного характера. Они эмоциональны, но практически не содержат фактов. Заслуживает внимания положение общетеоретического характера, высказываемое Галеном со ссылкой на Гиппократа: «Но если даже ты [Эрасистрат. – Д.Б.] не наблюдал больных сам, то мог бы узнать, прочтя Гиппократа, как происходит разрешение болезни, когда природа действует полно и безупречно, или, как он сам говорит, совершенно, как наилучшим образом подражать ей, когда она сама не ведет болезнь к разрешению, и как помочь ей, когда она ведет болезнь к разрешению, однако ее усилий недостаточно» (4, 159–160 К). Затем Гален приводит несколько примеров того, как Гиппократ применял этот принцип на практике.
Сильной стороной сочинений Галена, посвященных клиническим проблемам, всегда является концентрация автора на вопросах практики. Он всегда приводит конкретные примеры и очень аккуратен в деталях – любой врач, читавший его произведения, мог использовать их в качестве практического пособия.
Описание случаев применения венотомии в данном сочинении – яркая иллюстрация такого подхода. Ранее я уже обращал внимание читателя на снисходительный и излишне высокомерный тон, который часто встречается в отечественной историографии по отношению к кровопусканию. Однако отмечу, что Гален советовал вскрывать не вену вообще, а производить вмешательство на конкретном сосуде, с учетом топографии венозного русла в целом и расположения конкретной вены по отношению к очагу воспаления. Гален подчеркивает, что этот принцип был сформулирован еще Гиппократом: «“Однако при боли в ключице и при чувстве тяжести в плече, около соска или над грудобрюшной преградой следует рассечь внутреннюю вену в изгибе локтя и не страшиться вызвать сильное кровотечение, даже если кровь через некоторое время станет более красной или вместо чистой и красной – темной, ибо и то и другое случается. Если же боль наблюдается под диафрагмой, а не в ключице, должно размягчить желудок черной чемерицей или пеплионом”. В свою очередь, описывая определенное сочетание почечных симптомов, он [Гиппократ. – Д.Б.] вначале говорит: “Боль отягощает и почку… Наблюдается оцепенение бедра со стороны пораженной почки”. Затем добавляет рекомендацию “пускать кровь под коленкой”, то есть рассечь вену под коленкой» (5, 160–161 К).
Гален упоминает о положительном отношении к венотомии знаменитых врачей прошлого: «Я хорошо знаю, что такие врачи, как Диокл, Плейстоник, Диевхес, Мнесифей, Праксагор, Филотим, Герофил и Асклепиад, прибегали к вскрытию вен». Очень интересно следующее замечание Галена: «Да, это касается даже Асклепиада, который был таким любителем поспорить, что стремился ниспровергнуть все прежние медицинские учения и не щадил никого из своих предшественников, в том числе и Гиппократа. В своих обличениях он дошел до того, что называл врачебное искусство древних подготовкой к смерти. Но даже он не дошел до такого бесстыдства, чтобы отважиться совершенно исключить вскрытие вен из врачебной практики» (5, 163 К).
Иными словами, отец-основатель школы врачей-методистов не отвергал метод венотомии. Более того, Гален подчеркивает благосклонное отношение к данному методу наиболее видных врачей-пневматиков – Афинея, Агатина и Архигена, а также то, что среди врачей-эмпириков не было системной оппозиции клиническому использованию венотомии. Это объясняет весь ход дискуссии – не все методисты, современники Галена, отрицательно относились к рассечению вен. Повидимому, среди этих врачей существовало определенное направление, представители которого в определенных вопросах руководствовались именно идеями Эрасистрата. Это объясняет тот факт, что критика Галена адресована не всем врачам-методистам, а тем из них, которые называли себя последователями Эрасистрата.
Кровопускание для Галена – это избавление от излишней крови, подобное менструации: «У тех женщин, у которых своевременно происходят месячные, не бывает ни апоплексического удара, ни апноэ, ни потери голоса» (5, 165 К). Женщина находится в более выгодном положении, ведь «ни одна женщина не страдает ни артритом, ни плевритом, ни подагрой, ни пневмонией, если у нее надлежащим образом происходят месячные очищения». Более того: «А видел ли ты когда-нибудь женщину, у которой ежемесячные выделения происходят надлежащим образом, в состоянии черной меланхолии, или в припадке безумия, или харкающую кровью, или с кровавой рвотой из желудка, или страдающую головными болями либо приступами удушья, да и вообще страдающую той или иной тяжелой болезнью? Однако если у женщины происходит задержка месячных, ее немедленно поражают всяческие недуги» (5, 165–166 К).
Гален видит проблему в патогенетическом ключе: нарушение баланса жидкостей приводит к переполнению. Устранив его, врач избавляет больного от большого числа рисков: «Но оставим женщин и обратимся к мужчинам. Узнай же, что те из них, которые из-за кровотечений регулярно избавляются от лишней крови, не болеют, а те, у кого таких опорожнений не происходит, заболевают тяжелейшими недугами. Неужели ты и таким мужчинам не будешь делать кровопусканий, даже если они заболеют воспалением легких? Или ты будешь стоять и наблюдать, как эти люди умирают, только для того, чтобы не отказываться от своих ложных убеждений? Скорее всего, ты так и поступишь! Я же много раз вылечивал с помощью кровопускания не только это заболевание, но и судороги, и даже водянку» (5, 166 К).
Кровопускания и менструации, характеризуемые Галеном как способы естественного избавления от излишка крови, трактуются великим римским врачом в свете принципа Гиппократа «лечить противоположное противоположным»: «Кто же не знает, что противоположное лечится противоположным? Ведь это не только мысль Гиппократа – так думают все люди. Но мне кажется, что тебя[127] тщеславное стремление полемизировать с Гиппократом сделало безумнее всех прочих живых существ. Ведь все они, руководствуясь природой, каждый день лечат голод пищей, переполнение – опустошением, переохлаждение – теплом, а жар – охлаждением. Чем же иным является пища, если не возмещением какого-либо недостатка в организме? Что есть выделение экскрементов, как не удаление излишка вещества из прямой кишки? Что есть мочеиспускание, как не естественное лечение переполнения мочевого пузыря?» (6, 167 К).
Гален подчеркивает преемственность своих взглядов на венотомию и взглядов Гиппократа, который обозначил закономерный принцип произведения венотомии: вскрывается крупная вена, ближайшая к воспаленному органу. «Ближайшая» в данном случае означает не только анатомическую, но и функциональную близость: вскрытие конкретной вены должно обеспечить необходимый объем оттока жидкости из воспаленной ткани. Вместе с тем надо понимать, что свои идеи относительно венотомии Гиппократ формулировал в значительной степени эмпирически, исходя из уровня анатомических знаний своей эпохи.
Например, во время написания «Корпуса Гиппократа» врачи еще не вполне разделяли венозную и артериальную части кровеносной системы. «φλέβες» в текстах «Корпуса» – это кровеносные сосуды «вообще», четкое разделение их на вены («φλέβες») и артерии («ἀρτηρία») было предложено Праксагором, а определенная разница в анатомическом строении тех и других описана еще позже. Гален основывается на идеях Гиппократа, однако он самостоятельно формулирует практические аспекты применения венотомии, имея более глубокие познания в анатомии и общей патологии: «Так вот, утверждение о том, что если опасность для здоровья вызвана избытком крови, то следует удалить излишнюю кровь, – это, как я сказал, слишком просто и очевидно для высокого гиппократовского искусства медицины. А хотелось бы мне поговорить о том, каким образом следует производить вскрытие вен, в какое время и до какой степени удалять лишнюю кровь. Необходимо знать, когда надо вскрывать вену на лбу, когда – вены в углах глаз или под языком, а когда – так называемую плечевую вену. Также надо знать, как вскрывать вены под мышками, под коленями или возле лодыжки. Всему этому учит нас Гиппократ, и именно это я считаю подлинной врачебной наукой» (6, 168–169 К).