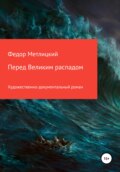Федор Федорович Метлицкий
Родом из шестидесятых
Снова вспоминал мое "райское" детство, поселок Гроссевичи, по имени первопроходца, и бухту, постоянно сияющую над прибрежным городком-портом Находка. И предгорье Кавказа, где мать собирала орехи "чинарики", чтобы не умереть с голоду. О чем думал тогда, и почему закидал жизнь свою хламом случайных встреч, и даже любовь превратил в горечь, словно в это беззащитное нанесли страшный удар.
15
Мы с Ириной бродили вечером по продуваемым ветром улицам, мимо неуютных «сталинских» домов, задуманных не для жилья, а для лицезрения на проходящих перед ними парадных торжеств. Она собирается ехать с мужем к оставленной у родителей дочери Даше, и, по обыкновению, рубит прямо:
– Час с ребенком – еще весело, но целый день с глупеньким созданием – мука! Я понимаю твою жену. Если бы мое дитя было бесконечно со мной, и муж оставлял меня одну, делая карьеру – я бы тоже извела своего мужа. Это все интеллигентные жены так: "А я разве жить не хочу, делать карьеру?"
– А я хотел бы всегда находиться в детской чистоте.
– Какой ты милый мальчик! Но ничего не поделаешь. Ты должен поставить себя перед твоими женщинами. Убеди, что важным делом занят. Как мой муж меня убедил. Мои родители – он заявится раз в неделю, они: "Наконец, Боренька от своих государственных дел освободился". А он – баклуши бил. Правда, и я его ореол перед предками создавала…
– Как поставить себя, когда только ищу, и нет результата? – с горечью размышлял я. – Женщины любят успешных, и не понимают, что успеха может и не быть за всю жизнь…
Ирина рассказывала, как в Германии практику по немецкому проходила. Боялась, поезд увезет в Западную Германию.
– Поражаешься, до чего они культурнее, и мятых сумок не встретишь. А в Западной – поражаешься, до чего там культурнее, чем в Восточной. В Западном Берлине – огни, музыка, а в Восточном – темно, и люди серые.
Приютиться нам было негде, не в семьях же. В гостиницах, контролируемых органами, злые, как церберы, горничные не то что не могли предоставить номер, но вылавливали граждан, нарушающих моральную чистоту строителей коммунизма, и немедленно докладывали куда надо.
____
Приехал электричкой на дачу поздно.
Там были подруга Валя с новым мужем, ее кандидат наук поизмывался над ней и слинял.
Ее новый муж, добродушный мордатый шофер, покорный друг дома, молчит, пялит глаза на жену с обожанием. Она сидит отстраненно. На мою издевку: счастлив ли он? Он просиял: «Совершенно счастлив".
На кухне она извинялась:
–Надо же как-то устраивать свою жизнь.
Когда они уехали, любезность Кати как рукой сняло.
– Где был? Уже десять вечера, а ты был с трех свободен.
Я обрадовался.
– Я тебе еще нужен? Я не как твой кумир, бывший Валькин обожженный, она была ему не нужна.
– Вы похожи с обожженным. Он вначале говорил, что его не понимает его жена Валя. В смысле, мало спит с ним.
Она улыбнулась, помягчела.
– Он как-то не застал жену вечером и написал записку в стихах: «Я устал тебя ждать, ухожу гулять Хамство издеваться, да еще стихами. Ты что улыбаешься?
– А я тебе напишу: "Если ты меня придумала, быть таким я не смогу".
Я вышел на крыльцо. В полутьме ровные грядки клубники.
Она вышла тоже.
– Испортил вечер. Ну, сказал бы, что не приедешь, мы бы остались в городе.
– Трудился.
– Языком, болтая с друзьями?
– Над собой.
Она повеселела и торжественно объявила:
– Я тоже начинаю гулять. Тем более, есть с кем. Не спрашивай, куда иду, и когда приду. Хватит с меня все время думать, где ты находишься.
Мне снова стало больно, что меня не любят.
Залез к себе наверх. В окно бьют мотыли. Холодно, а я в "слипах" Разболелось колено. В постели читал Хэма, чувствуя тревогу, что теряю время.
Она пришла ко мне наверх.
– Ну, что? Тебе класть твои вещи направо, а наши – налево? А молоко, что купил, можно попить? Слушай, а где ты будешь справлять свои сексуальные потребности?
– В твоей постели.
– Ха-ха. А мне функции жены исполнять, или уже нет?
Села на колени, целуя гордого, мотающего мордой, чтобы хоть глазом читать книгу.
Потом говорили о Светке.
– У нас с тобой разные взгляды на воспитание. Ты целиком отдаешься, а я нет, не нужно, считаю.
– Она слишком неразвита сейчас, для своего возраста.
– Разовьется и без нас. Флобер, вон, в десять лет еле читал. Жизнь воспитывает, и нужно помогать только жизни. А если самому браться – сил не хватит. Хотя, хорошо бы, конечно.
– Я в обиде на мать, – вздохнула она. – Мной не занималась в ее возрасте. И много пробелов. И у тебя их немало, тебя не воспитывали, и это жить мешает.
Утром копал вываленный у забора навоз под яблони, до обеда. И снова копал – до вечера.
Она, молчаливая, подогрела на газе обед.
Ели молча. Светлана лезла между нами.
– Мама, а почему ты Ефимовой была?
– Вышла замуж за папу, и стала Петровой, – смягчилась она.
– А меня не было совсем?
– Не было. Совсем не было.
– А когда вы меня завели? Когда ты сходила замуж за папу?
Для нее это была фантастика. Впрочем, и для нас тоже.
16
Встретился с Валеркой Тамариным. Он объявил:
– Фу, наконец, развожусь с женой. Вот только жить негде.
Вытянул из сумки свое приданое – бумаги, которые забрал с собой.
– Во, разве плохо? – тыльной стороной руки хлопал по своим материалам из разных газет. – Там интервью с артистами, приезжавшими в Харьков. О первом комсомольце Харькова, и так далее.
– А что, разве плохо? А это – ведь глядится?
Потом пошла его розовая юность – вынимал бумаги и фотографии. Вот он – первокурсник, декан общественного университета молодежи, а вот высказывания декана в больших газетах. Потом – корочки всех цветов.
– Во, де-кан, видишь? Во – путевка в Донбасс. Во! Ну это так – пропуск в общежитие. Во! Студбилет, а по нему тушью "Разрешается посещать все студенческие общежития Харькова". Понял?
Зашли в "стекляшку" на Волхонке. В "стекляшке" обмывали издание книжки о юбилее какого-то института с участием "литературных негров" Коли Кутькова и Бати. Коля показал на страницах свои вкрапленные четверостишия, а Батя – его предисловие, набранное петитом.
К нам присоединился знакомый Коли "стихийный" поэт в мятой шапке, с журналом "День поэзии" подмышкой.
– Гад буду, сам Светлов подписал, – тыкал в обложку он: – "И поэты, и энергетики, Все мы работники этики. М Светлов". Это мы пили вместе, гад буду, пьяный подписал.
Мы потешались, умоляли почитать его вирши. Он стал в позу, со стаканом "солнцедара".
А в пруду кричат лягушки,
Раздается ихне «ква».
Удовольствие мне было
Не одно, а целых два.
– Вот что значит народное утробное мычание! – восторгался Коля. – Какая сермяжная сила!
Поэт смотрел отстраненно, как непризнанный гений.
Трезвый Гена Чемоданов излагал что-то из своей теории. Коммунизм – это нравственная, моральная категория. Любая власть – насилие. У Пастернака в "Докторе Живаго" – отношение личности к революции. Он говорит: революция – да. А что делать, если она личности не нужна?
Матюнин насторожился:
– Интеллигентская психология! Вот, рассказ, где бывший фронтовик в мирной жизни надломился. Неужели наши герои, презирающие опасность, стали вот такими, с бегающими глазами? Разве так? Разве это правда характера? Фу, гадость!
Юра своим уверенным говорком юмориста:
– Вот Кочетов в своем "Чего же ты хочешь?" изобразил героя-коммуниста в постели: "Что дороже – жена или партия?» Что же, вы думаете?
И торжественно ответил:
– Партия. Это после того, как жена его удовлетворила.
Гена сурово отвечал:
– Как только задумывается образ положительного героя – ищи идеологические ходули.
– Чепуха! – злился Матюнин. – Нельзя, чтобы остались одни обыватели со своим барахлом. Поэт Фаиз Ахмед Фаиз писал, что борьба за человеческое счастье кажется тяжелой и бесконечной, а мы сами выглядим беспомощными и ненужными в сравнении с ее размахом, если только рассматривать эту борьбу с точки зрения личности. Борьба не является чем-то личным, как влюбленность в женщину или болезнь ребенка. Ее нужно рассматривать только с точки зрения коллектива, и тогда понимаешь, как полнокровна эта борьба, как целенаправленна и как много в ней надежд на победу. Как личности, мы не очень много значим в мире.
– Иначе говоря, "броня крепка, и танки наши быстры", – зло сказал Гена. – Изворотливость турка, чтобы понравиться большевикам. Сейчас снова встает этот вопрос: личность или коллективная воля? Быть независимым от насилия коллектива – значит ли быть против коллектива? Может ли масса выиграть борьбу за счастье? Или надо прекратить, наконец, насилие над человеком, оставить его в покое?
Мне это было интересно, я озадачил всех:
– Я вот чувствую себя отдельным от коллектива. Но почему мне больно, что я, отдельный, далек от всех? Может быть, живу не в струю?
– Мы все живем не в струю, – заржал Батя. Гена возмутился:
– Почему все? Недостаток воображения, чтобы увидеть в других себя, не дает понять, что и они – такие же, как и мы. Это глухая стена между индивидом и окружающими людьми. Отсюда рождаются пренебрежение к человеку. Верить в человека – это самое трудное из всех. Гоголь говорил: «Надобно любовью согреть сердца, творить без любви нельзя».
У нас с Геной была симпатия. Как-то он пригласил меня домой. Встретила его жена, приветливая, видно, легкая и веселая, и деликатно вышла. Комната у него маленькая и чистая, с книжными полками, портретами классиков, гитарой на стене. Одна комната проходная и две – "запроходных".
Он вдруг признался мне:
– Я выживальщик! Зачем-то редактирую дерьмо в дерьмовом журнале. Бежать нужно из этой системы. Жена тоже готова уехать.
Я тоже почему-то открылся перед ним:
– Пишу что-то вроде исповеди, ищу смысл, которого в нашем застывшем времени нет. Иначе, зачем жить? Но не могу. Мои мысли идут вразрез со всем, чем люди заняты.
Он удивился.
– Трудно тебе будет. Ты, как папа Блока, последователь Флобера, копил в себе и сгинул в поисках великой формы, так и не сказав ничего.
Среди моих приятелей во мне словно отпускали зажимы, и открывалось еще что-то, позволяющее свободно изливаться.
– Кое-что понял, – признавался я. – Когда прочитал Федина "Горький среди нас". Тот утверждает: "Страдание необходимо ненавидеть, лишь этим уничтожишь его. Оно унижает Человека, существо великое и трагическое".
Матюнин радостно поддержал:
– Горький не терпел сострадания к "клячам человечества". Клячи нередко рисуются им, как нищие – своими язвами. Часто путают и ломают жизнь таких "рысаков", как Ломоносов, Пушкин, Толстой. Не любил "Шинель" Гоголя, так как ненавидел страдание, а классики взывали к сочувствию, вроде Луки. "Милосердие – прекрасно, да. Но укажите мне примеры милосердия "кляч". А "рысаками" творилось и творится в нашем мире все, что радует нас, все, чем гордимся мы".
Я твердо сказал:
– И вот чем обернулось это по-горьковски! Поиски героя – в фальшь, ненависть к страданию – пренебрежением к "клячам", воспевание нового – в приукрашивание жизни, без сомнений и мук. Единственный положительный герой – это правда. Нет, так ли неправы классики?
– Ты чего такой злой? – удивился Юра. – Горький сам же за это и пострадал, отравили.
И заворковал:
– Сейчас пересматривают наш путь. Мы уже не будем жить при коммунизме. Маркс? Его "Капитал" – уже не научный труд, а колоссальная поджигающая агитка, где все подчинено не фактам, а – взрыву. Жил себе человек, сидел в кабинете, обладал красивой женой, и не предполагал, что вознесут где-то на диком востоке. Группе людей взбрела в голову мысль построить общество по его схемам, вот и построили. Ленин во многом бездоказателен. Учение Маркса всесильно, потому что оно верно… Что это значит?
– Да, Ленину надо было предвидеть, что получится с системой, – сказал Гена. – Написав записку в ЦК о Сталине, он сыграл тому на руку. Молчал бы, так и не выбрали бы генеральным.
Коля окрысился на меня:
– Это все твоя, Веня, система, с твоими засевшими бюрократами.
Я возмутился.
– Ты не знаешь моих бюрократов. Они такие же, как и мы, страдают и выживают.
– Пока будет существовать система, они будут ее рабами, – заступился Гена. – Вечный удел чиновника.
– Значит, жизнь не зависит от бюрократов? А кто погубил деревню? Кто губит нашу жизнь?
– Сам сказал – система. У нас тот же капитализм, что и на Западе, только наши капиталисты не знают денег, им принадлежит вся страна. Каждый тянется на успех, на выгодное место, дрожит за него. А пишут: новое общество – потрясение основ! Вот, когда люди перестанут быть эгоистами, тогда и коммунизм будет.
Молчавший пьяный Батя, вроде спавший, вдруг проснулся и стал утверждать себя.
– Перечитал Ленина! Загляните в него – все, все нарушается, все – против.
Сермяжный поэт сказал стесняясь:
– А я люблю Ленина все равно. Очень уважаю.
– За что, конкретнее? – спросил Коля.
– Ммм…
Костя Графов, красный от выпитого, рявкнул:
– А вот сейчас вас возьмут, как миленьких, за такие разговоры.
Пошли в подворотню отливать. Там сильно пахнет мочой. Коля мотал бедовой головой.
– С того и мучаюсь, что не пойму,
Куда несет нас рок событий
17
Пришел в одиннадцать вечера.
Жена молчит. В веселии пытался обнять, она отстранилась. Я сделал лицо усталым, несчастным и злым, и как будто голова болит. Действительно, устал.
Еда не разогрета. Ел холодное и думал тягучие, злые мысли.
Вошел в спальню, она читает.
– Думал, плачешь.
– Нет, не плачу. Не надо целовать, от тебя водкой и табаком пахнет.
– Приходи ко мне.
– Я тебе не нужна.
– Нет, нужна.
– Света, вон, заикается. Я хорошо помню: ты на нее наорал, в угол поставил… Да-да, еще спрашиваешь, почему. Как не стыдно!
– Не надо, прошу.
– Так не говори!
– Она так устала от твоих занятий, что уже не может отказываться, играет ровно, врет ровно.
Она заплакала.
– Все для меня кончено, лучше бы не рожалась. Вон, Алка поступила на курсы усовершенствования языка…
Мысли у бедной – о домохозяйстве, беспросветности, возрасте, потере талантов… О том, ей кажется, что муж занимается собой, а она перестает постигать какие-то тонкости в общественной жизни.
И тоже хотелось плакать.
– Может быть, я некрасива, поэтому ты так относишься. Конечно, есть женщины красавицы, которых боготворят, и так никогда бы… Не спорь, я знаю.
Она залилась слезами.
Это было неожиданно. Я обнимал ее любимое тело, и говорил с болью, что красивее ее никого нет.
Вошли в нормальное состояние, – думал я, уходя к себе. Почему мы каждый день находим повод для злости?
Смотрели и слушали по телевизору «Волшебную флейту» Моцарта. Света смотрела, вертясь и не отрывая глаз.
– Тебе «Аллегро» понравилось?
Она, сдвинув брови:
– Мне все пон-равилось!
Ребенок, когда растет на твоих глазах, не помнится маленьким, мешает его реальная близь.
____
Мы со Светкой вышли гулять. Какая-то тетка, обернувшись из-под платка, злорадно сказала:
– Крепче держись за папу, а то убежит. Ноне такая мода – убегать от детей.
Светка кричала громко, на всю улицу: "Не хочу на метро, хочу на такси!" А в метро, как папа, взяла из моей сумки книгу, открыла и углубилась в чтение. Я не знал, видела ли что-либо, но даже время от времени страницы переворачивала.
В магазине она запросто заходила за прилавок и тянула товар.
– Купи себе, Веня, вот это.
Зашли поесть в ресторан. Светка расплакалась:
– Зачем все едят? Давай, уйдем.
И мы пошли в зоопарк. Она каталась на пони, уехав и начисто забыв о маме и папе… Другое ее мало интересовало, как-то: тяжело слоняющийся по клетке лев, малоподвижные бегемот и слон.
Поехали назад, в метро. Она увидела грузина без глаза, и громко на весь вагон:
– А зачем он без глаза? А почему другой закрыл?
Катя жаловалась:
– Света как дурочка, меньше своих лет. Учительница: ей шесть лет? Разве не пять?
Она всплакнула. Свету ругают в школе, мол, "короткое внимание", не слышит учителя, а на ритмике только гогочет, думает – игра. В ней проскальзывает что-то твое, дурацкое. Так кривляется на уроке! Татьяна Александровна пригрозила выгнать, а та ей – рожи. И ритм отбивает: три-ля-ля, тру-ля-ля. Что она, дурочка, что ли?
Мы с мамой мучительно думаем, как развить в ней внимательность. Как трудно, почти невозможно найти ключ, и каким чутким и опытным надо быть. Искали тон, как покорить ее неподдающесть. Наверно, в такие моменты самое лучшее – неумолимость, строгость, обрезая всякие обсуждения. Расхожие гневные выпады против школы или родителей, о их вине в пробелах воспитания школьника, напавшего на учительницу, – это чушь. Как воспитывать ребенка, такого непокорного, в котором независимо от нас зреет будущий взрослый – кто?
***
Я простудился, лежал один в кровати, Катя со Светой были в школе. Вдруг зашла в гости подруга жены Елена, худая, замученная и прекрасная. Озабоченная моим здоровьем, она наклонилась над кроватью, жалуясь на отношения с Осиком – тянет все сына Сережу в театры, просит поехать с ним на юг, на дачу. А когда согласилась, он не являлся месяц.
И стала смотреть на меня странно, потянулась ко мне, и я потянулся тоже…
С тех пор – Катя все удивлялась, она перестала заходить к нам. Я чувствовал себя окончательным подонком. И сейчас, в старости, это подонство обжигает меня стыдом с прежней силой. Подлость не забывается никогда, она становится скелетом в шкафу.
18
По поручению кадровика в кабинете партбюро я разбирался с жалобами и предложениями. Наткнулся на письмо старика-пенсионера: "Рано еще выходные дни давать. Работать надо, коммунизм строить. В правительстве преступники сидят, лентяев делают из народа". И удивило коллективное письмо пенсионеров: "Уходить на пенсию надо позже, чем сейчас. Делать нечего, бунтует кровь-то!" (Вот еще когда народ требовал увеличить трудовой стаж!)
Принимал жалобы семей сотрудников.
Мать поведала горестную повесть. Бывший зять ушел от дочери, оставив с ребенком, оттяпал 10 метров нашей жилплощади при разводе. А наш дом был старый, пять человек в двух комнатах ютились. Он срочно выписал из Баку бывшую жену с ребенком, зарегистрировался с ней. А когда дали двухкомнатную, снова отослал жену в Баку. Теперь один в двух комнатах. Дочь моя купила двухкомнатную квартиру, хочет продать – не тянет с выплатой.
Зашла старуха с внучкой.
– Ужасные соседи. Издеваются: у нас мясо, а у тебя перловка. Обзывают вонючей, и всякими словами. Фортки открывают, сквозняк в мою комнату.
Тут же ворвалась обвиняемая ею толстая соседка.
– Она пристает к нашей семье. Я горжусь, что вырастила детей достойными. Один – в институте, его сестра кандидат наук. А эта старуха завидует. Грязна, свои тряпки, пахнущие мочой, вешает в проходе на батарею. Мужа моего шипоносом обзывает, а меня – толстухой. А разве я виновата, что вот, глядите, такая толстая.
Старуха встревает:
– Они грамотные – наговорят, умеют. Ем в кухне, а они напротив: «У нас ромштекс, а ты картошку жрешь». Да что я, у меня таких денег нет, виновата я?
Солнцеволосая внучка дергает ее.
– Да и ты, бабушка, виноватая. Чего лезешь, молчала бы.
– Мне семьдесят лет, муж погиб на войне, сын…
Взяла стакан с водой, и стакан дробно застучал по столу.
Вошла еще одна, бледная, словно с выпитым лицом. Казалось, у всех окружающих меня в этой темной "полунощной" стране бледные испитые лица
– Я. наверно, староверка, не могу себя побороть. Мужа похоронила. После любовь была – он женат, двое детей. Подруга говорит» «Дурочка ты, свое счастье теряешь». А я – не могу, не могу! Свое счастье на чужом строить. А он, ведь, меня любил. Но – порвала. Не знаю, права или нет. Но воспитание старое во мне сидит. А то – всю жизнь бы, наверно, мучилась.
Она вытерла слезы платком.
– Да, да, вот моя подружка – муж любил, а сейчас на бобах осталась, одна. Интересная, живая – за ней хвост бегал. Забеременела от женатого любовника, сделала аборт. Муж ее прочитал записку, все понял. Конечно, не мог стерпеть. А она лежала в больнице, болела. Теперь ходит – старуха старухой от абортов.
Похоже, люди живут своими заботами и горестями, независимо от тираний в любых эпохах. Или зависят? Это разрешить невозможно.
Я пытался сочинять жалобы, не зная, чем еще помочь. После приема я не мог вынести, выскочил в коридор, подавляя слезы. Что это со мной? Я мучаюсь со своей драмой, а тут такие трагедии.
Когда пришел к себе, встретила Лиля.
– Мне в трудовую книжку благодарность записали к Новому году. Значит, не будет премии. А Прохоровне обязательно дадут. Уж она свое возьмет. И вообще, давно пора уходить.
Зашла Прохоровна.
– Что ты такая кислая?
– Ничего не кислая.
И выскочила. Прохоровна вздохнула.
– Что я ей сделала? Не знаю, как ей сказать. Ленива она. Дала телефоны исправить, так она целую неделю мусолит. Что ей говорить? Хоть что-то надо делать.
Лиля не пришла на следующий день, заболела. "А я ее отругала",– прослезилась Прохоровна.
Прохоровна восхищалась своим сыном.
– Андрюшка четыре получил по ОМЛ. Любит больше всех предметов. А римское право! Сандалит по латыни. Отец ему: "Ерунда это". А он: "Римляне говорили: кто не знает истории – грех, а не знать право своей страны – стыдно". А отец: "Вот два юриста на мою голову. Теперь всегда буду не прав".
Открылось, что она наболтала про мою связь с Ириной. Я думал, когда с ней откровенничал – умная, понимающая женщина. Теперь ясно: старая сентиментальная баба. И верить ей нельзя. Не вытерпит: я первая, и такое узнала!
Лида сказала: "Она тут каждому подлость делала". Теперь противна ее слезливость, ее бессилие воспитать сына. Говорила – лень вечером проверять уроки. А сама рыдает – плохо учится.
____
Мне позвонили из министерства, неожиданно пригласили на торжество по результатам конкурса стенгазет министерства.
Оказалось, мы неожиданно получили первое место. Я сошел с трибуны красный, обалдевший. Вымпел, грамота, пластинки, книга графики, фломастеры.
Когда притащил сумку с наградами, Прохоровна огорошила:
– Ужас, что говорят о тебе. Я начинаю думать, привлекут и меня, что совращаю младенца, то есть тебя.
– Ну, хватили.
Кадровик Злобин, гремя дверцей железного сейфа, подозвал меня.
– Тебе шеф говорил? Пойдем на заседание партбюро, повестка "Об авангардной роли комсомольца", то бишь, тебя, и о связях с женщинами.
Я пошел с ним, в растерянности оставив сумку.
– С какими женщинами? С Ириной? Уже донесли? Да, разговариваем с Ирой. А что тут такого? Почему вы все предупреждаете меня, а не доносчиков?
– Э, не понимаешь ничего. Я – не пью, и все это знают. Но попробуй выпей два раза, и будут говорить, что пьяница. Ты, вот, разговариваешь с Ириной, а завтра мало ли что скажут. Хоть бы работать оставался, а то болтаешь только.
– Откуда вы можете знать?
– Знаю, говорят… Вот, мне Лариса нравится. Не, как женщина. Я – ни-ни. А как работник – о-о! Все, что ни скажу, сделает. И Лида тоже. А что я им, начальник?
Чекист ты, – думаю сам про себя.
– За дело болею! Вижу – не в порядке, ага, Лариса, сбегай-ка. Во мне воспитана работоспособность. Все время на ногах – Ларисе за границу ехать, что мне, а у меня душа болит. Бегаю все, спину ломит… Так вот, я так дела не оставлю, если что. А та, Прохоровна, тебя еще защищает. Я до нее тоже доберусь.
В кабинете партбюро сидели члены – старые эксперты. Они стали "чистить" меня. Комсомол завалил, поведение – ребячество, спорит, когда дают поручения, незаконное написал в стенгазете. И уклон какой-то, слишком сатирический. Что у тебя за шашни с Ириной? Засиживаешься с ней допоздна.
Корявый эксперт Ананьич зудел:
– Я против премии тебе был, прямо скажу, не побоюсь. А что? Люди видят, и сейчас приходят – почему тому дали, а тому нет. Вот Лиле – за что давать? Нагрузок не несет, избегает, ничего кроме работы. Она очень хорошая, а вот начнут говорить – за что? За девочкой надо присмотреть – меняется. А ты ведешь себя неприлично.
Я гордо объявил им:
– Ругать меня – это антипартийно. Наша стенгазета получила первое место на конкурсе стенгазет министерства.
Члены партбюро озадаченно замолчали.
Я ощутил себя Гоголем, похваленным Николаем Палкиным за "Ревизора".
Вернувшись к сослуживцам, я торжественно раскрыл сумку. Все разглядывали награды с завистью.
И в коллективе начались раздоры: "Награды принадлежат не тебе, коллективу". Фломастеры запросило партбюро: "Будут храниться у нас – для твоей же газеты". Пластинки требовал профком – для художественной самодеятельности. Я отдал все. Уходил, не видя ничего, зол, не зная, как же с ними быть дальше, как работать. А славу кому отдавать? Прохоровна от души смеялась: "Ой, и ребенок!"
Догнала Лиля: "Лучше отдай мне пластинки, чем им. Или дай записать на пленку". Все они такие, бабы!
Прохоровна обнаружила критическую жилку, отзываясь о моей стенгазете:
– Все твои фельетоны – ерунда. Пишут, вон, в детских садах воруют повара. Без твоего фельетона всем это известно, и даже гораздо больше. Что толку, что, кривляясь, написал? Ничего не изменится. Нужно менять кое-что другое, и всем твоим фельетонистам это прекрасно известно. Вон, завтра собираются на совещание о мерах по улучшению работы на погранстанциях. Соберутся десять самодовольных типов и будут толочь воду в ступе, три дня. А потом из пальца высосут решение, все поддержат – и исполнят!
И нервно захохотала.
– Что они могут сделать, чтобы вагоны подавались бесперебойно? Чтобы рампы сделали на станциях? Чтобы эксперты лучше работали? Они же прекрасно знают, что не хватает вагонов, и нужны средства, чтобы сделать рампы, что экспертам нужно больше платить, тогда можно привлечь хороших специалистов.
Она вздохнула.
– Угнетает, когда работаешь без пользы. Хотела быть медиком или портным – знать, что пользу приношу. А то – сгноили целинную пшеницу. Покупаем яблоки в Японии. Бессарабия снабжала чем-то всю Европу, а как только присоединилась к нам – себя не прокормит. Сплошное позорище – кроличье мясо стало деликатесом, когда они плодятся миллионами! Нет, правильно сказано: в одно ярмо запрячь не можно коня и трепетную лань. Пока новый человек появится, много воды утечет. С нашим коллективным хозяйством – все так и будет. Создали директорам совхозов райскую жизнь, а результатов все равно нет. Люди, вон, говорят: "А, партейные! Ничем не отличаются от обыкновенных людей".
– Значит, верят в изначальную чистоту партии, – строго сказала Лидия Дмитриевна, выпрямляясь за столом и сняв очки.
Позже меня вызвал шеф.
– Слушай, не сиди ты после работы с Ириной. Да брось, я все понимаю! Люди! И так мечтают нас свалить.
***
После работы почему-то снова пошел к приятелям. Гена Чемоданов был возмущен.
– Читал статью нашего друга Матюнина в журнале "Москва"? Против "исповедальной литературы", то есть против Аксенова, Гладилина и других. Против интеллектуалов! Видите ли, он за интеллигентов против западничества, не переработанного в органическое целое с народным. Мол, все дело в знании подлинной нашей современности. Толкует, не понимая сам даже своих терминов.
– А что, так и есть, – спокойно сказал Костя.
Я жадно читал "шестидесятников", и вдохновлял Евтушенко, сказавший, что он вобрал в себя весь мир. Правда, Ахмадулина казалась мне слишком воздушной, чтобы жить в этом жестком мире. Ее, как бабочку, может смять любая буря. Это та абстракция, только талантливая, что была в моих юношеских мечтаниях, да и сейчас благоденствует в литературе, и она не может вывести никуда. За этим нет будущего. Но больше всего восхищался мальчишескими неслыханными откровениями Андрея Вознесенского, выпрыгивающего из цепких рук заплесневевшего времени, по которому шли сапогами.
– Сполоснутое отечество,
сполоснутый балабол,
сполоснутое человечество.
Сполоснутое собой?
Коля презирал:
– У Андрея Вознесенского – ничего за строчками. Какие-то брандспойты, и больше ничего. Он мне видится вроде огнетушителя, покрашенного в красный цвет.
– А твое «Серп луны жнет осоку в пруду» – умственность, – сказал Батя.
– Я вижу так свою деревню, – окаменел лицом Коля. – Видел, как жнут осоку, для крыш? Я в одной фразе все это заключил.
– У тебя разбираться холодным умом надо.
Батя изгалялся:
– Ты подражаешь Есенину.
– У него есть родина. Найдешь родину – пан, не найдешь – пропал.
– И замшелого Клюева носишь подмышкой.
– Дурак ты! У него тоже есть родина, хотя нюхает заплесневелые гнилушки. А вот у Маяковского и его приспешников нет родины. Сергей возмущался: потому так несогласованно все, любят диссонанс, шутовское кривляние. «Моя кобыла рязанская, русская. А у вас облако в штанах»…
Это была несовместимость двух течений, представленных с одной стороны имажинистом Есениным, а позже Распутиным и Шукшиным, а с другой – футуристом Маяковским и его последователями.
Байрон напал на Колю:
– А что у молодых "деревенщиков"? Идиллически абстрактная деревня, отсутствуют реальные черты. Говорят не о деревне, а болтают о самих себе. Орава критиков "молодогвардейцев" орут о народном духе, пародируя выстраданное славянофильство, не понимая, что истина – в раскрытии процессов деревенской жизни, обозначении новых характеров. Ивана Африкановича чуть ли не русским святым вывели, а он не святой, а смиренник – совратил черта. Это в русском характере.
Разгорелся спор. Многие тогда чувствовали, что подлинная нравственность сохранилась только в деревне, с ее древними русскими корнями. Я тоже считал, что в городе не осталось этой детской простоты и наивности, но и любил небывалый взлет в будущее Андрея Вознесенского.
Задетый Коля напустился на Байрона.
– А такие критики, как ты, восхваляют "исповедальщиков", а они механически переносят характеры из Сэлинджера и других. Нет национального характера, вместо живой народной речи – жаргон, вместо чувств русского человека – бравада нигилизмом, скепсисом, холодным эгоизмом. Накипь, а не основа.
Гордый Байрон парировал:
– Спорить можно только с великими. С незначительными людьми не о чем спорить. Наша литература – чисто русская, но и общечеловеческая. У Достоевского и Толстого национальное значит общечеловеческое.
Юра нацеливал на них свою скороговорку:
– А ну, все встаньте в круг – битва акынов!
Юра приглашал меня домой. Что-то коммунальное, не как в лучших домах. Отец оставил семью в детстве. Неизменные полные собрания сочинений Диккенса, Твэна, запрещенный немецкий том о спорте – тридцать шестого года, где Гитлер во всех позах, портрет желчного Геринга. Американские журналы.
Сам хозяин наигрывал на гитаре:
И от своей квартиры
Я ключ друзьям давал всегда.
И говорил, что уже тридцать, надо взрослеть.
Пришла жена, чернявая, и сразу ушла к себе со слезами на глазах. Юра виновато заговаривал ей зубы, безнадежно развлекал. Она: «Весь день одна, некуда пойти. Мне же тоскливо!» Тот достал карту Подмосковья, заговорил о поездке на велосипедах. Та стала смеяться. Юра поддерживал: «Ну, даешь… Я всегда знал, что твое обаяние неотразимо на мужиков».