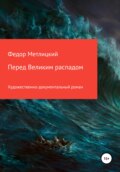Федор Федорович Метлицкий
Родом из шестидесятых
Дома никого. Вечером пришла усталая Катя с дочкой.
– Целый день носилась с сумками. Не такой я себе жизнь представляла. Света оставалась у мамы, а у нее боль страшная в суставах, приходится ее навещать. Заикается страшно – полслова не скажет, реакция на какой-то испуг, может быть, уколы от кори. Что делать с августа – куда ее девать? Уходить с работы? Тогда мне пути закрыты.
Света испугалась моих подарков – ракушек и колючих шариков «бесстыдница».
Катя отрезвила:
– Неприятно-возбужденное настроение: ничего не хочется, чтобы развеселить себя, и чего всегда хотелось – не хочется.
– Странно, я не встречал счастливых людей. Наверно, кроме нового мужа твоей подруги Вали, да таких, как твоя подруга Галка…
– А чем она несчастлива? Муж старый, поживший, известный журналист. У него семья была, взрослые дети. С ним интересно, не как с тобой. Она его ценит. И достаток. Конечно, лучше, если бы со школьной скамьи дружили, когда только с одним.
– Что ты хочешь сказать – со школьной скамьи? Неинтересно со мной?
– Прекратим это. Не понимаешь, что я имею в виду, и прямолинейно…
У меня был в душе холод одиночества не любимого ею. Действительно, живу, и буду жить только в книгах, в мучительном прислушивании – осмыслении себя. И совсем нет участия в семье, и никогда не думал – пригласить ее хоть бы в театр.
Вечером читал «Трагедию Льва Толстого» В. Булгакова. Увидел лучше: живем, ссоримся, – кто прав? Она – с холодным отчуждением из-за моих привычек. И думаю – она никогда не поймет меня. У нас есть с Толстыми нечто сходное, и через много лет что-то поймем, чего не могли понять молодые С. А. и Л. Т., – разницу мировоззрений, характеров. И увидим свое место, издалека и высоко.
13
Последний день перед отпуском. Мозг в лихорадке, держит в себе уйму дел: ого, забыл! надо бежать за продуктами для дачи, а рука делает рабочие дела, и от этого туман в голове, и жалко чего-то, и тонкая обида, самолюбие, и предчувствие, что все будет хорошо.
– Ну, я пошел.
И не глядя, ощущая потупленный взгляд Ирины, решительно ушел, отбросив посторонние мысли.
Дома жарко, вещи разбросаны.
Катя молчит – не пришел во время упаковываться для переезда на дачу. Она заказала машину.
Закатил холодильник и прочее в машину.
– Лето будет жаркое, сухое, – сказал угрястый шофер. – Луна. Рога вертикально почти стоят. Это к ведру. А если бы наклонено, пузом, то дождливо будет.
До нашего дачного поселка полтора часа езды. Поехали в кузове, со Светой на коленях и котом Баськой. Она рада, все вертела головой.
– А объявлять остановку когда будут? (Что-то где-то запомнила).
– Как приедем, так и объявят.
Она захныкала. Остановились попикать.
– Цветочков хочу-у!
– Папа, принеси ей одуванчик, – сказала оживленная Катя, держа в руках рвущегося за нами кота.
Зажала в кулачке цветы. Ее перебрасывали с рук на руки, но она не чувствовала, цепко держась за цветы.
Я сел в кабину угрястого шофера. Он мягкий и стеснительный.
– Да, пшеница побурела. Скоро косить.
И всю дорогу рассказывал:
– Я в совхозе тут, в Домодедово работал. Адская работа, с раннего утра и до ночи, когда роса падет, – в поле. Отстроил тут такую домину (материал за счет совхоза), на участке соседки, и пришлось оставить ни за грош. Жалко. Две больших комнаты, кухня большая. Батареи поставил, ванну, сад посадил. Столько трудов положил, а соседка: "Забирай с собой сад, если просишь за него". А куда я его? К чертям уехал в Москву, там у меня мать. Получили квартиру, у меня ребенок, мать, жена с сестрой. По крайней мере, нормированный день. Правда, тоже за час до конца дня машину надо пригнать, то да се. Зато в воскресенье свободен. Вот только неприятность – сперли рулон клеенки, на 4 тыщи старыми. В суд подают. Я виноват в том, что утром выехал из парка и не проверил кузов. Что делать? Свербит в душе.
Он подмигнул мне:
– Да, хомут на себя надел ты. У меня в деревне тоже садик. Так приеду с работы, а жена: «Нужно полить!» Поливаешь. Или – угольку надо. Машина своя, привезешь. А в воскресенье – целый день топлю.
И вздохнул.
– Когда переезжал, приятели смеялись. Да тебе в городе нечего делать будет. Здесь хоть топить да поливать. Сбежишь сюда, ей-ей…
Помолчали.
– Хорошо тут, лес…
– Да, тут совхоз «Белые листья».
Мелькает речка-ручей Гнилушка, одиноко отблескивающая зарей. Чудесные дачи, спрятанные в зелени садов! Единственный рай, где прячутся от внешних тягот трудящиеся граждане.
Вот и наша дача, восемь соток, выделенные теще министерством, и деревянный сруб, который она обустраивала «своим горбом».
На границе нашего участка стояла соседка, с исплаканным лицом. Показала горсть собранных со смородины больных шариков.
– Значит, так. Надо вам со смородины клеща собрать. Потом листья сгрести.
И удалилась. Катя возмутилась:
– Терпеть не могу. Ради своего сада, чтоб к ним не перешло, на все готова.
– Это кто? – спросила Светка.
– Баба Яга.
Вышла соседка, из садового участка напротив, добрая, опекавшая нас.
– Уж эти Плохиши, соседи! Хозяйка своего никогда не упустит. Навоз привезли ей, а когда шофер выгрузил, она ему полцены. «Не хочешь, загружай обратно и увози. Понасадила вишен в полуметре от нашей границы. Ну, и я тоже. Она раскричалась, а я спокойненько: «Мои вишни – в метре, а ваши в полуметре». Годами оправлялись под яблони. Вонь такая, что до нас доходила. Ни грамма даже говна у нее не пропадает. Я с ней не ругаюсь – скажу и уйду.
Пока мы раскрывали окна, она продолжала:
– Напротив – Петр Иванович с семейством, вы знаете. Они ничего. Только вот мои доски тают, за стеной с их стороны. Штакетник унесли тоже. Как это можно? У них Галина Николаевна нагнулась к ребенку, и упала боком. Сломала позвоночник. Сейчас у них на даче заперто, пусто, а раньше с ранней весны людно было, – сыновья, снохи, внучата. Вот так бывает.
– С того угла, – продолжала она, – очень хорошие люди живут. Василий Иванович и-зу-мительный человек! Он жену потерял. С тех пор сдал.
А там – тоже очень хорошие евреи живут. Двое стариков. Это, сейчас работает в саду ее сестра. А они – на юге. Он пенсионер – путевка дешевая.
____
Наконец, в прохладе внутри дома, в запахе досок, поели картошкой с мясом и молоком.
Дорожные неудобства и страхи кончились.
В этом мире единственное, во что можно верить, это семья. Мир не приспособлен для вольного духа, и в нем есть только семья, спасение в наивной чистоте дочери, в моей мучительной любви с постоянной болью ревности к аристократическому духу гордой женщины. Поэтому у всех, с кем встречался – семья на первом месте. Но потухнет ли этот свет в мире? Или мир слишком холодный, чтобы сохранить этот свет в нежных ладонях.
Поднялся в мою «золотистую комнату» с дощатыми стенами, покрытыми свежей олифой. Она разделена на два «музея»: в прихожей царство плакатов и картинок сталинского ампира, сосланные сюда за ненадобностью. Сталин с Ворошиловым в сапогах прохаживаются по дорожке Кремля, ражие стахановки, лощеные артисты.
В большой комнате на соструганных мной книжных полках вся макулатура, изданная в сталинские времена: книги лауреатов сталинских премий, скучные журналы, вырезки из газет – съездов и пленумов. Поражаешься, сколько труда и бумаги израсходовано зря. Сколько убытков, одни убытки! Вся жизнь – сплошной убыток! – как говорил герой рассказа Чехова «Скрипка Ротшильда», похоронив жену!
Утром открылся яркий вид на сад. Все цветет, заросло. Груша, недавно гудевшая от пчел сплошь в цветении, отцвела.
Светка лежала на раскладушке на воздухе, держа кота Баську, ворочала коленками и разглядывала розовые пятки. Катя прореживала крошечную плантацию желтых и красных тюльпанов.
Я косил траву, глядя в упор в ее зеленую гущину, раздражаясь от необходимости вырывать с корнем пырей, и приятно было косить ломкую, с прозрачными стеблями – легко и ровно она ложилась. Полол грядки клубники, обеими руками влезая в них, и в заросли бледно-зеленого до прозрачности щавеля.
Разразился дождь. Мы побежали в дом.
– Ух! У-у-у! – кричала Светка с крыльца. – Что же это! Ветер какой. А что трещит в доме? Все покидались в свои домики. Вот бы мы сейчас на улице были! Ты бы не пенял.
Она забеспокоилась и побежала внутрь.
– У меня Бася внизу плачет! Вот так: «Мя-а! Ма-ма!» Бася, что тебе надо, плачешь? Я же на работе.
Слышу из глубины комнаты:
– Ну, что у тебя все сползает? Это у тебя плохая привычка. Почему ты такой толстый? Не стоишь? Ты у меня плохой. О, боже мой! Не могу, ну я не могу. Знаешь ты, кто? Это не для тебя штаны, а я… на…пяливаю. Сейчас в туфли тебя окуну, хочешь?
Мама готовила еду, молодую картошку с молоком. Света кормила Басю картошкой. Кот залез на стол и выпил ее молоко. Света тыкала в него ложкой.
– Ну, крыса Шушара! Уходи!
Она со своим котом вертелась, мыла ему лапы в миске и приговаривала:
– Чорту-дья-а-вол! Чорту-дья-а-вол!
Я ругался с ней.
– Не издевайся над котом, не дергай его за лапы.
И вдруг подумал: вот оно, простое счастье – делаешь дело, а рядом: "У, брось плакать! Никак не завяжешь башмаки. Кот не умеет сам завязывать ботинки, а я должна еще помогать ему. У! Шут с тобой. Папа, с этим котом шут? Ну, ходи так. Шут с ним.
Я готов бесконечно прислушиваться к ее лепетанию. Чистейшая игра, и все всерьез. Какое разнообразие в разных преломлениях слов, видно, это ее саму увлекает. Я был лишен способности выдавать необычные слова.
Внезапно поковыляла на горшок. Приговаривала сама себе:
– Оо, хочу какуунить! Наконец-то, какуню. Я прямо отошла. Как будто сначала вошла в горшок, а потом – вышла.
Как будто инстинктом знала теорию относительности.
Я укладывал в постель Светку, прыгающую и ржущую. Мама кричала:
– Прекрати, не возбуждай ее.
В постели одна ее косичка – заплела мама, торчит из подушки. Она лежала на ухе, слушала, как бьет, шурша в подушку пульс. Неразлучный кот лежал на одеяле.
Вышли с мамой на крылечко, покурили.
– Работы тут! Под яблони селитру полила. Выполола огурчики. Светка не дает шагу отойти. Все время впереди ходит, мешает. Отвлекла ее, выложила из Чуковского все, что знала, та притихла. А Пушкина стала читать – ей скучно, не поняла. Говорит: если царевич был мошкой, то осой – может быть?
Она терлась о мое плечо.
– Как хорошо, что ты мужчина.
Я забывал, что она меня не любит.
– Вставай, папа, маму в город провожать. Ну, вставай же!
Слышу внизу:
– Не застегнешь туфли – не пеняй.
– Я тебе тоже – куклой по голове – не пеняй, ладно?
У нее вдруг обнаружился юмор
– Папа, до свиданья! – нарочито крикнула мама.
Спустился из своей «золотистой комнаты». Натянул штаны. Мама со Светкой уже за калиткой, догнал.
Вышли за калитку, дошли до забора садового кооператива. За забором была канава. Там разный мусор, банки. Света увидела огромные черные галоши, проросшие крапивой, испугалась.
– Эти, галоши, они не цапнут? Они живые?
Светка поковыляла вперед, чтобы я ее не схватил.
– Я в Москву поеду, с мамой. Чего ты, гадкий такой? Ты, папа, неважненький.
Поймал ее у "где собака живет и мед продают».
У железнодорожной станции она ухватилась крепко за мою шею, и не желала слезать.
– Я поезда не боюсь. Не совсем боюсь. Ой, папа, поезд идет!
Мама расцеловала ее и пошла на платформу. Та тревожно:
– А она приедет?
Шли назад, по полю, и я пытался отвлечь ее.
– Давай, ты будешь Мальвиной, а я папой Карло. Мы идем к маме через горы и долы, и дорога идет через райские лужайки и темные грозные леса.
– Вот райская лужайка!
Светка влезла в цветущую неведомыми цветами поляну, словно плывущую в небе.
– Что это? Одуванчик? А это? Сорняк? Папа, сорняк хочешь? Сейчас принесу…
Собирали желтые одуванчики и куриную слепоту. Светка старалась собрать все цветы.
Лежали в траве. Я голой спиной на влажной траве, так, что спина чесалась. Светка прислонилась ко мне, я прикрывал ее от солнца ладонью. Небо грозовой синевы, и края облачков тают.
Еле доволоклись до страшного переезда. Она устала. Я нес ее, касаясь щечки и слыша ее дыхание. Та вдруг увидела калитку, узнала место и забилась.
– Пойдем назад, куда ты! Мы же к маме идем!
– Скоро будет ночь, а в ней могут быть опасные звери. Отдохнем, и снова пойдем к маме. Кстати, тебя Баська ждет.
Пошел, и она, подвывая, увязалась за мной.
Вечернее солнце наводило на мысли, что мы остались одни. Одни в мироздании, и почему-то было одиноко. Я весело смотрел на Свету, чтобы ей не передалась моя тоска. Дома она тискала кота, и внезапно заскучала.
– Не хочу здесь быть. Не играешь со мной. С тобой плохо.
– Это с Веней-то плохо?
– Нет, но ты же один. А я хочу с папой и с мамой. А ты не уедешь сегодня?
Она словно нащупывает границы любви, вне которой ее нет.
– Пап! А что тебе здесь нужно?
– Где?
– Тебе-е здесь. Почему ты хочешь только у меня сидеть, почему не хочешь у других?
– Потому что ты моя дочка.
– Еще раз скажи, непонятно. А почему же мама не сидит около меня?
– Не задавай глупые вопросы. Работает.
– А ты? В отпуске? А я тоже в отпуске, да? В садике не сижу? Очень глупо. Я уже в школе учусь.
Лежит в своем углу и возит пяткой по проолифленной стене. Стало жалко ее, одну в полутьме, на отшибе, и больно почувствовал, ведь, она моя доченька. Стал целовать в гладкую щечку, укладывая в кроватку.
Вышел еще раз в сад ночью, чтобы до конца ощутить одиночество, нюхал маттиолы.
Тьма в саду. В глазах вспыхивают пятна. Над черными изломами яблонь – звезды. Яркое пятно света на листве, такое яркое, что и не разобрать листвы. Что-то зашумело в кустах – мгновенно стянулась кожа головы, и отлило от кожи вглубь тела. Фу, ты, черт, стой, и не улепетывай за дверь! Даже если черная тень покажется. Сам испугался, как в сказке Света.
В постели читал записки Межелайтиса в "Знамени", о человеке "хозяине" над природой. Чепуха. Хозяин красоты – это бессмыслица.
____
Плохая ночь прошла, и мы покатили на велосипеде "Волшебнике" за околицу, который нес нас бережно, как на ладонях. До поезда мамы было еще много времени.
Света сидела впереди между моими руками, на подушечке соструганного мной надежного деревянного стульчика. Дорога к маме присыпана пылью, так, что не знаешь, проедет ли колесо или погрузимся по вилку. С обочин – полегшая усатая пшеница, седая от пыли, уже зажелтевшее поле.
– Хорошо тебе? – машинально спрашиваю сидящую впереди дочку, неудовлетворенно оглядывая поля, и тихий лес вдали. – Попа не устала, не больно?
Справа щедро клубятся яблони в саду. Света оживляется, поднимается и трясет "Волшебника".
Въехали в раскрытую, как сказочная распахнутая тетка, деревеньку, где раскрыты двери, и домашняя суета. По улице лениво бредут добрые мычащие коровы
Светка поражала меня своей логикой:
– А как же корова ходит, когда от нее отрезают кусок и продают мясо? У нее опять отрастает все?
– Она потом не может жить.
– Как же это?
Это убеждение в бессмертии – недавно рожденного существа, еще не чувствующего времени и невообразимой дали конца.
Быстренько и опасливо минуем недовольно клохчущих кур у плетня. Света затрясла "Волшебник".
– Не хочу наших кур есть – они ходят по земле. А импортные, да, бройлерные, – в клетках, над землей, и не знают, что они куры. Их не жалко есть.
Выехали на шоссе, оставив отрастивших мяса коров и несъедобных кур, и покатили к кладбищу – в тихой рощице средь полей у деревни. Там тихо шелестела от ветра листва нетронутых деревьев, словно мертвые тихо шепчутся о вечном. Другой мир, тихо живущий в самом себе. Ходили среди могил с горестно покосившимися крестами и новенькими обелисками со звездой наверху.
– Тут люди умершие лежат, глубоко под землей. Под этими кучами земли.
– А почему они не выйдут? Можно я их потрогаю, мертвых?
– Они глубоко, не достанешь. Они там пластом лежат, и не могут выйти, они умерли.
– А кто тут лежит? А тут? Родственники знают? Какие родственники?.. А мы сюда не ляжем? Мы, ведь, не умерли, да?
Нарвали васильков в пшенице, срезали голову подсолнуха – для мамы, и покатили – к лесу, мягко проскакивая через клоки черного прошлогоднего сена на дороге.
Вот и лес, какая-то военная часть здесь стоит. Там нет солнца, высоченные березы и осины с гладкими хинными стволами, странные цветы, и загадочный сумрак глубин, где, наверно, много грибов, и нехожено.
Остановились у колючей проволоки, запретная зона.
– Здесь живет Карабас Барабас! – сказал я страшным голосом, – сейчас может наброситься на Мальвину.
И мы с визжащей Светой в испуге срочно покатили по петляющей дороге, с поворотами, за которыми таятся неведомые угрозы. Она суетилась между моими руками.
– Ты что, Света?
– Почему так долго к маме едем?
Кажется, я всегда был в чистоте гениально развивающегося ребенка, живущего в первозданном, постоянно обнаруживающемся новом мире.
Взрослый знает все заранее, с богатейшей кладезью памяти, и это препятствует восприятию, дает заданную форму. В нем есть барьер впитанных представлений эпохи – мешает выйти в подлинную разгадку бытия. У ребенка и животного нет предварительного знания, есть только очевидное, сиюминутное. Интеллектуальное богатство ребенка в том, что он только что увидел. Мир для него незамыленный, неизвестный. Это высшее состояние творца, впервые открывающего мир. Только так можно внезапно открывать глубины истины.
Человек не может жить в светлом, но пустом пространстве. Мы упорядочиваем его, различая дни и ночи, зиму и лето, приоритеты, лидеров и иерархию социума. Я думал, что Свете все еще предстоит создавать свою иерархию упорядоченного мира.
Мама появилась неожиданно. Светка заплакала.
– Уходи снова на работу!
Мама оторопела.
– Я уйду тогда. Так торопилась, думала, ждешь.
Я вступился:
– Ну, мама, это она от любви к тебе. Это потому что мы тебя заждались. Тебя выгоняют, что ты?
Легли в постель, у меня холодное тело, и вдруг током пронзило ее тепло, – такой уют и покой, полная разрешение и удовлетворенность неосознанная – мающейся души.
Она была грустная.
– Ты чего?
– Что ты, ничего. Спать хочу… Умерла Детуля, рак легкого, много курила. Это жена Томского, нашего сослуживца в издательстве. Помнишь, он сын того Томского, который покончил с собой, упросив Сталина не трогать семью, а сын отсидел 16 лет. Он убегал с работы, колол жену лекарствами. Она оживала, разговаривала, потом снова глаза стеклянные, видно, от боли. Томский о ней: «Моя Детуля очень мужественная баба, оптимистически все переносит». Не хотел в больницу. «Она там без меня сразу умрет».
Она помолчала.
– Мы смеялись над ним. Надоел своими россказнями, что у нее рак. Очень ломался при этом, нам казалось. А она недавно пришла ко мне, и так томно: «При-и-ходите ко мне. Я очень хочу, чтобы именно вы ко мне пришли-и. Я скоро умру, вы знаете». И так всем говорила. Она тогда еще была прилична, хотя очень худа. Я была шокирована. Оказалось, правда. Вот и високосный год начался.
Она вздохнула.
– А он, после ее смерти, тоже умер. После похорон шел пьяненький, его забили в милиции. Ужасная судьба.
– Я все думаю, не перейти ли мне в корректоры, – озабоченно продолжала она. – И на дом брать корректуру. Подсчитывала – если уйду с работы, твоих 120 рублей никак не хватает.
Вечером она читала Достоевского, восхищалась его юмором. Я задумывался над ее приверженностью к умствующим писателям – Достоевскому, Томасу Манну. И читал странный роман Зощенко "Над восходом солнца", почему его одолевала хандра, и что писатель дожжен быть здоровым, жизнерадостным. Иначе не стоит писать.
Перед отъездом снимал первый урожай ранних яблок – грушевки и мельбы, упаковывал в деревянные ящики. Света порезала клубни гладиолусов лопаткой и в испуге спряталась – нету, мол. Еле нашли…
____
Не хочется выходить из этого светлого прошлого мира в наше настоящее время. Как это тягостно – возвращаться! Лучше бы остаться там навсегда, чтобы не переносить снова то, что мы с мамой пережили.
14
Забитый солнцем на просторах полей и свежей зеленью садов, я вышел в сложный город, в свое учреждение, похожее на казарму, с сидячей однообразной работой, с бытовыми заботами и горестями сослуживцев. Это было тяжелым отрезвлением.
– Хорошо отпуск провел, – докладывал я. – Целый день вертелся на земле, залезал на деревья, – наслаждение. А продуктов на ветках – видимо невидимо. Сливы рвал, так упал с вершины. С шумом! Знаете, как лоси через чащу пробегают. И сейчас в состоянии упавшего с высоты.
Прохоровна изнывала от смеха. Потом смотрела жалостливо.
– Мой Андрей Иванович тоже стал таким садоводом! Он все делает, как Ручкин скажет. Тот сказал – вырубить! И мой – наготове с секатором. По его совету вырезал весь низ вишен. А там-то самые вишни. Я ему говорю: "С твоим росточком только внизу и рвать вишни». А Ручкин раньше был по технике, а потом внезапно выучился на садовода. Хоть у него ничего не растет, но это не мешает ему давать указания всему дачному району.
Она расцвечивала подвиги мужа, стыдясь его низкого росточка.
– Как тут без меня?
Прохоровна всплакнула.
– Не могу писать решения по каждому совещанию. Тошнит.
Это она из-за ссоры с шефом, когда ей приходится писать решения одной, а остальные ходят только. Я бодро посоветовал:
– Альпинист не должен смотреть на вершину, а только на 10 метров вперед, и тогда преодолеет. Вот и вы – на одну строчку вперед.
– Да ну тебя! Я о деле, а ты треплешься.
Здесь было одно и то же.
Вошла изможденная тетка, с шубой на руке.
– Мне эксперта бы.
Тетка купила шубу, "на месте, где сидим, вы понимаете? – вытерлось".
Она причитала:
– Легко ли? 325 рублей заплатила, в кредит, еще не выплатили, а уже износилась. Дочери купила, копила всю жизнь.
Прохоровна искусственно пригорюнилась.
– Да, конечно. Но что поделать – эксперт не может назвать это производственным дефектом, поскольку тут замины – это же искусственный мех.
Та ушла успокоенная от безнадежности, махнув рукой.
Прохоровна вздыхала.
– Это отвратительно. Все-таки жалко покупателей, ой, жалко. Эксперт прав, но и покупатель прав – покупаем по дешевке то, что за границей на один сезон покупается, а продаем дорого, мех-то искусственный, а цена – естественного. Наденешь – и замины. Но покупатель не виноват – отвалил кучу денег.
В женском кругу обсуждали подарок ко дню рождения Прохоровны. Ирина оживилась.
– Белье? На радость ее Геннадию Ивановичу?
– Коротенькую комбинацию, – радовалась Лиля. – Чтобы распахивалась перед ним.
– Цвета роковой ночной воды.
– Тьфу, нехорошо лицемерить, – возмущалась Лариса.
На работе первый день после отпуска провел кое-как. Странную роль играет привычка. С одной стороны – привычка свыше нам дана, замена счастию она. Без ее автоматизма невозможно было бы жить. А с другой стороны, она постепенно убаюкивает душу, и из ее уютного гнездышка уже невозможно выйти. Об этом мало пишут, мало знают, какую огромную роль играет в социальной жизни привычка. Отсюда консерватизм, натурализм, застой в умах и самой жизни.
Спас профком, предложил билеты в Театр эстрады. Обязали участвовать в мероприятии всем коллективом.
В фойе изостудия, выставлены картины и фотографии о комсомольцах 20-х годов, молодые строители, оратор в благородном негодовании, рубрика "Молодость наша", и пр.
В полукружьи зала с потертыми бархатными креслами на сцене толстая окорсетенная певичка с выпирающими мясами, в роковом черном платье с блестками, держала микрофон в полной руке в кровавых перчатках, и в позе кинозвезды ломала руки, изнывая лицом: "Вернись, я все прощу".
То был вечер романсов, вернувшихся в шестидесятые из чеховского времени, когда вся темная жизнь сузилась в луче любви двоих. И в них – вера во что-то сладостное, бесплотное.
Сзади яростно аплодировали.
– Бра-а-во! Ой, какая молодец! Би-и-с!
– Просим: "Ах, не любил он…"
– Пару гнедых!… Бубенцы!
Восторженные несли на сцену цветы в целлофане, целовали ручку. Это было воскрешение подлинных тайных томлений людей по красивой жизни, почему-то не запрещенных новой эпохой.
Мне почему-то было жалко немолодую певицу. Прохоровна возмущалась:
– Не очень интересно? Мелко? Не любишь театр? Для меня театр – это храм! Я забываю обо всем, что тяготит, не удовлетворяет в обыкновенной жизни.
По пути домой разведенная Лида грустила.
– Как я люблю девятнадцатый век! Все старое красивое меланхоличное, выраженное в музыке – различные "листки из альбомов", романсы, "Жаворонка".
____
Вечером ехал домой в метро, устало, закрывшись от всех в своей оболочке. Напротив тип так же отчужденно смотрит на всех, и думает, наверно, так же. Я один со своей долгой жизнью, расту, мучаюсь, и не могу вырваться из своей оболочки, стать собой. Я – центр вселенной, все проходит через меня, и не избавиться от этого. Может быть, умру, и тогда переселюсь в тебя, и снова, не зная о своем прошлом, буду страдать и мучиться – один…
…Я вглядываюсь из моего двадцать первого столетия в то время: странно, что не выходит смеяться над ним. Там, как и сейчас, люди страдали и, не зная выхода, смирялись перед судьбой в не меняющейся системе существования. За что их хулить? И осуждать то время?
***
Катя неожиданно вошла в мой кабинет-загородку.
– Значит, сходил, послушал высокое искусство. Старая певица не дает ходу молодым? Не говори никому, засмеют.
У нее были фотографии Светки, принесла и хотела положить на мой стол.
– А она на тебя похожа…
Я инстинктивно закрыл дневник.
Она вдруг рванулась.
– Думаешь, подглядываю?
Отвернулась, побагровела, жилы на шее некрасиво вздулись, заплакала.
Во мне – острая жалость.
– Да я…ну брось… Я ничего такого…
Схватила фотографии,
– Что принести, купить?
– Все куплено.
И мышью мимо.
Поздно вечером. В спальне она раздевалась. Я вошел.
– Ну, что стоишь, хочешь посмотреть?
Она легла в постель, закрылась одеялом, как зачарованная красавица, не мог к ней прикоснуться через невидимое стекло.
– Я тебя пять лет видел, можешь быть спокойной. Просто инстинктивно вошел.
– Ну, так и инстинктивно уходи.
– Что ж… давай разойдемся. Пиши заявление, не сходимся, мол, характерами.
Один, смотрел в темное зеркало окна, и представлял себя в расстегнутом пиджаке, с галстуком, кем-то гордым, есенинским. И думал о том, что нет в моей оторванной от семьи и родины молодости такого чистого, как в детстве, где была синяя-синяя бухта Совгавани. Все мое взрослое – неразделенная любовь, и несчастье в душе. И еще думал: почему так? Почему мне мало быть счастливым с любимой женой и дочкой? Пусть она меня и не любит.
____
Утром Катя приучала Светку делать зарядку.
– Не кривляйся! Делай! Ой, не могу-у…
Я встал заспанный, взял ее за руку и спокойно начал делать с ней зарядку. Она усиленно подражала мне, ручки и тело – сами по себе, кривенькие, не стройные.
Катя говорила нейтральным тоном.
– Она плохо занималась. Чесалась, не понимала. Да и преподаватель хорош, задает на дом столько, что можно ребенка погубить. Я ей робко: «Слишком много». Та: «Должна выучить!» Света не понимает, когда обидное говорят, видит движение губ, открывает варежку и восторженно осклабливается в ответ. Мысли нет, что могут обидеть. Вся в тебя, гены твои…
Она умеет читать, но не хочет. Говорит, не сдерживая себя, выкладывает в полный голос, и в этом есть очарование непосредственности.
Катя вздохнула.
– Столько дел. Верчусь целый день, на ногах: в школу, поликлинику, занятия, редактура.
Уходя, слышал, как мама учит считать.
– Сколько стоит 4-копеечная монета?
– Три копейки.
– Сколько концов у двух палочек?
– Пять.
– А у полпалочки сколько?
–Один.
– Ну, как же?
В дочке не было преграды, ничего отчужденного, она была сама доверчивость, как у меня в младенчестве, когда везли закутанного на санках в больницу.
____
После полудня мои родные пришли с занятий. Пока дочка раздевалась, хмурая Катя сказала:
– Два по ритмике. Учительница говорит: "Очень плохо, никакой координации. Просто машет руками, и нет ни малейшего внимания". Вышла из класса, а какой-то мальчик: "Вот эта девочка двойку получила". Та вся поджалась. Что делать?
Я вскипал, и к Светке:
– Мама… сил не жалеет. А ты… Ешь сейчас же!
– Сам ешь.
– Пре-кра-ти!
– Сам пре-кра-ти.
– Она не виновата! – останавливала меня мама. – Не говори ей ничего, слышишь? Не злись. Ведь это у нее детство такое. Нервная система, и что-то с головой не в порядке. Как у тебя. И ты не виноват.
Вечером были с Катей на концерте югославского певца Марьяновича, оставив дочку на тещу.
Когда пришли домой, она была грустна.
– Нравится мне его темперамент, талантливость. Он скребет душу. Я приподнималась на месте, когда он пел про слепого. Обаятелен, и руки так точны, выразительны! За ним каждая пошла бы.
Во мне снова промелькнула боль. Она меня не любит.
А она продолжала и продолжала:
– Русские могут в душе быть хорошими, но все равно – хамы. А немец хоть и подлец в душе, но дает женщине то, что она жаждет – хоть по форме, но заботу о женщине.
***
Когда я узнал, что моя мать заболела, срочно уехал в городок Арсеньев, где жили родители.
Увидев меня, худой изможденный отец в седой щетине зарыдал, уткнувшись в мое плечо.
Пошел в больницу – там вдруг: Клава умерла, только что… Подождите, сейчас нельзя…
Пошел без оглядки. Дома хлопотливые тетки, зарыдавший отец. Они об отце – разное, как почти не отходил от гроба матери, не давая себя сменить: "Нет, я ее язык изучил, лучше понимаю ее". И как хотел похоронить за счет столовой, где мать работала.
Витя говорил об отце, лежавшем сутки, когда мать в морге разлагалась. У него, мол, температура, отстаньте… А когда мать заболела: "Пусть лучше мать умрет, чем мне с ней – калекой. Как я ее потащу, если выживет? Я сам больной!" И о его жадности – тряпье копит по углам, все под целлофаном – для кого? А жалко его… А мать – героиня. Нас кормила, а сама голодная. И никогда не жаловалась на болезни. Соседки: "Да какая веселая была!" Не забуду, как в детстве, на Кавказе, у нее приступ был, с кровати упала, а отец ногами пинал: "Вставай, стерва!"
– Я не люблю дипломатии, хитростей, – говорил Витя. – Я честный, правду-матку сразу выкладываю. Что? Какой еще такт! Ну и пусть такая честность – грубость!
Не понимал, что он – вылитый отец.
В морге мать в гробу, как живая. Рядом моют разбившихся мотоциклистов.
Руки ее натруженные, темные, с надувшимися жилами. Руки, которые помню с детства, в голодные годы на Кавказе.
Похороны, отец, Витя… Когда поставили крест, а на нем фотография матери, молодой и веселой, голова набок, на меня что-то нахлынуло – ринулся в кусты с неудержимыми рыданиями. Меня пытались вытащить, но я не давался.
Что это было? О чем я рыдал? О потерянном детстве? О печалях, выпавших на нашу долю? Потом у меня больше никогда не было такого.
Может быть, мое единственное настоящее – в тех старых песнях, которые пели отец и мать? В той жизни, с «маевками» у реки, с далеким городком, где бежал по деревянному тротуару в кино «Слон и веревочка» и занозил ногу, – вся жизнь там, а новое – вторичное. Может быть, так называемые современные люди на самом деле не современны, а там, в детстве всеми глубинами души. Не потому ли мы тянемся к тому, давнему.