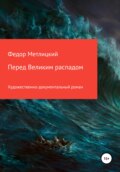Федор Федорович Метлицкий
Родом из шестидесятых
Среди этих крикливых направлений «авторское искусство», артхаусное – ушло в маргинальность, ибо мало кому нужен писк чистой исцеляющей мелодии среди глыб отчуждения, и одиночество в этих глыбах. Читатель забыл то чудесное и непонятное, что трепетало в его юности. Эти авторы живут, как правило, в своем камерном мирке. Здесь много нищебродов, неудачников, уехавших на Запад, и самоубийц.
Диссидент Буковский издалека вещал, что человек – это не звучит гордо, и всем надо покаяться.
Ставшие ненужными маститые писатели «с крепкими седалищами» брюзжали, глядя из-под обесцененных томов своих собраний сочинений: новая культура превратилась в отстойник! Происходящее в литературе – взметнувшийся рой листвы, уляжется, и все станет на места. Андеграунд же объявил это новым периодом искусства. Они, старые романтики, ворчали: культура расколота! Есть в народе сатанинство, тьма, и есть божественное! Политикой и культурой занимаются коммерсанты. Развратили народ, чтобы извлекать деньги.
– Казалось бы, сейчас и вздохнуть культуре, но нет, – заявляли они. – На месте старых идолов встает новый уродливый, коммерциализированный идол, шоу попкультуры. Видите ли, должно выживать конкурентоспособное. Соцреализм заменен анатомическим реализмом. Нельзя Дарвина втаскивать в культуру. Закон джунглей!
Однако литературная классика была тем стабильным плато, от которого уходили в сторону дорожки различных течений. Да, читать ее стали меньше, но она крепко осела внутри нас. «Народные сериалы», популярная эстрада, то, что пишут и говорят, даже в них все же сохраняется главное – боль за человека, что будет всегда, как сама классика. Хотя все ссылки на классиков, старых философов устаревают – их мысли в новых условиях рассеиваются, делаются далекими схемами перед новой глубиной грядущей эпохи.
Мои давние приятели Гена Чемоданов и Толя Квитко требовали перетряхнуть всю культуру, с переоценкой художников, мне казалось, вместе с водой выплескивая ребенка. Гоголь погиб, так как пафос добра превзошел его стиль, которым он выражал победу над глупостью. Достоевский понял, стоя у края, что все революции не стоят эшафота. Ленин боролся против трех китов мирового духа: религии, культуры и морали, то есть против разума человечества. Революции требуют неукоренившихся людей. Маяковский, покушавшийся на самоубийство, примирился с царями, создал миф о революционном государстве, – курс лечения от его трагического сознания. Безумие Мандельштама, окаменелость Ахматовой… А у народа своя генетическая задача – улучшить условия своего самосохранения.
28
Я давно освободился от пут министерства, где работал в молодости, от того времени, что, как считал, тяготило меня узостью и удушьем, и откуда выгнали в бездну свободы.
Легче ли мне стало?
Свобода оказалась вязкой, как если двигаться в космосе, ей по-прежнему не давало ходу новое безвременье. В душе желал не этого, не такой свободы. Чего же? Покоя, как у Мастера по воле Воланда? Душевного исцеления в совсем другой стране?
Есть ли смысл жизни в наше пост-идеологическое время? И нужна ли нам русская национальная идея, объединяющая всех, которую искали еще в XIX веке («Православие. Самодержавие. Народность)? Или надо отпустить людей, чтобы они пожили на свободе.
Увы, я так и не нашел смысла. Не верю ни в развитой социализм, ни в обновленный коммунизм, ни в добротный новый капитализм, ни в нашу суверенную демократию, ни в надежду на светлое будущее. Верю в достижение такой безграничной широты взгляда, когда открываются иные измерения, синяя-синяя новизна, в которой не замечаешь свои боли и душевные страдания, и где легко исчезнуть.
Мои друзья, Гена Чемоданов и Толя Квитко звали меня «на баррикады» своей журнальной борьбы. Но я до конца не был увлечен полной свободой, наверно, потому, что гены неверия моих предков мешали верить. Да и мои мысли не будут приняты и при этой свободе. Традиция непобедима, как говорил Сальвадор Дали. Все революции, это как всполохи безумия на вечном небе Веры.
И я сказал им:
– Нет, мы пойдем другим путем!
Решил собирать "здоровые силы", кому не давали ходу чиновники, занятые устройством себя в новой иерархии власти. Отчаявшихся людей, с кем чувствовал родственность.
Это не из-за желания отдаться деятельности или спасти страну. Но с той же целью, что жгла в молодости, – понять изнутри, что движет людьми, историей. До сих пор я так и не осмеливался раскрыть себя полностью, опасаясь, что не поймут, как "Поминки по Финнегану" Джойса.
Мы зарегистрировали общественное объединение "Экология духа". Учредителями стали созданные на развалинах старых и новые независимые организации: «Экологическая экспертиза» (отколовшаяся часть бывшего Управления экспертиз), Экологическое движение, общества: «Духовное единение», «Свет вселенского духа» и «Защиты животных», Российские общество психиатров и теософское общество, а также Антиникотиновый фонд, Духовное управление буддистов (Дид Хамбо-лама), Академия информационной энергетики (экстрасенсов), отмеченная скрытыми светящимися столбами космоса. Я даже стал ее академиком, получил голубые "корочки" с красной печатью, но почему-то стыдливо держу это втайне от всех.
Некоторые из этих организаций уже умерли вместе с постаревшими создателями, как и мое объединение умрет вместе со мной.
К нам пришла общественность из самых интеллигентских низов, ставших безработными из-за развала НИИ и вузов: философы и социологи, научные сотрудники, журналисты, не способные на черную работу создания и деятельности организации, это ниже их достоинства мыслителей; хитрые свободные предприниматели, представители кооперативов и вольные личности – фрилансеры.
Мы стали составлять грандиозные программы. Предлагались проекты международного парламента, экологического образования, поддержки новых альтернативных технологий…
Но во множестве проектов установилась главная цель объединения – помогать нравственному возрождению общества, учить мышлению, достойному грандиозного пути человечества в космос. Это отвечало призывам лучших мыслителей, "совести эпохи", считавших, что без нравственности и широты взгляда не будет подлинных преобразований.
Это оказалась заведомо проигрышная идея, на обочине серьезной политической рубки на планете.
У нас с новой властью установились чистые отношения – ни она нам ничего не должна, ни мы ей.
____
Когда появилась цель, сравнимая с оставшимся временем жизни, я перестал чувствовать свое тело. Во мне выработался аскетизм, неумение жить простыми человеческими удовольствиями (кроме чтения книг, возни с "жигуленком", дачи и природы).
Что-то страшное есть в этом настрое духа. Упертость, обида на бездельников, увиливающих от дел, которые ты взваливаешь на себя. Отмирание обычного человеческого удовольствия жить. Чехов говорил: "Люди, думающие об одном и том же, устремленные к цели – не могут любить, холодны к окружающим". Со мной повторилась ситуация моего шефа, начальника управления в министерстве.
К тому же начался раскол, как в Коммунистической партии, Союзе писателей, который захватили коммунисты, и в других общественных объединениях. Я испытал жуткие моменты в суде, где группа отвлекшихся от нашей великой цели ленивых профессоров, замысливших переворот, пыталась обвинить меня в том же, в чем сами повинны, – узурпации власти, коррупции и прочем. Полетели их письма и наши опровержения в газеты, которые опубликовал всеядный "Московский комсомолец". Не желавший брать на себя ответственность суд принял двойственное решение, что усугубило спор.
Я все равно считал, что эта освобожденная озлобленность – лучше, чем забитость и осторожность держащегося на безопасном расстоянии "совка".
____
Во всяком случае, борьбе за экологию духа, вернее за свое существование под вечным топором нехваток я посвятил полжизни. Терпеть не могу свою работу, и не могу бросить. Эта постоянная борьба за выживание вместо рыцарской борьбы за экологию духа планеты вошло в мое нутро, и жалко отстоявшейся в душе горечи.
Моя свободная работа в независимой общественной организации оказалась не нужной ни новой власти, ни народу, кроме узкой группы поддерживающих нас бизнесменов и политиков, убежденных в нашей перспективности.
Не человек года – шведская школьница Грета Тумберг, узнавшая об ухудшении климата из мультиков, а мы, независимые экологи-общественники были идеалистами или недалекими людьми, избравшими заведомо провальный путь своей карьеры. Мы обычно накладываем цивилизованные экологические нормативы на нашу сырую реальность, и продолжаем бессмысленную борьбу за их внедрение. Срабатывают экологические программы лишь там, где озабоченные экологией головы соединяются с большими денежными ресурсами или всеобщими протестами населения. Например, всеобщая озабоченность климатом Земли, или сопротивление населения тем, кто неутомимо наваливает кучи вонючих отходов под носом. Обретают уверенную хватку те, у кого государственный ресурс соединяется с силовыми структурами. Там могут сосредоточиться огромные ресурсы для создания космических мостов через море, гипер-реактивных ракет. Что тут значат робкие попытки создать другую страну? Против лома нет приема.
Неужели при неминуемых угрозах жизни полноценная деятельность обретается только в соединении с такими ресурсами?
Я не добился успеха в жизни, мой опыт перешел в маргинальные потуги повернуть течение в нужное русло. И в моей независимости ощущал ее нищенскую бесплодность.
____
Изредка езжу в командировки, на торжественные международные форумы, официальные региональные конференции в столицах провинций, с их докладами о достижениях и нередко вспыхивающими спорами с нами, нахохлившимися оппонентами из маргинальных партий и движений. Те доклады и сборники, посвященные форумам, с уверенными докладами и резолюциями, с чудесными фотографиями строек и природы в подведомственных губернаторам краях и областях, до сих пор пылятся в шкафах моего офиса, никому не нужные, как вспышки пустых программ. И почему-то еще держу на видном месте дипломы и награды, полученные от международных организаций, министерств и ведомств, ныне исчезнувших.
Сидя на одинокой даче (жена не могла приехать сюда, снова вспоминать), я сочинял стихи.
То ли мир разрывается болью,
Охладев к своему существу,
То ль судьба моя съедена солью
Отношений, поняв их тщету?
А закат над полем как небыль,
Нашей тупости нет и следа!
Полосами ужасное небо
Устремляется в лоно куда?
Старый вкус молочный и мягкий
У зерна в молодом колоске,
В позабытом душа моя мякнет,
Что уже не ценимо никем.
И уход в пенсионеры представляется мне бездной, куда сорвусь безвозвратно. Представляю, как юный голос будет звонить из социального центра долголетия:
– Приходите к нам. У нас пенсионеры поют в хоре, танцуют. Подберем вам пару.
Типун тебе на язык. Это, может быть, самые бескорыстные люди в отчужденном в самом себе мире.
Но во мне есть некие устойчивые опоры – незыблемые устои опыта, которые поддержат при любом обрушении моей личной жизни, или даже социальной системы.
29
Эхо развала СССР отзывается десятилетиями – все никак не поделят империю, продолжаются обиды на Россию, захватившую лишнюю территорию, ту, что ранее волюнтаристски нарезали престарелые вожди Советского Союза. Мир разрывают желания элит отстаивать свои свободы, самостоятельно обладать подданными и добром своих уделов.
Сейчас время ответственности лидера за страну, озабоченного защитой наивного и добродушного населения от наклоненных в нашу сторону заборов ракет по границам, мобилизующего массы на борьбу с врагами, чтобы мы не оказались в раю, а они – в аду. Россия, огромная и хаотичная, плохо слушается. Поэтому ей нужна президентская республика, а отнюдь не парламентская, к чему призывают люди, никогда не правившие народом. А лучше монархия, к чему призывает самый известный "бесогон". Колоссальный прорыв, вернее, падение из сложности в банальную простоту.
____
Почему и в новом времени воспроизводятся все прежние тяготы существования? Только становятся более открытой страсть обладать вещами, властью, уже даже не прикрываясь моралью и совестью? Почему не исчезает страх перед аномалиями природы? Что является причиной устойчивости корней старого мира? Социальная система? Ограничивающая наше существование природа? Или мы сами? Какая невероятная сила корневых привычек народа, как у встреченных мной людей шестидесятых, держит дух рухнувшей системы незыблемым, чем испокон пользовались властители для своих целей? Дело в воспитании и образовании народа?
Неужели непобедима природа живого существа – поедать другого, чтобы выжить самому, стремиться стать альфа-самцом?
Исчезла цель. Нет идей. Есть лишь то, чем был когда-то счастлив. Как сказал писатель Д. Быков, время, заторможенное искусственно, перестало существовать. Мы оказались в безвременье, и феномен возраста исчез. Нет вертикального возраста, а только горизонтальный, 50-летние ведут себя как 20-летние. Мировоззрения нет, ибо меняться нечему. Возрастные изменения сводятся к деменции. Застывшее время не становится историческим.
Кто бесконечно крутит колесо сансары, находящейся во власти кармы и воспроизводящее все те же переживания? Это состояние, из которого не выйти, вроде античного рока (социальный строй с законами и подзаконными актами, жажда возвыситься, день и ночь, зима и лето).
Сальвадор Дали писал: конвульсии Революции нужны лишь затем, чтобы дать новую жизнь Традиции. Стоячим водам Традиции, в отличие от рек, нет надобности куда-то течь, ибо они справляются без этого, отражая вечность. Несокрушимые и стойкие вещи, пыль под ногами – знаки вечности. Власть зримого и осязаемого – что перед ней эфемерная суетность идеологии!
Может быть, мое ощущение предопределенности исходит из неприятия отставшего от времени (мое время кончилось). Но великие мыслители, как доказано, опережали время, а я прислушиваюсь к ним, и потому могу быть впереди своего времени.
****
Приближается очередной Новый год в двадцать первом столетии. В этот день происходит добровольное помешательство – из желания освободить все инстинкты, напиться и забыться. Что это за страсть к мишуре и блесткам? Ожидание чуда? Ведь все знают, что чуда не будет.
Новый год – это своего рода революция, освобождение от всех горестей мира, чистый воздух преображения. Только разрешенная революция, с отдаленной безопасной для эпохи мечтой. Даже сами органы насилия ослабляют скрепы, вернее, отбрасывают их и предаются разгулу свободы.
Для нас с женой это уже не был праздник. После смерти дочери мы убрали коробку с проклятыми новогодними игрушками и искусственной елкой на антресоли – навсегда. И на Новый год выключали "ящик" с его бесконечными хороводами, с дешевой мишурой над головами пляшущих толп на Красной площади (хотя сейчас совсем не дешевой – мэрия тратит миллионы, чтобы мы забыли наше неопределенное тревожное будущее). И не понимаем восторгов огромных толп. Впрочем, я и тогда, в молодости, считал их наносными, из отчаяния перед реальностью.
Мы перестали смотреть телевизор, ибо свобода интернета настолько обширна, что в него можно погружаться бесконечно. Иногда, когда включали телевизор, на экране ругались в политических шоу, «сбрасывая Ивашку с наката», или врывались пересуды повседневных измен и разводов пар, с судебными тяжбами родственников, делящих наследство. Ими заполнен экран, раньше только показывавший монолитность советской семьи, хотя я и в шестидесятых вживую видел и испытывал на себе то же самое.
Мы с женой живем равнодушные, как люди давно привыкшие один к другому. Я не изменился – в глазах жены такой же эгоист, озабочен не семьей, а чем-то высшим. И даже не озабочен, а – все мои мысли там. Но при любом недомогании оживляемся, чувствуя неизбывный страх друг за друга. И в то же время, вопреки нашей трагедии, – инстинктивно стремимся ухватиться за край уходящего в бессмертие плато жизни, что еще может обеспечить наше физическое существование.
Я вижу в Кате, постаревшей, душу такой же, не умевшей притворяться и прекрасной, какой она была всегда, только я не ценил ее раньше.
Она по-прежнему несет свою ношу любви – опекает не только меня, но и своих подруг. Галка потолстела и еле ходит, но такая же бодрая, Валя болеет, и муж шофер дежурит у ее постели. Катя помогает им доставать лекарства. Они постоянно звонят, вываливая на нее свои беды, как вампиры. "Ты наша заступница", – канючат они. "Нет, я врачеватель", – сердито говорит она.
Наше время прошло, и мы думаем лишь о том, сколько еще, два или пять лет будем вместе, и кто уйдет первый, оставив другого уже в безысходном одиночестве.
Нет никаких изменений в возрастных свойствах человека за тысячи лет. В старости я стал добрее, умнее, мудрее, больше понимаю людей, потому что сам многое понял. Но остался в душе прежним Веней, хотя зовут уже Вениамин Сергеевич. Так же открываю рот в удивлении, глядя в книжку и забыв поесть.
____
Встречаюсь изредка с Валеркой Тамариным, памятью о давней дружбе. Он телеведущий, но все такой же, злой – к тем, кто в альтернативных СМИ пишет о его, якобы, доме во Франции. Что-то случилось – мне стало неприятно встречаться. Это как неприятно видеть его напарницу красивую телеведущую-пропагандистку, слишком рьяно презирающую «либерастов», что для меня перечеркивает ее женственность.
Он раздраженно говорил мне:
– Вы, демократы, не имеете за собой ничего, и потому вам ничего не жалко.
И это был он, бездомный, кто обижался на встроенных в систему, и гордился своим одиночеством.
Наконец, корневые различия в нас обнажились, и мы перестали встречаться.
____
Как-то пригласил меня домой кадровик Злобин, его "ушли" на пенсию. Там сидели его приятели-старики из КГБ, бывшие эксперты. Они воспринимали крушение СССР, как конец света. Их изгнали из той системы, без которой не мыслили жить, как будто отобрали все – работу, честь, убеждения, оставив умирать.
– Сталин держал всю эту шелупонь в ежовых рукавицах.
– А Ельцин дал свободу: берите, сколько сможете ухватить. И начался распад республик. А ведь вся экономика работала на них, на окраины. А для России – по остаточному принципу.
Злобин остался прежним приспособленцем, ничем это из него уже не выбьешь. Но стал откровенным и циничным. ласково уговаривал:
– Забыли ежовые рукавицы? А страх? Я с Берия рядом жил, у Москвы-реки. И мое военное училище, где был директором – рядом. К нам захаживал его личный охранник Бобриков. Так мы вечно опасались, что Берии о наших… недостатках будет больше известно, чем нам, начальству. У него была своя просека, где гулял. Ничего, машины не заворачивал. А вот Каганович – тот, когда гулял – не проедешь. С ним эскорт. Жена Берии, рыжеволосая грузинка, заходила, потом пригласила: «Лаврентий Павлович будет рад». Я дома жене: «Пойдем, Л. П. пригласил». Та: «Я-те пойду, что, шкурой не дорожишь?» Я: «Ха-ха…». Это – перед его снятием. Вот попался бы!
– Перед снятием пришел Бобриков, веселый, – продолжал Злобин. – Рассказал, как товарищ Берия приказал ему: «Ты – останься». "Я ничего, хозяин сказал, значит, так. А потом пришли, те: «Ваши документы! И провода телефонные длинными ножницами – хрясь! Я подумал: «контрреволюцию кто-то делает».
– После того, как Бобрикова отпустили, он, не в себе, прошел поперек Красной площади, потом: куда, в село к родственникам? Выпил бутылку – не пьянеет, еще прихватил, домой пришел, шут с ним со всем! Уехал срочно – в Рязань, в милицию работать. Пил страшно.
Я знал: в кадровике сидел живой человечек, с рождения и навсегда запуганный перед находящимся всегда в опасной близи катком, готовым вмиг смять его жизнь. Он не совершил видимого зла, и оберегал меня, как умел, от этого катка.
____
Ночью я ворочаюсь. Где найти то благодатное местечко, откуда можно уйти в блаженный сон? Во мне остается молодая тяга к размышлению, не дающая спать, отрывающая время от сна и довольства жизнью. Другие спят безмятежно, словно отдыхают в садах наслаждения за свои заслуги. И что лучше?
Я, наверно, скоро истончусь до полной духовности в сфере экологии духа. Блок благодарил Бога за то, что у него исчезли желания.
Моя энергия не охладевает. Она уходит вглубь, сосредоточивается внутри, сжимаясь в сингулярную точку. Но я способен, как и прежде, любить и говорить о любви. Просто становится труднее, когда любимые отдаляются или умирают. Но любовь остается, она есть, и даже старик ее жаждет, ибо без нее космически одинок.
Но до самой смерти – мы живы! Любовь неизменно остается, и наверно это резон думать о ее внешнем происхождении, божественности.
____
Ортега-и-Гассет высказал мысль, что в кругах более дальних любовь рассеивается, а любовь к человечеству – чушь. И философ К. Леонтьев писал, что идея всеобщего блага – пустое, отвлечение мысли, мираж на почве уравнительного благополучия. Всеобщего счастья не ждите, всем лучше не будет. Добро, любовь не бывают отвлеченными, любить можно только конкретного человека. Человечество – не имеет адреса, там рассеиваются любовь и добро, это нравственная энтропия. Мораль может держаться верой в вечность. Взаимосвязанные колебания горести и боли – такова единственная возможность гармонии на Земле. И всему есть конец. Надежды человека – лишь в своеволии мысли.
Кафка помещал своего героя в гротеск, обостряющий ощущение несовершенства нашей природы, в страхе обычая, суда – непреодолимая черта меж нами и обществом, как у насекомого в "Превращении".
Я пришел к банальной мысли: главное – семья, близкие, там концентрируется любовь, что излечивает человека. Кого я бы принял с радостью? Увы, только родных и близких друзей! И тех несчастливых женщин, кого так жалел. И больше никого.
Окружающие люди? А чего бы они хотели, они не входят в близкий круг, с ними может быть только дальнее родство, от привычки жить и работать рядом. Если наши жизни не сольются так, что мы не сможем стать дальними.
Любовь к близким – оттого, что всей нашей любовью знаем всю глубину их сути, а в ней тоже тоска по безграничной близости и доверию. «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке». Это не о коллективе. Окуджава думал об узком круге друзей.
Но я в подсознании остаюсь наивным, как в молодости. Если воображением проникнешь в боль тех живых мириад людей, то возможно полюбить, во всяком случае, пожалеть человечество. Если всех так знать – все будут близки. Возможно, в этом состоит заповедь Христа.
Это главная проблема человечества – как создать дружеское общение различных человеческих общностей. Наверно, это невозможно, нельзя заставить всех любить друг друга так, как близких. Но мне все же кажется, что у всех спрятано внутри детское желание близости со всем миром. Свет в душе есть у каждого. Но с суровым опытом он исчезает из виду, как наша Света. Она, как Ева, осталась в своем чистом раю, где нет одиночества, осталась без забот ленивая и капризная, как ветер. Не успела выйти за пределы рая, в наш жестокий мир. Мы храним в себе память о дочери, она стала тем светом, что никогда не потухнет для нас.
Неужели нужна смерть близких, чтобы память сохранила любовь к ним, и воскресла безгранично близкое в душе? Когда-нибудь у каждого будет легко обнажаться этот свет из-под грубых наслоений опыта, и настанет всеобщая близость людей. Возможно, после какого-нибудь «дуновения чумы», отрезвившей мир. Видимо, есть формула, противостоящая Ортега-и-Гассету и К. Соловьеву: с возникновением угрозы гибели человечества любовь и солидарность к дальним не рассеивается, а наоборот, возрастает. Они не учли степень централизации человеческой цивилизации.
____
У стариков, окруженных детьми и внуками, нет чувства безнадежности, их обычно изображают старыми добряками в окружении любящих родных, тихо вливающихся в бессмертие потомков. "Если даже станешь бабушкой, Все равно ты будешь ладушкой".
Таких одиноких стариков, забытых в своих квартирках, бесконечно много было и в шестидесятых, и теперь, кому еще хуже доживать в безвременье. О их судьбе незачем писать в принципиально молодом оптимистическом сообществе творцов, живущих бессмертием.
На что надеяться им? На глухое волнение памяти? На творческую радость познания себя и мира, чтобы помереть «на всем скаку»? Причем, на старой кляче.
У них есть память о прошлом, и это немаловажно, чтобы быть спокойными. Мне кажется, что смысл жизни состоит в том, чтобы удивляться жизни в разных эпохах и даже измерениях. Сознавать, что мир велик, вся земля усеяна костями, а мир длится, земля кружится. Пока не станет конец планете. Мы умрем. Но и все живое умирает, сама Вселенная подвержена энтропии.
Ничто, даже смерть дочери, не меняет меня, моей раскрытой в изумлении "варежки", как у нее. Я по-прежнему жадно впитываю новости, события и книги, – все, что происходит, происходило, и будет происходить. То есть, эмоции, переживания меняющегося времени, в яме неясной тревоги: что будет дальше? Хотя меня уже не так интересует поверхностная социальная жизнь. Зачем нужно смотреть пропаганду и развлечения по "ящику"? Душа уже не отвлекается на пену. Сейчас я больше слушаю подземные токи смены времен.
Пока есть моя цель найти ответ, рассчитанная на гораздо большее время, чем жизнь, я не умру. Пусть не успею, у всех остаются неоконченными труды.