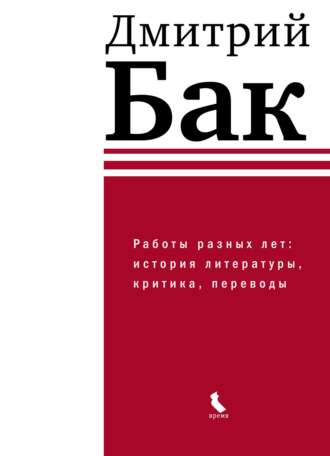
Д. П. Бак
Работы разных лет: история литературы, критика, переводы
* * *
Примерами бытописательной разработки темы семисотлетия Москвы могут служить стихотворение М. А. Дмитриева «Семисотлетняя Москва» из цикла «Московские элегии»[228] и третья песнь из уже упоминавшейся поэмы В. С. Филимонова «Москва»[229].
Гекзаметрические московские стихотворения М. А. Дмитриева впервые были собраны в 1858 году, причем автор в предуведомлении отмечал: «Некоторые из этих элегий были напечатаны в Москвитянине. Признаюсь, я теперь сожалею, что печатал их порознь; ибо они только вместе могут иметь некоторое значение, как собрание небольших картинок Москвы и замечаний о ней, составляющих нечто разнообразное и целое. Порознь же иная картинка, иная мысль могут показаться странными и возбудить вопрос: почему автор выбрал такой-то предмет, иногда мелочный, между обширными предметами, представляемыми древней столицей?»[230].
В созданном в 1845–1847 годах цикле «элегий» Дмитриева последовательно описываются разнообразные стороны московской жизни. По этой причине данный цикл можно считать реализацией известного призыва М. П. Погодина изобразить «московские нравы в разных сословиях» (см. стихотворения «Семейные пиры», «День в Кремле», «Пикники», «Домик в предместии», «Купцы на гулянье» и т. д.). Именно в этом контексте (подробное изображение московской жизни) необходимо, согласно авторскому предисловию, воспринимать и те «элегии», в которых нравоописательное начало как таковое как будто бы отсутствует.
Например, стихотворение «Гегелисты» полемически направлено как против старших славянофилов, выросших на философии Шеллинга и Гегеля, так и против московских «младогегельянцев», студентов начала 1840-х годов из окружения Ап. Григорьева:
Гегель да Гегель! – только и слышишь! – Восток да славяне!
Запад да немцы! – Подумаешь, Запад в бореньи с Востоком!
Солнце ж, как прежде, с Востока идет и приходит на Запад![231]
Именно в контексте «собрания небольших картинок Москвы и замечаний о ней» следует воспринимать и упоминания о московских спорах. Позиция самого Дмитриева не абсолютизирована, сглажена: многомудрым москвитянам свойственно не соглашаться друг с другом, а значит, разногласия и споры – такая же часть московской жизни, как хлебосольные обеды или народные гулянья. Более того, иногда полемические выпады вовсе неотделимы от бытовых картинок.
Так, в стихотворении «Купцы на гулянье» после описания удалых обычаев московского купечества следует такое рассуждение:
Тот же купец, как банкрут, очутится другим человеком!
В ноги да в ноги кувырк перед гордым своим кредитором!
‹…›
Боже! неу́жели в них сохранился наш прежний народный характер,
Русский народный наш тип…[232]
Простое описание купеческих нравов, как видим, соседствует с явными выпадами против складывающейся «молодой редакции» «Москвитянина», в кругу которой, как уже упоминалось, было принято считать купеческое сословие носителем народных традиций[233].
Датированная 28 июля 1845 года шестнадцатая по счету «элегия» «Семисотлетняя Москва» также должна быть воспринята с учетом общего контекста цикла. Стандартный набор юбилейных московских мотивов[234] важен и значителен не сам по себе, но лишь в качестве одной из характеристик жизни Москвы. Насельники древней столицы не только устраивают балы и гулянья, отстаивают свои убеждения в спорах, но и чтут память о прошлом своего города, ведут благоговейный отсчет столетий его исторической жизни. Таким образом, «москвофильство» здесь – не столько повод для прямой полемики (как это было у К. С. Аксакова), сколько одна из непреложных особенностей московского жизненного уклада.
В. С. Филимонов[235] упоминает о юбилее древней столицы в третьей песне своей поэмы «Москва», впервые изданной в 1845 году:
Царства русского основа.
Щит родной своей земле,
Вот наш Кремль семивековый
С русской думой на челе!..[236]
Как и в цикле М. А. Дмитриева, в поэме В. С. Филимонова семисотлетие Москвы – лишь один из пунктов пространного перечня характеристик московской жизни. В первой и второй песнях изображена до- и послепожарная Москва:
Визиты, балы да пиры,
Качели, горы, бег, цыганы,
Слоны, медведи, обезьяны,
Огни потешные, воздушные шары,
То садки, травли, лотереи ‹…›
Что день, то новые затеи[237].
Грибоедовская стилистика в изображении «грибоедовской» же Москвы различима в поэме В. С. Филимонова невооруженным глазом, вплоть до прямых реминисценций:
Порой с углом на короля
То Кузьку ставил, то Маврушу,
И на живую часто душу
Выменивал борзого кобеля[238].
Однако, в отличие от грибоедовской комедии, поэма Филимонова сугубо описательна, в ней нет и намека на какую бы то ни было сюжетную интригу. По сути дела, перед нами – еще один вариант дмитриевского «собрания небольших картинок Москвы», в котором московские мнения (в том числе и прославление семисотлетия города) даны просто через запятую, лишены установки на полемику.
* * *
Мы видели, что бытовавший риторический канон изображения Москвы в юбилейные годы мог трансформироваться либо в прямые полемические инвективы, либо в бытописательные «характеристики» московской жизни. При всех отличиях в разработке городской темы в Москве и Петербурге, нельзя не заметить родство только что описанных явлений с тем, что происходило в 1840-е годы на брегах Невы. Бытописательная изобразительность и полемика о благопристойных традициях и устоях – непременные слагаемые литературных отношений двух школ: «натуральной»[239] (круг «Современника») и, по Белинскому, «реторической»[240] (круг «Северной пчелы»). Однако петербургская «городская» литература обладала еще одним важным свойством. Оба полемизировавших друг с другом лагеря критиков, прозаиков и издателей воспринимали словесность прежде всего «функционально». Беллетристика должна непосредственно воздействовать на жизнь: вскрывать «язвы» общественного устройства либо давать примеры для образцового поведения, воспитывать общественную «благонамеренность». Так описание города в контексте петербургского культурного быта переставало быть сугубо литературным событием, вторгалось в жизнь за пределами узкого круга почитателей изящной словесности. Наблюдалось ли что-либо подобное в юбилейной Москве? Если ответить на этот вопрос утвердительно, то родство разработки городской темы в обеих столицах станет еще более очевидным.
Действительно, в понимании многих литераторов-москвичей предъюбилейные толки о непреходящем значении для России древней столицы (равно как и – подспудные, а иногда и явные сетования по поводу современного принижения роли Москвы в государственной жизни) – имели вполне ясный подтекст. Именно в дни юбилея литературное событие должно было выйти за рамки словесности, состояться в жизни, обозначить собою новую эпоху возвышения Москвы. Так, накануне юбилейных торжеств 26 декабря 1846 года С. П. Шевырев пишет Погодину: «1-го января будут праздновать церковно семисотлетие Москвы. В Чудове Митрополит скажет слово. ‹…› На площади или в Соборе прочтут рескрипт Государя, которого содержание ещё не известно. Говорят о новых правах городу. Стало правительство признает мысль и начинает. Теперь следовало бы городу, Университету, литературе»[241]. Как известно, ожидания эти не оправдались, никаких официальных распоряжений и указов в честь юбилея издано не было. Любопытно, однако, что и в торжественной молитве, совершенной по случаю юбилея московским митрополитом Филаретом, присутствуют «мессианские» интонации, свидетельствующие о надеждах на крупные перемены. Мистический, сакральный смысл придается самой юбилейной дате, которая призвана обозначить грань двух эпох: «Ты, в древнем законе Твоем, в пределе седмицы дней и седмицы седмиц, праздники Твоя, в память благодеяний Твоих поставил еси; и исполнение (т. е. завершение. – Д. Б.) седмицы лет и седмицы седмилетий, во обновление памяти судеб Твоих, летом освящения венчал еси ‹…› Царствующий град сей не месяца токмо и лета начало пред собою ныне зрит, и не седмицы дней токмо и лет исчисляет, но седмь протекших над ним веков»[242]. После состоявшегося довольно скудного торжества среди московских ревнителей первопрестольной старины воцарилось разочарование. В самый день празднования Дмитриев писал Погодину: «Вот вам и торжество семисотлетия, Михаил Петрович! А? Каково? ‹…› Мы, в воображении нашем, чего не ожидали, чего не придумывали к этому торжеству? Вспомните, что вы предлагали, за год и за два в Москвитянине: и историю Москвы, и проч., и проч.; а сделалось очень просто; да еще этим и вперед всем патриотам рот заткнули: теперь уж нельзя ничего ни пожелать ни предполагать: торжество было все кончено!»[243]. Так исчерпал себя «юбилейный московский текст» образца 1847 года.
«История новейшей русской поэзии» как проблема истории литературы[244]
1. Сконструированное в 1930-е годы понятие «советская литература» породило сложности для построения истории развития национальных литератур, бытовавших на территории бывшего СССР, в том числе для русской, украинской и др. Так, в объем понятия «советская литература» входили только те произведения, написанные по-русски, которое были опубликованы в подцензурной «открытой» печати. Все тексты, имевшие отношение к неподцензурной печати 1950–1980-х годов, циркулировавшие в эти же десятилетия в рукописях либо изданные за рубежом, оказывались вне официальной истории литературы. На этой почве возникли две параллельных (совпадающих лишь частично) истории русской литературы 1930–1980-х годов: у каждой из них отдельный пантеон классиков, жанровый диапазон, алгоритм взаимосвязей с зарубежными литературами и т. д.
2. Во второй половине 1980-х годов, в пору появления в обиходе критиков понятия «возвращенная литература», были опубликованы практически все значительные произведения, ранее не имевшие шансов появиться в подцензурной печати – от «Реквиема» А. Ахматовой до романов Саши Соколова. Обширный массив публикаций в эти и последующие годы был посвящен также литературе советского самиздата. Однако «возвращение» ранее запретных текстов не привело к формированию единой и согласованной в соответствии с общей логикой «истории русской литературы советского периода»[245]. Можно говорить о трех (частично пересекающихся вариантах сосуществования ранее несводимых друг к другу «официальной» и «неофициальной» истории литературы.
3.1. Раздельное, параллельное их существование в обиходе разных критиков, при этом раздельность бытования не означает бесконфликтности, но – наоборот – вскрывает многочисленные синдромы и травмы: от ностальгии по советскому времени до попыток перечеркнуть абсолютно все созданное и напечатанное в 1930–1980-е годы.
3.2. Активное замещение «советской истории литературы» ее антиподом, литературой «антисоветской», замена всех имевших место в прошлом канонических иерархий – теми, которые сформировались в русском Зарубежье и в русском Самиздате.
3.3. Попытки механического и эклектичного объединения обеих историко-литературных иерархий, при этом под единым углом зрения рассматриваются произведения, которые во время их создания и опубликования (распространения в самиздате) не могли быть прочитаны одними и теми же читателями, проанализированы одними и теми же литературными критиками[246].
4. История русской поэзии советского времени до сих пор не написана, однако в последнее десятилетие имеют место многочисленные попытки отрефлектировать логику преемственности и слома поэтических традиций в 1960–1990-е годы (см. работы М. Айзенберга, В. Баевского, Д. Давыдова, Д. Кузьмина, И. Кукулина, В. Кулакова, Ю. Орлицкого, И. Шайтанова и многих других).
5. В нынешней историко-литературной ситуации, согласно распространенному мнению, поэзия в целом характеризуется большей степенью монолитности, единством логики развития, что обусловлено отдаленностью от закономерностей коммерческого книгоиздания, оказавших определяющее влияние на прозу во всех ее разновидностях, от одноразовой «низовой» литературы до «высокой» прозы. Среди дополнительных факторов, объединяющих поле русской (и, разумеется, не только русской) поэзии под знаком единой логики, – развитие фестивального движения во многих регионах, наличие разветвленной сети проектов, связанных с организацией поэтических вечеров и конкурсов, а также существование многочисленных поэтических студий (в том числе и при университетах) и интернет-проектов, посвященных современной поэзии.
6. Перечисленные факты дают основание считать, что построение истории русской поэзии второй половины ХХ века – одна из ключевых и специфичных задач, возникающих при попытке сформировать непротиворечивую общую историю русской литературы советского периода. Отметим особо, что при этом действуют оба подхода к построению истории литературы, упомянутые в п. 3.
7. «Официальная» и «неофициальная» истории поэзии продолжают существовать раздельно и параллельно, обнародование в 1990-е годы текстов, принадлежащих к «возвращенной» поэзии, не привело к прояснению единого кода описания поэтического развития 1960–1980-х годов – в этом состоит основной тезис настоящей работы.
8. Показательный пример параллельного бытования разных кодов описания истории поэзии – противоположные подходы к анализу поэтического наследия периода так называемой хрущевской оттепели.
8.1. Во многих историко-литературных работах приоритетное внимание по-прежнему уделяется поэтам, имевшим возможность публиковаться в подцензурной печати (а порой – читать стихи публично, перед многолюдной аудиторией) – Б. Слуцкому, А. Вознесенскому, Е. Евтушенко, Б. Ахмадулиной, Д. Самойлову и многим другим.
8.2. В иных работах, на первый план выдвигающих «неофициальную» словесность, поэтическая история конца 1950-х – начала 1970-х годов выглядит совершенно иначе, на ведущих ролях оказываются Я. Сатуновский и Вс. Некрасов, Е. Кропивницкий и Г. Сапгир, А. Сопровский и С. Гандлевский, В. Кривулин и Е. Шварц.
9. Отдельная проблема – необходимость обоснования историко-литературных построений литературно-критической и читательской практикой последних десятилетий, имеющих место за пределами профессиональных дискуссий литературоведов.
9.1. Преемственность читательской памяти до сих пор в качестве доминанты рассматривает стихи, условно говоря, Вознесенского, Евтушенко, Самойлова и Тарковского.
9.2. Парадокс ситуации последнего десятилетия состоит в том, что набирающая силу и авторитет «неофициальная» версия истории русской литературы не в силах опереться на живую практику массового чтения, практически не содержит имен стихотворцев, «узнаваемых» многими читателями и почитателями русской поэзии прошлого века.
9.3. В иерархиях «неофициальной» истории русской поэзии второй половины ХХ столетия имя И. Бродского, в силу общеизвестных причин, занимает особое, в определенном смысле исключительное место. Именно анализ статуса поэзии Бродского в различных версиях истории поэзии может позволить в той или иной мере приблизиться к решению задачи, сформулированной в п. 1 настоящих тезисов.
Фернан Бродель: непрерывность истории[247]
Если следовать обычной логике и практике, новое русское издание известной книги Фернана Броделя «Грамматика цивилизаций» невозможно назвать ни «исправленным», ни «дополненным». Однако парадокс состоит в том, что и стереотипным это издание ни в коем случае не является. Книгу о современной истории изменило не что иное, как сама современная история – события, случившиеся в мире за полвека, которые отделяют нас от времени ее написания. В издательском предисловии к первому русскому изданию (2008) речь идет о том, что книга Броделя, написанная в 1963 году, интересна сбывшимися пророчествами, поскольку многие сценарии, казавшиеся современникам несбыточными и даже странными, удивительным образом сбылись. Прошло всего несколько лет, и на первый план выходит абсолютно другое. Многие анализы и прогнозы начала 1960-х сегодня кажутся не более чем выкладками из области альтернативной истории. Книга необыкновенно интересна и притягательна как раз благодаря несбывшимся прогнозам. Причем во многих случаях реальный ход событий не просто дает иные ответы на вопросы, поставленные одним из самых влиятельных историков прошлого века, – дело в том, что сами вопросы навсегда остались в прошлом, не могли бы оказаться актуальными сегодня. Любая попытка экстраполировать некие исторические тенденции в будущее не только моделирует это самое будущее, но прежде всего характеризует время, когда экстраполяция была сформулирована. Так, в области технологий наибольшие последствия имели появление интернета и расшифровка генома человека, а вовсе не межпланетные полеты, как это могло показаться полвека тому назад.
Современный человек ясно различает две эпохи крупнейших изменений исторической реальности и исторического сознания или два, перефразируя Анну Ахматову, некалендарных начала двух ближайших к нам по времени столетий – прошлого и нынешнего. В книге Броделя, в самом ее оптимистическом историософском пафосе зафиксирована еще одна важнейшая переходная эпоха – время послевоенного пересмотра границ государств и смены мировоззрений: от завершения великой войны до бурных событий рубежа 1950-х и 1960-х годов. Ощущение если не статики, то стабильности было определяющим вплоть до следующей эпохи перемен, связанной с исчезновением с карты Европы СССР, Чехословакии, Югославии. А вот время недолговечного слияния Египта и Сирии в Объединенную Арабскую Республику, а также более жизнеспособного объединения – Танганьики и Занзибара в единое государство Танзания в рамках обыденного исторического сознания еще несколько лет тому назад продолжало восприниматься как некое абсолютное прошлое, породившее нашу длящуюся современность, как эпоха формирования поныне действующего миропорядка в области международного права и глобальных тенденций развития.
Чем острее и непосредственнее ощущается во втором десятилетии XXI века новый ритм исторических перемен, тем глубже интерес современного человека к периоду зарождения миропорядка, достаточно долго воспринимавшегося в качестве незыблемого: то есть ко времени начала распада колониальных империй и образования новых государств на территории Индии и Палестины, первых лет Пятой республики во Франции и кубинской революции, первых космических полетов и Карибского кризиса.
Впрочем, книга Броделя сегодня особенно актуальна не только благодаря стремительно обновившемуся историческому контексту и некоторой сумме только что свершившихся и продолжающих происходить на наших глазах исторических событий. В совершенно ином контексте научного развития оказывается и историческая методология Школы «Анналов», сформулированная Марком Блоком и Люсьеном Февром и блестяще развитая Фернаном Броделем, провозгласившим: «История должна стать соединением различных наук о человеке» (С. 26).
Включение в горизонт зрения историка данных демографии, географии, социологии, социальной психологии, этнографии стало мощным толчком для развития исторических исследований и в свое время породило волну научного оптимизма нескольких поколений ученых-историков. Появление человеческого измерения в истории позволяло надеяться на новую объективность в достижении прошлого, этот позитивный импульс действовал достаточно долго, был востребован и в нашей стране, в особенности в позднесоветское, «перестроечное» время. Последствия тогдашнего исторического бума были весьма впечатляющи: от повсеместного упразднения псевдомарксистской догмы «общественно-экономических формаций» в пользу «цивилизационного подхода» (в немалой степени опиравшегося на методологию Фернана Броделя) до переиздания огромными тиражами исторических трудов Карамзина, Соловьева и Ключевского.
В наши дни исследовательский оптимизм Броделя воспринимается совершенно иначе, некоторые его формулировки кажутся достаточно наивными, порой даже недопустимо нравоучительными, неуместными в строгом историческом исследовании. Коль скоро логика взаимодействия человеческих ментальностей и материальных факторов развития цивилизаций наконец прояснена, значит, историк вправе и даже обязан смело переходить от тщательного штудирования источников к оценкам и рецептам действия. «Итак, чего бы ему это ни стоило, ислам должен модернизироваться» (С. 119). «В отличие от многих других государств, в заслугу Индии нужно поставить то обстоятельство, что она не прячет ни от себя, ни от других язвы общества» (С. 253). Подобная тональность экспертных рекомендаций присутствует у Броделя не только в разделах о современных исламской и индийской цивилизациях. Методологический оптимизм Броделя выглядит одновременно привлекательным и архаичным по той простой причине, что современный конфликт исторических методологий лежит в совершенно иной плоскости по сравнению как со временем написания книги, так и со временем публикации ее первого русского издания.
С одной стороны, широко распространившиеся и обретшие значительный авторитет постмодернистские подходы («новый историзм», «метаистория» и другие) вовсе поставили под сомнение традиционную историческую науку в ее привычных позитивистских границах, предполагающих «объективное» и полное критическое изучение источников. С другой стороны, не только в обыденном сознании, но и в обиходе большого количества историков продолжает как ни в чем не бывало существовать фантом исторической объективности, позволяющий даже создавать корпорации по противодействию фальсификациям истории. Конечно, намеренные фальсификации вполне могут иметь место под солнцем политической борьбы элит и государств, однако невозможно не понимать, что борьба с искажениями способна породить лишь новые фальсификации и неспособна более быть средством верификации исторического знания. Сам принцип верификации претерпел почти необратимые изменения – любой гуманитарий с особенной ясностью почувствует это именно при чтении оптимистической, можно даже сказать – методологически безоблачной книги Броделя.
Однако Фернан Бродель адресовал свою «Грамматику цивилизаций» вовсе не профессиональным историкам, а обычным людям, более того, преимущественно молодым людям, желающим постигнуть суть прошлого во всей полноте его взаимосвязей с современностью, которая «предстает перед нами чередой возможностей» (С. 30). Книга Броделя – результат его яростной полемики с многочисленными оппонентами по вопросам правильного преподавания истории в средних и высших учебных заведениях. Не только исследовательская методология, но и педагогические методики – предмет многолетних напряженных размышлений историка. История должна преподаваться подросткам и молодым людям, выбирающим свое будущее призвание, по-разному. В первом случае лучше всего подходит традиционная «история в рассказах», сквозной сюжет о разных периодах развития человечества. Во втором – как раз цивилизационный подход: повествование, сохраняющее масштаб «большого времени», уделяющее главное внимание причинно-следственным связям отдаленных времен.
Звездное небо в лунную ночь видно любому наблюдателю, однако только подкованный профессионал обладает «избытком зрения» – знанием, позволяющим учесть разницу расстояния от нашей планеты до разных видимых простым глазом небесных светил. Чтобы породить привычную картину ночного неба, свет проходит во Вселенной разные дистанции. Согласно Броделю, «цивилизация является образом самой продолжительной подлинности истории» (С. 63). Очень важно, чтобы старшеклассник, равно как и младшекурсник, имел перед глазами своеобразную «карту звездного неба» истории, которая преодолевает стандарт плоскостного наблюдения «небесной тверди», дает возможность самостоятельно рассуждать о глубоких и многовековых причинах тех современных явлений, которые ныне кажутся очевидными. Броделевский проблемный метод преподавания, всегда оставляющий место для самостоятельного анализа причин и последствий исторических событий, вне всякого сомнения, до сих пор остается одной из действенных прививок от всех вариантов упрощенного постижения исторического прошлого и настоящего, от любых попыток прийти к раз и навсегда установленному и канонизированному единству во мнениях и оценках исторических событий.
Мусульманский мир, Черная Африка, Дальний Восток, Европа, Америка, цивилизация России – обо всех этих культурных реальностях Фернан Бродель умеет рассказать занимательно и в то же время академично. «Грамматика истории» разомкнута и распахнута в движущуюся современность, в том числе и в историческую реальность нашего времени, когда выходит второе русское издание книги Броделя – не дополненное, но в то же время и не стереотипное.





