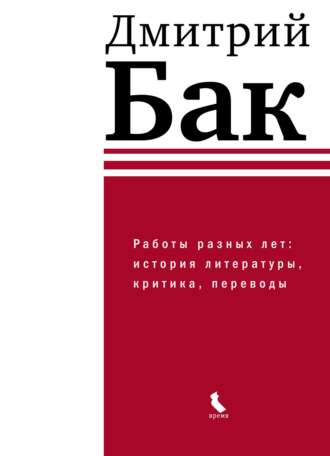
Д. П. Бак
Работы разных лет: история литературы, критика, переводы
Ключевое событие в московской литературной жизни осенью 1826 г. – приезд Пушкина, доставленного из Михайловского в первопрестольную столицу 8 сентября по воле императора Николая I. Пушкин в Москве чрезвычайно популярен, он навещает многих старых друзей, заводит и новые знакомства (с М. П. Погодиным, С. П. Шевыревым, Н. А. Полевым), посещает литературные салоны, в частности возобновляет общение со своими родственниками Веневитиновыми. Сам Веневитинов встречается с Пушкиным почти ежедневно, причем тот с самого начала выделяет молодого собрата по перу среди прочих литераторов, положительно оценивает его направленную против Н. А. Полевого полемическую статью 1825 г.: «Это единственная статья, которую я прочел с любовью и вниманием. Все остальное – или брань, или переслащенная дичь»[271].
В течение двух-трех недель сентябрьских встреч Пушкина с московскими литераторами разных поколений и направлений произошла важнейшая перегруппировка литературных сил. Пушкин заявил о себе как о поэте, миновавшем в своем развитии период южных романтических поэм, часто сопоставлявшихся современниками с «восточными» поэмами Байрона. Хотя последняя из южных поэм («Цыганы») еще не опубликована (она увидит свет только в 1827 г.), Пушкин трижды читает новую вещь – «Бориса Годунова». Чтения и обсуждения пушкинской трагедии способствовали преодолению разногласий между московскими «любомудрами» и литераторами «пушкинского круга», сближению их литературных позиций. Наиболее важное чтение состоялось у Веневитиновых 12 октября, в присутствии всех видных московских литераторов.
Веневитинов пишет для петербургской газеты «Journal de St. Petersbourg» «Разбор отрывка из трагедии г. Пушкина, напечатанного в “Московском вестнике”», в котором отмечает наступление в творческой эволюции Пушкина совершенно нового периода: «Первый толчок не всегда решает направление духа, но он сообщает ему полет, и в этом отношении Байрон был для Пушкина тем же, чем для самого Байрона приключения его бурной жизни. Ныне поэтическое воспитание г. Пушкина, по-видимому, совершенно окончено. Независимость его таланта – верная порука его зрелости»[272].
Общение литераторов-москвичей с Пушкиным привело к созданию совместного журнала «Московский вестник», его редактором, по общему решению, становится Погодин. По этому случаю 24 октября в доме А. С. Хомякова устраивается обед, на котором встречаются два круга литераторов: пушкинский и веневитиновский; помимо недавних участников Общества любомудрия, присутствуют А. Мицкевич, Е. А. Баратынский, С. Е. Раич, С. А. Соболевский. Веневитинов находится в центре событий, связанных с основанием «Московского вестника»; пишет программную статью «Несколько мыслей в план журнала». Он утверждает, что «истинные поэты всех народов, всех веков были глубокими мыслителями, были философами ‹…› У нас язык поэзии превращается в механизм: он делается орудием бессилия, которое не может себе дать отчета в своих чувствах, и потому чуждается определительного языка рассудка. Скажу более: у нас чувство некоторым образом освобождает от обязанности мыслить и, прельщая легкостью безотчетного наслаждения, отвлекает от высокой цели усовершенствования»[273]. Несколько ранее он определяет цель издания: «Задачей журнала является содействие философскому просвещению читателей, российского общества в целом, поскольку “началом и причиной медленности наших успехов в просвещении была та самая быстрота, с которою Россия приняла наружную форму образованности и воздвигла мнимое здание литературы без всякого основания, без всякого напряжения внутренней силы”»[274]. Необходимо преодолеть видимую легкость и непринужденность искусства, избавиться от искушения развивать литературу помимо осознания ее глубоких философских оснований. Веневитинов уверен в том, что «надлежало бы некоторым образом закрыть Россию от нынешнего движения других народов… и, опираясь на твердые начала философии, представить ей полную картину развития ума человеческого, картину, в которой бы она видела свое собственное предназначение»[275]. (Статья была опубликована лишь в 1831 г., уже после кончины Веневитинова и прекращения «Московского вестника», выходившего в 1827–1830 гг.)
Философско-эстетическая концепция Веневитинова в основном разрабатывалась уже после 14 декабря 1825 г., когда заседания Общества любомудрия были сначала приостановлены, а затем и официально прекращены. В последующие месяцы любомудры были объяты тревогой из-за доносившихся из столицы слухов о скорых многочисленных арестах. Особенно острой была их реакция на казнь пяти декабристов в июле 1826 г. Тогда же у Веневитинова рождается план переезда на службу в Петербург. Погодин записывает в дневнике под 23 июля 1826 г.: «Приехал Веневитинов. Говорили об осужденных. Все жены едут на каторгу. Это делает честь веку. Да иначе и быть не могло. У Веневитинова теперь такой план, который у меня был некогда ‹…› Служить, выслуживаться, быть загадкою, чтобы, наконец выслужившись, занять значительное место и иметь больший круг действий»[276].
Таким образом, в далеко не самой благоприятной обстановке, сложившейся после поражения декабрьского бунта, Веневитинов отказывается от роли изгоя, «лишнего человека», не находящего себе места в жизни под влиянием внешних тягот. К концу 1826 г. он в зените известности, он – поэт, философ, оратор, критик. Его планы поступить на службу в Петербурге становятся реальностью, во многом – не без содействия княгини Зинаиды Николаевны Волконской, которая еще с весны 1825 г. играет заметную роль в жизни молодого поэта. В Москве много говорят о романтической влюбленности Веневитинова в Волконскую, блестяще образованную писательницу, певицу, покровительницу искусств. Некогда она была близка к окружению Александра I, сопровождала императора в заграничных походах 1813–1814 гг., с 1824 г. поселилась в Москве. В 1824–1829 гг. дом Волконской на Тверской стал местом постоянных встреч литераторов, музыкантов, деятелей искусства – отечественных и приезжих, профессионально известных и дилетантствующих. У «Северной Коринны» бывали Пушкин и Мицкевич, ей посвящали стихи Баратынский и Иван Козлов. Веневитинов был пятнадцатью годами моложе Волконской, ответившей на его чувство лишь искренней дружбой[277].
В последние годы жизни поэт посвящает ей цикл стихотворений: «Завещание», «К моему перстню» (по случаю получения в дар перстня, найденного в развалинах древнего Геркуланума), «Кинжал», «Италия» (опубликовано в 1827 г., вскоре после смерти поэта, в № 8 «Московского вестника»), «Элегия», «К моей богине». Универсальная ситуация цикла стихотворений, посвященных Волконской, – прощание с возлюбленной в преддверии скорой безвременной смерти, иногда представленной как добровольный уход поэта из жизни:
Вот глас последнего страданья!
Внимайте, воля мертвеца
Страшна…
«Завещание»
Когда же я в час смерти буду
Прощаться с тем, что здесь люблю…
«К моему перстню»
С каким восторгом сладострастья
Я жду губительного дня…
«К моей богине»
Забудь меня, я скоро сам
Забуду скорбь житья земного…
«Кинжал»
Эти стихи – решительный шаг на пути к формированию образа Веневитинова как романтического поэта, для которого, по слову Жуковского, «жизнь и поэзия одно», который живет так же, как пишет, – самозабвенно, порывисто, с презрением к ценностям обыденной жизни. Пророческие интонации в цикле любовных стихотворений – не литературный прием: многократно предсказанная ранняя кончина вскоре действительно настигает поэта. Более того, через столетие после смерти сбывается еще одно пророчество из стихотворения «К моему перстню»:
Века промчатся и, быть может,
Что кто-нибудь мой прах встревожит
И в нем тебя отроют вновь…
В 1930 г. была произведена эксгумация могилы Веневитинова, его прах перенесен в Новодевичий некрополь, а перстень пополнил экспозицию Гослитмузея.
В конце октября 1826 г. при въезде в Петербург Веневитинов был арестован вместе с сопровождавшими его Федором Хомяковым и К. А. Воше, бывшим библиотекарем графа И. С. Лаваля, в недавнем прошлом поручившего ему сопровождать свою дочь, кн. Е. И. Трубецкую, ехавшую в Сибирь вслед за мужем-декабристом. Арест, хотя недолгий, оказал неблагоприятное воздействие на здоровье Веневитинова и на его душевное состояние. Несколько месяцев, проведенных в Петербурге, были для Веневитинова сложным временем. Служебные дела складываются удачно, он получает место в канцелярии при Коллегии иностранных дел, увлекается Востоком, всерьез думает о дипломатической карьере в Персии. Веневитинов часто видится как с перебравшимися в столицу старыми московскими друзьями (кн. В. Ф. Одоевским, В. П. Титовым), так и с петербургскими литераторами (А. А. Дельвигом, И. И. Козловым). Петербуржцы относятся к Веневитинову с симпатией. Так, П. А. Плетнев позднее писал: «В продолжение зимы, которую здесь провел, он был самой занимательною новостью, украшением, милым гостем в каждом обществе, где только ценят или ум, или талант, или светский успех»[278].
Однако Веневитинову остро не хватает былых московских философских диалогов, встреч с семьей и, конечно, с З. Волконской. В последнем своем письме от 7 марта 1827 г. он пишет Погодину: «Последнее время меня тяготит сомнение в себе. ‹…› Я уже писал, что тоска замучила меня. Здесь, среди холодного, пустого и бездушного общества, я – один. Скорее бы отсюда, в Москву, к вам»[279]. Особые раздумья вызывают у Веневитинова его литературные опыты. 14 февраля он пишет брату: «Авось окончу в скором времени большое сочинение (роман “Владимир Паренский”, так и оставшийся незавершенным. – Д. Б.), которое решит: должен ли я следовать влечению к поэзии или побороть в себе эту страсть»[280].
Впрочем, к началу 1827 г. стихотворения Веневитинова получили достаточно широкое признание. По словам В. Ф. Одоевского, Веневитинов «ощущал часто в себе необходимость выражаться стихами, или лучше – каждую минуту жизни обращать в поэзию»[281]. Следуя традиционному романтическому принципу отождествления жизни и поэзии, Веневитинов тем не менее создает совершенно иной вариант романтической поэтики по сравнению с лирикой Жуковского, молодого Пушкина или Козлова. Герой стихотворений Веневитинова – философ, мыслитель, трезво анализирующий каждое движение своей души. Им владеет вовсе не томление, тяга к незримому и таинственному («Невыразимое подвластно ль выраженью?» – Жуковский). Герой Веневитинова переходит от неразрешимых вопросов к попыткам дать на них рационально обоснованный ответ. Так, в начале одного из самых известных стихотворений поэта лирический герой отмечает неудержимость исподволь овладевающего им творческого вдохновения:
Я чувствую, во мне горит
Святое пламя вдохновенья,
Но к темной цели дух парит…
Кто мне укажет путь спасенья?
Я вижу, жизнь передо мной
Кипит, как океан безбрежной…
Найду ли я утес надежной,
Где твердой обопрусь ногой?
Ответы на все эти вопросы утвердительны, для героя важно покинуть пределы «безбрежного океана» вдохновения, обрести дар простой и размеренной речи:
Когда ж минуты удивленья,
Как сон туманный пролетят,
И тайны вечного творенья
Ясней прочтет спокойный взгляд.
От исступленного изумления безграничным к умелому и осмысленному отражению и выражению рационально объяснимого – вот обычная последовательность эмоций в стихотворениях Веневитинова. Это несомненно связано с шеллингианской картиной мира. Создатель «философии тождества» увязывает воедино все проявления природы: от развития земных пород в разные геологические эпохи до эволюции человечества и художественного творчества. Человек из круга московских любомудров ценит в себе вовсе не знаки собственной индивидуальной уникальности, но, наоборот, свою близость и породненность с чувствами других людей и – даже – со свойствами неживой природы. Личная (в том числе поэтическая) эмоция более не уникальна, мимолетна, фрагментарна, но – в идеальном случае – отчетлива и рациональна.
В лирике Веневитинова содержится та же дидактическая, просветительская программа благотворного воздействия на читателя, которая присутствует в его статье о задачах «Московского вестника»: повышать культуру раздумья, анализа, прививать понимание природы творческого акта важнее, чем выразить перипетии развития лирической эмоции по тому или иному конкретному поводу. Такая позиция двойственна, грозит отвлеченным дидактизмом и риторичностью, в конечном счете погубившими «Московский вестник». Вместо того чтобы печатать конкретные образцы «совершенной», на их взгляд, литературы, любомудры в первую очередь публиковали теоретические статьи о родственности литературы и философии, чем и отпугнули многих потенциальных читателей своего журнала.
Отвлеченность лирики Веневитинова от конкретных событий, чрезмерный масштаб теоретических обобщений отмечались неоднократно[282]. Впрочем, Л. Я. Гинзбург специально отмечает, что «стихи Веневитинова давали возможность двойного прочтения – момент существеннейший для понимания его литературной судьбы. Их можно было прочитать в элегическом ключе и в ключе шеллингианском – в зависимости от того, насколько читатель был в курсе занимавших поэта философских идей»[283].
Наиболее последовательно поэтическое кредо Веневитинова представлено в его «Последних стихах», написанных в феврале – марте 1827 г.:
Люби питомца вдохновенья
И гордый ум пред ним склоняй;
Но в чистой жажде наслажденья
Не каждой арфе слух вверяй.
Не много истинных пророков
С печатью тайны на челе,
С дарами выспренних уроков,
С глаголом неба на земле.
В этом программном стихотворении переосмыслены основные идеи несомненно известного Веневитинову пушкинского «Пророка». В отличие от Пушкина, Веневитинов описывает не само событие спонтанного, неуправляемого, почти насильственного превращения томимого «духовной жаждой» странника в поэта-пророка, но следующие за этим вполне рациональные читательские попытки правильно понять слова пророка. У Пушкина специфика таинственного акта рождения поэта воспроизводится в топике его последующих высказываний («Глаголом жги…» и т. д.), не допускающих сомнения, недоверия, обдумывания. У Веневитинова же читатель прежде всего должен приложить сознательные усилия, чтобы отличить «истинных пророков» от ложных и таким образом выполнить «урок», заложенный в самой природе поэзии. Не поддаться непреодолимой власти поэзии, но сознательно отнестись к ее философской природе – таково творческое кредо Веневитинова, в равной степени применимое как для лирического поэта, так и для читателя стихов.
Веневитинов умер в Петербурге 15 марта 1827 г. после скоротечной болезни, вызванной его общей слабостью еще со времени ареста при въезде в Петербург, а также случайной простудой. Первое издание его сочинений в двух томах выходит в свет уже в 1829–1831 гг. Памяти Веневитинова в разные годы посвятили стихотворения А. С. Хомяков, В. И. Туманский, З. А. Волконская (по-французски), кн. А. И. Одоевский, А. А. Дельвиг, А. В. Кольцов, Трилунный, Н. М. Языков, И. И. Дмитриев, Д. П. Ознобишин и другие. Высказывалось предположение, что в «личности Ленского Пушкин хотел воплотить некоторые черты Веневитинова»[284]. Даже Ф. В. Булгарин отдал должное его памяти: «Веневитинов был поистине феномен в наше время. С ним исчезло много надежд. Память его должна быть священною для русского сердца»[285].
Возвышенный образ влюбленного в философию и в прекрасную женщину романтического юноши-поэта начал складываться непосредственно после безвременной кончины Веневитинова. Вот несколько характерных высказываний: «Веневитинов и в жизни был поэтом: его счастливая наружность, его тихая и важная задумчивость, его стройные движения, вдохновенная речь, светская непритворная любезность… ручались в том, что он и жизнь свою образует как произведение изящное»[286]; «Подумаешь, что он списывал с самого себя прекрасный портрет поэта, им нам завещанный»[287]. В отечественном же литературоведении XX столетия нередко подчеркивались политическая оппозиционность Веневитинова (во многом мнимая), его бунтарство, критика петербургского света.
Обе отмеченные тенденции, очевидно, являются крайностями. Веневитинов оказал на русскую культуру своего времени столь мощное воздействие именно по той причине, что не был ни только отвлеченным теоретиком, погруженным в книжную ученость, ни лишним человеком, вовсе не имеющим доступа в принятые в тогдашнем обществе культурные иерархии.
«Дворянское гнездо» и «обрыв»: об историко-литературном смысле конфликта И. С. Тургенева и И. А. Гончарова[288]
Ссора Тургенева и Гончарова вокруг «плагиата» программы романа «Художник Райский» находилась в центре внимания как современников событий (П. Анненков, А. Никитенко, А. Кони, Л. Майков), так и исследователей более позднего времен (В. Острогорский, Е. Ляцкий). Начиная с 20-х гг. ХХ века (Л. Пумпянский, Б. Энгельгардт), преобладает не фактологическое, «правовое» исследование обстоятельств ссоры, но объяснение ее специфики путем сопоставления тургеневской и гончаровской жанровых моделей романа (В. Маркович, В. Недзвецкий). Заимствование фабулы не всегда приводило к спорам («Ревизор», «Мертвые души»), часто ставилось условием «творческого состязания» (Ломоносов – Тредиаковский – Сумароков: переложение 143-го псалма; Байрон – М. Шелли – Полидори: «готическая история»).
Наметились два подхода к проблеме. Первый: полярное различие романных моделей Гончарова и Тургенева не дает оснований говорить о заимствовании (Б. Энгельгардт). Причина конфликта видится в болезненной мнительности Гончарова (Е. Ляцкий, С. Тер-Микельян). Второй (более плодотворный) подход реализован в работе В. Недзвецкого: на рубеже 50–60-х гг. Тургенев и Гончаров наиболее близки друг к другу по творческим установкам («гончаровско-тургеневский роман»). Но и в этом случае вопрос о художественной специфике реминисценций из «Обрыва» оказывается снятым (как и в известном вердикте третейского суда, состоявшегося в марте 1860 г.).
Ситуация осложняется двусмысленностью поведения обеих сторон. Гончаров накануне суда смягчает свое обвинение (не плагиат, а «затруднение» работы над «Обрывом»), а позже (в «Необыкновенной истории») прямо пишет о своей подозрительности. И Тургенев в письмах нередко почти оправдывается, словно бы признавая вину, изымает из «Дворянского гнезда» ряд сцен. Однако, несмотря на различие позиций, творческие претензии писателей друг к другу типологически сходны: это упреки в излишней стилистической изысканности. Ср.: «Я слишком прост в речи, не умею говорить по-тургеневски» (Гончаров); «Профессорский, образцовый стиль, сознательная виртуозность» (Тургенев о Гончарове). Одно и то же кажется романистам различным, поэтому корректность позитивно-нейтрального разбора конфликта сомнительна. Необходимо взглянуть на дело, исходя из творческих принципов истца (т. е. Гончарова), оставив в стороне личные свойства сторон, выявить и сопоставить конкретные стилистические функции сходных мотивов в «Обрыве» и «Дворянском гнезде».
Данные схождения разнородны: характеры (Лиза – Вера, Лемм – Васюков и др.), ситуации (объяснение Веры с бабушкой и Лизы – с Марфой Тимофеевной), детали («старая книга», портреты предков и т. д.). В романе Тургенева подобные детали, ситуации, характеры вписаны в единый, линейный контекст сюжетного «испытания героя» (Пумпянский). У Гончарова же, кроме данного уровня смысла, имеется еще один: испытание романного слова как такового. «Над» коллизиями, разыгравшимися в Петербурге, Малиновке, существует некий метасюжет: ряд последовательных попыток Райского создать роман. Если для Тургенева характерна «взаимная обузданность» (Маркович) мира героев и позиции повествователя, которые непроницаемы друг для друга, неслиянно наличны, то для Гончарова существенен проблематичный разрыв между указанными сферами. Инициатива повествователя то демонстративно сводится к нулю («самоценные» картинные описания, восходящие к «Сну Обломова»), то оказывается превышенной (Райский создает роман на наших глазах). Неочевидное сходство повторяющихся мотивов свидетельствует не о независимости их употребления, а о полярно различных их функциях в романном целом. Тургенев, выстраивая линейный сюжет, вольно или невольно препятствовал применению мотивов будущего гончаровского романа в предполагавшейся для них функции (рефлективное подчеркивание проблематичности романного авторства). Этим и объясняется острота и продолжительность конфликта двух великих русских романистов.





