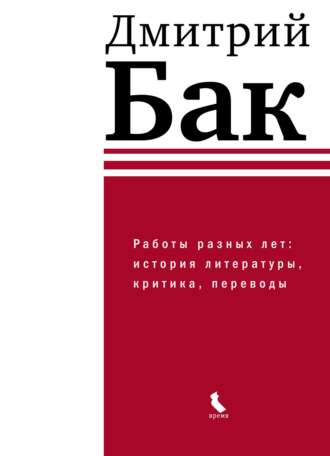
Д. П. Бак
Работы разных лет: история литературы, критика, переводы
Обратимся к одному из достаточно известных событий в истории московской журналистики конца 1820-х годов. В 21–22 номерах «Вестника Европы» за 1828 год была опубликована статья «Литературные опасения за будущий год» – дебют Н. Надеждина-критика. Диалог премудрого Надоумки и его оппонента – сторонника романтизма Тленского – пестрел разноязычными цитатами из двунадесяти древних и новых философов, в критической статье обсуждалось ключевое понятие кантовской эстетики («Zweckmässichkeit ohne Zweck» – «целесообразность» либо «соразмерность цели» – «без цели»), – словом, учености было с избытком. Следом Полевой под псевдонимом И. Бенигна («Плодородный»[108]) публикует в «Телеграфе» статью «Новости и перемены в русской журналистике на 1829 год» (1828. Ч. XXIII. № 20), в которой выступает не столько против конкретных доводов Надеждина, сколько против общей «научно-просветительской» стратегии «Вестника Европы», а заодно и «Московского вестника».
Оскорбленный Каченовский подает в Московский цензурный комитет жалобу на… цензора «Телеграфа», известного литератора С. Н. Глинку, который был известен многими причудами, например обыкновением подписывать к печати, не читая, все представлявшиеся ему журнальные материалы[109]. Неординарность поступка Каченовского, подавшего в цензурное ведомство, применяя современную терминологию, «иск о защите чести и достоинства», этим, однако, не исчерпывается. «В собрании университетского совета была прочитана статья “Московского телеграфа”, будто бы оскорблявшая в лице Каченовского, почетнейшего между сочленами, все их сословие. Ни один голос не восстал против этого нелепого обвинения, и все присутствовавшие подписали прошение к министру народного просвещения, где выставляли издателя “Московского телеграфа” как оскорбителя ученого сословия и просили расправы с дерзким самовольником, а еще более с явным его сообщником, цензором Глинкою»[110]. Итак, нападки Полевого на «Вестник Европы» явно выходят за рамки сугубо литературного спора. Речь шла (по крайней мере в восприятии Каченовского и его коллег) об атаке на весь цех университетских преподавателей.
На полемику «Московского телеграфа» с «Вестником Европы» живо откликнулся Пушкин. Прежде всего в привычном жанре эпиграммы, направленной против Каченовского:
Журналами обиженный жестоко,
Зоил Пахом печалился глубоко:
На цензора вот подал он донос;
Но цензор прав – нам смех, зоилу нос.
Иная брань, конечно, неприличность,
Нельзя писать: «Такой-то де старик,
Козел в очках, плюгавый клеветник,
И зол и подл» – все это будет личность.
Но можете печатать, например,
Что господин парнасский старовер
(В своих статьях) бессмыслицы оратор,
Отменно вял, отменно скучноват,
Тяжеловат и даже глуповат;
Тут не лицо, а только литератор[111].
Пушкин пишет также специальную заметку «Отрывки из литературных летописей» (датированную в черновом автографе 27 марта 1829 года). Однако цензурный запрет помешал опубликовать заметку в «Невском альманахе», и она появилась только к концу года в «Северных цветах на 1830 год» (СПб.: Тип. Департамента народного просвещения, 1829). К этому моменту пушкинский текст утратил злободневность, перестал быть простой репликой в споре Каченовского с Полевым. Читатель получил не столько литературно-критическую заметку, сколько рассуждение о законах, правилах, по которым должно вести полемику. С самого начала Пушкин (правда, не без иронии) утверждает, что собирается «изложить все дело sine ira et studio»[112]. Анализируя «литературное поведение»[113] спорщиков, Пушкин находит, что «в статье г. Полевого личная честь г. Каченовского не была оскорблена»[114]. Посему решение Каченовского предпринять «другие (т. е. “нелитературные”. – Д. Б.) меры к охранению своей личности»[115] признается немотивированным, а следовательно, недостойным.
Конечно, вывод Пушкина о том, что в нападках Полевого присутствует «не лицо, а только литератор», не лишен злого сарказма. Однако важно другое: рассуждая в терминах своей литературной партии («Потомок Трувора или Гостомысла, трудолюбивый профессор, честный аудитор и странствующий купец равны пред законами критики»[116]), Пушкин весьма проницательно комментирует «антипрофессорские» высказывания Полевого. Действительно, И. Бенигну вроде бы раздражают «академические» сетования Каченовского («законы словесности молчат при звуках журнальной полемики»), стремление последнего привнести профессорские интонации, научную терминологию в литературные споры: «Надобно, чтобы голос их <т. е. «законов словесности»> доходил до слуха любознательного»[117].
Однако не следует забывать, что после обращения Каченовского в цензуру с жалобой на С. Глинку Полевой не только не умолк, но наоборот – в целом ряде журнальных материалов прокомментировал свою позицию весьма недвусмысленным образом. Он выступает не против учености как таковой, но против учености ложной и педантской. Каченовский обвиняется не в излишней склонности к теории как таковой, но в научной некомпетентности, отсутствии серьезных трудов[118]. Значит, противостояние журнала Николая Полевого «университетским» изданиям конца 1820-х годов в принципе не является знаком его оппозиции любой литературной теории. Критики «Телеграфа» порицают ложную (классическую, оторванную от требований современности) ученость, а взамен предлагают не что иное, как сугубую («правильную», «современную») ученость.
Н. Полевой во многих выступлениях специально подчеркивает значение науки и научности для современной литературы и журналистики. «Что же в наше время должно быть целью русского литературного журнала?» – спрашивает издатель «Телеграфа» и отвечает: «Литература распространила свою область и, питая просвещенное уважение к понятиям и к произведениям древних, присоединила к умственному богатству своему опыт времен средних и новых. ‹…› Прежде ‹…› хирург был хирургом и не хотел думать ни о чем другом; литератор учился по-латыни, по-гречески ‹…›. Ныне естествоиспытатель и законовед столь же тщательно заботятся о своем литературном образовании, сколько литератор старается войти в область их наук»[119]. Таким образом, ответ на вопрос: «Чем должен заниматься русский журналист?» ясен: «Он должен выставлять в истинном свете устаревшие ложные понятия, мнения, поверья и притом излагать новые взгляды великих критиков. Он должен уведомлять о новых явлениях, представляющих новые завоевания в области наук»[120].
Итак, на рубеже 1820–1830-х годов в московской журналистике установка на изучение объективных законов литературного развития не просто является доминирующей количественно (исходя из преобладания журналов, издававшихся близкими к университету литераторами). В журнальной полемике действует своеобразный «закон обратной пропорциональности»: чем более тот или иной литератор далек от университетских кругов, чем более непримиримо он порою высказывается об ученом «педантстве», тем с большей долей вероятности можно ожидать, что именно этот журналист, критик предложит собственный вариант теоретического осмысления литературы. В случае с Н. Полевым следует учесть, конечно, и многие психологические обстоятельства: болезненные эмоции по причине купеческого происхождения, отсутствия систематического образования и т. д. В подчеркнутом стремлении не только быть на высоте достижений науки, но и самому создавать фундаментальные труды – немало напускного, поверхностного. Самый яркий пример – нападки Полевого на Карамзина и написание в полемике с ним собственной «Истории русского народа» – книги, по мнению многих, путаной и торопливой[121].
Однако выводить стремление Полевого и его журнала к логически и терминологически продуманным рассуждениям о литературе только из обстоятельств биографических было бы вовсе не правильно. Потому, например, что на страницах «Московского телеграфа» появилось в 1833 году одно из самых глубоких в ту пору рассуждений о природе литературного «направления», «партии». Ксенофонт Полевой писал: «Направлением в литературе называем мы то, часто невидимое для современников внутреннее стремление литературы, которое дает характер всем или по крайней мере весьма многим произведениям ее в известное, данное время. Оно всегда есть и бывает почти независимо от усилий частных. Основанием его ‹…› бывает идея современной эпохи или направление целого народа»[122]. В пору необыкновенной пестроты мнений и остроты полемических столкновений (нередко уже окрашенных в цвета московско-петербургского противостояния) именно в «Московском телеграфе» появился вывод о том, что «ее <литературы> направления бывают сообразны времени и месту, и в этом смысле никакие партии не могут поколебать ее»[123].
Рассмотрим другой пример неочевидного «литературного поведения». Схема во многом близка только что описанной: не имеющий непосредственного отношения к академической учености литератор не выступает врагом всякой «научности» вообще, но взамен отвергаемого варианта теории предлагает собственные теоретические построения. Итак, в сентябре 1832 г. Пушкин был приглашен товарищем министра С. С. Уваровым посетить с ним вместе лекцию профессора И. И. Давыдова. Выше уже говорилось, что Уваров придавал большое значение своим весьма частым приездам в Москву. Известно, что «граф[124] С. С. Уваров посещал университет в 1832, 1834, 1837, 1841, 1842, 1844, 1846, 1848 годах. Посещения ‹…› совершались обыкновенно при начале академического года и бывали всегда продолжительны, в течение сентября и октября месяцев. Не было, конечно, профессора, которого министр не выслушал бы с кафедры»[125].
Войдя с Пушкиным в аудиторию, где И. И. Давыдов читал лекцию, сановник произнес, видимо, «заранее приготовленную»[126] фразу: «“Вот вам теория искусства, – сказал Уваров, обращаясь к нам, студентам, и указывая на Давыдова, – а вот и самое искусство”, – прибавил он, указывая на Пушкина»[127]. Противопоставление «теории искусства» и «самого искусства» задумывалось как кульминационный момент назидательного спектакля, тщательно подготовленного Уваровым для юных московских словесников. Замысел Уварова был ясен и Пушкину. Непосредственно перед визитом он писал жене: «Сегодня ему слушать Давыдова, ‹…› профессора; но я ни до каких Давыдовых, кроме Дениса, не охотник – а в Московском университете я оглашенный. Мое появление произведет шум и соблазн, а это приятно щекотит мое самолюбие»[128]. В этом, словно бы походя высказанном признании (ему предшествует фраза «Иполит принес мне кофей») очень важно определение Пушкиным себя в качестве «оглашенного». В церковной традиции так называли тех, кто еще не принял крещение, а лишь подвергнут «оглашению», то есть первоначально ознакомлен с христианским вероучением – помимо церковных таинств. Для оглашенных допускалось лишь частичное присутствие на литургии. Именно ощущение «оглашенности», то есть собственной непосвященности в академические таинства, владеет Пушкиным накануне визита в университет[129].
Уваров намеревался публично продемонстрировать различие воззрений ученого, способного объяснить искусство, и поэта, которому дано сотворить его помимо разъяснений. Однако в аудитории события развивались не по министерскому сценарию. Возникла совершенно непредвиденная интрига: «После лекции И. И. Давыдова должен был читать М. Т. Каченовский. ‹…› В то время “Вестник Европы” уже прекратился, но еще у всех в памяти были, с одной стороны, грозные филиппики “Вестника” против Пушкина, а с другой – злые и бойкие эпиграммы Пушкина ‹…›. Поэт и его грозный Аристарх, не вспоминая прошедшего, завели между собою, по поводу читанной профессором Давыдовым лекции, разговор о поэзии славянских народов и в особенности о “Песни о полку Игорев<е>”. Этот спор, живой и одушевленный с обеих сторон, продолжался около часа»[130].
Сановный визитатор не преминул воспользоваться возникшей ситуацией в воспитательных целях: «“Подойдите ближе, господа, это для вас интересно”, – пригласил нас Уваров, и мы тесной толпой окружили Пушкина, Уварова и обоих профессоров»[131]. Однако возник вовсе не тот разговор, на который, по всей вероятности, рассчитывал министр. Вместо назидательного диалога «теории искусства» и «самого искусства» завязалась научная полемика, столкнулись две «теории искусства»: «Пушкин горячо отстаивал подлинность древнего эпоса, а Каченовский вонзал в него свой беспощадный аналитический нож»[132]. Отстаивая свою точку зрения, Пушкин продемонстрировал незаурядную осведомленность в предмете. И. И. Давыдов привлек к спору однокурсника Гончарова и Межевича – О. М. Бодянского, в будущем знаменитого ученого-слависта. Бодянский, «увлеченный Каченовским, доказывал тогда подложность Слова. Услыхавши об этом, Пушкин с живостью обратился к Бодянскому и спросил: “А скажите, пожалуйста, что значит слово харалужный?” Не могу объяснить. Тот же ответ и на вопрос о слове стрикусы. ‹…› “То-то же, говорил Пушкин, никто не может многих слов объяснить, и не скоро еще объяснят”»[133].
Неожиданный (но ощущавшийся «оглашенным» поэтом как возможный) экзамен был выдержан с честью. Саркастические наскоки на ученое педантство Каченовского более Пушкина не привлекали. Через несколько дней поэт дает жене беглый отчет о происшедших событиях: «На днях был я приглашен Уваровым в университет. Там встретился с Каченовским (с которым, надобно тебе сказать, бранивались мы, как торговки на вшивом рынке). А тут разговорились <с> ним так дружески, так сладко, что у всех предстоящих потекли слезы умиления. Передай это Вяземскому»[134].
Вполне корректный научный спор с Каченовским в университетской аудитории, разумеется, нельзя считать случайным для Пушкина событием. В начале 1830-х годов (в частности, после прекращения издания «Литературной газеты») Пушкин заново продумывает приоритеты собственной литературно-критической ориентации. Речь идет не о вхождении в некое новое литературное сообщество, но о пересмотре самих принципов оценки художественного произведения.
Критика, основанная на частном мнении, на личном вкусе, вызывает у поэта все большее недоверие своей неопределенностью и зависимостью от множества случайных партийных симпатий. Показательно письмо Пушкина Погодину от 11 июля 1832 года: «Мне сказывают, что Вас где-то разбранили за Посадницу[135]: надеюсь, что это никакого влияния не будет иметь на Ваши труды. Вспомните, что меня лет 10 сряду хвалили бог весть за что, а разругали за Годунова и Полтаву. У нас критика конечно ниже даже и публики, не только самой литературы. Сердиться на нее можно, но доверять ей в чем бы то ни было – непростительная слабость»[136].
А ведь всего за год-полтора до памятного спора с Каченовским Пушкин не раз высказывался иронически об «учености» московских университетских светил. Так, в письме Погодину от 27–30 июня 1831 года поэт писал: «Жалею, что Вы не разделались еще с Московским университетом, который должен рано или поздно извергнуть вас из среды своей, ибо ничего чуждого не может оставаться ни в каком теле. А ученость, деятельность и ум чужды Московскому университету»[137]. В предназначавшемся для «Литературной газеты» памфлете, условно именуемом «Альманашник» (1830), Пушкин высказался еще более резко:
«– Служба тебе знать не дается. Возьмись-ка за что-нибудь другое.
– А за что прикажешь?
– Например за литературу.
– За лит.<ературу>? Господи Боже мой! в сорок три года начать свое литературное поприще.
– Что за беда? а Руссо?
– Руссо ‹…› был человек ученый; а я учился в Московском университете»[138].
В 30-е годы отношение Пушкина к академической учености меняется коренным образом, он непосредственно приступает к реализации своих исследовательских замыслов в области русской истории («История Петра», «История Пугачева»), предпринимает поездки, архивные разыскания[139] и т. д.
Приведенные примеры из сферы «литературного поведения» призваны были подтвердить наше предположение о том, что определяющее влияние на развитие московской журналистики и литературной критики оказывали журналы, издававшиеся выпускниками и профессорами университета. Это влияние имело место и после 1830 года, когда многие «университетские» журналы перестали существовать. К середине 30-х годов было осознано и сформулировано различие между «московским» и «петербургским» типами критического рассмотрения литературы. Так, в известном пушкинском тексте, писавшемся в 1833–1835 годах и при посмертной публикации получившем название «Путешествие из Москвы в Петербург», содержится утверждение о том, что «ученость, любовь к искусству и таланты неоспоримо на стороне Москвы. Московский журнализм убьет журнализм петербургский. Московская критика с честью отличается от петербургской. Шевырев, Киреевский, Погодин и другие написали несколько опытов, достойные стать наряду с лучшими статьями английских Reviews, между тем как петербургские журналы судят о литературе, как о музыке, о музыке, как о политической экономии, т. е. наобум и как-нибудь, иногда впопад и остроумно, но большею частию неосновательно и поверхностно»[140].
Подобную дефиницию выводит и Гоголь в своей статье «Петербургские записки 1836 года», опубликованной в шестом томе пушкинского «Современника»: «Московские журналы говорят о Канте, Шеллинге и проч., и проч.; в петербургских журналах говорят только о публике и благонамеренности… В Москве журналы идут наряду с веком, но опаздывают книжками; в Петербурге журналы нейдут наряду с веком, но выходят аккуратно, в положенное время»[141].
Предпосылки отмеченных Пушкиным и Гоголем принципиальных различий между московской и петербургской журналистикой следует искать в университетских аудиториях. В Петербурге университетское преподавание было в гораздо большей степени обособлено от современного литературного развития. В историческом очерке В. В. Григорьева прямо отмечено, что «уровень преподавания в десятилетие с 1822 по 1832 гг. находился вообще на высоте весьма незавидной. Преподавателей, настолько владевших своим предметом, что в состоянии были двигать его собственными самостоятельными трудами, насчитывалось всего пять-шесть человек. ‹…› В остальной массе преподавателей ‹…› при отсутствии надлежащей ученой подготовки, при слабости способностей и немощи духа царствовало преклонение тому или другому, чужому или собственного мастерства учебнику, в котором заключалось почти все сокровище знаний самого преподавателя ‹…› От студентов не требовалось ничего, кроме заучивания этих учебников наизусть»[142].
В мемуарах и в официальных источниках часто специально отмечается слабость преподавания в университете русской филологии. Так, Ф. И. Фортунатов вспоминал: «Когда я поступил в университет[143], преподавание отечественного языка и словесности далеко не могло сравниться с преподаванием древних языков. В 1 и 2 курсах читал экстр<аординарный> проф<ессор> Никита Иван<ович> Бутырский, а в 3-м курсе орд<инарный> пр<офессор> Яков Васильевич Толмачев. В 1-м курсе обыкновенно проходилась теория прозы, во 2-м теория поэзии, а в 3-м профессор Толмачев должен был занимать студентов этимологическими исследованиями языка. ‹…› Страсть Толмачева к кор<не>словию и производству слов в иностранных языках от славянских корней известна была тогда всем. Приведу для курьеза один пример его корнесловия: это производство слова хлеб на разных языках. Сначала, говорил он, когда месят хлеб, делается хлябь; отсюда наше хлеб; эта хлябь начинает бродить, отсюда немецкое Brot; перебродивши, хлеб опадает на низ, отсюда латинское panis. Затем на поверхности появляется пена, отсюда французское pain. Кабинет производил он от слов как бы нет ‹…›: человека, который удаляется в кабинет, как бы нет»[144].
Плетнев (издавший свой очерк истории университета за четверть века до выхода в свет цитировавшегося выше труда В. В. Григорьева) гораздо более сдержан в характеристике преподавания отечественной филологии в конце 20-х годов. Во многом это объясняется деликатностью ситуации – ректор университета должен был высказывать мнение о своих предшественниках по кафедре. Однако, оставаясь предельно корректным, Плетнев находит для оценки лекций профессоров Бутырского и Толмачева гораздо более точные и определенные формулировки по сравнению с фортунатовскими или григорьевскими. «В отделении словесных наук кафедра красноречия, стихотворства и русского языка была разделена между профессорами Толмачевым и Бутырским. Первый занимал филологов этимологическими исследованиями языка. Теория словесности, изложенная в изданном им курсе, принадлежит к учению, основанному на примерах и правилах Древних. Получив сам образование в Киевской духовной академии и занимавшись долго преподаванием словесности в Харьковском коллегиуме и Александро-Невской семинарии, профессор Толмачев предпочитал формы и дух так называемого классицизма современным понятиям об изящных искусствах ‹…› Профессор Бутырский, слушавший в Германии лекции Бутервека, предпочитал Эстетику и Критику частным правилам сочинений. Он действовал на развитие вкуса вообще, но его труды по кафедре Политической Экономии препятствовали ему неуклонно следовать за всеми явлениями отечественной и иностранных литератур»[145]. Можно легко обнаружить немало общих черт в биографиях Н. Бутырского и Я. Толмачева, с одной стороны, и с другой – в судьбах их московских коллег-современников (образование в духовной академии получил Надеждин, многие москвичи совершенствовали свои знания в Германии и т. д.). Однако налицо и подчеркнутое Плетневым кардинальное различие: полный отрыв теоретических построений петербургских профессоров от литературной[146] современности.
В 1832 году Бутырского и Толмачева сменили Плетнев и Никитенко. Многое в преподавании изменилось, студентам нравились, например, живые рассказы Плетнева о последних литературных новостях. При этом особенно важным было то, что в роли рассказчика выступал не сторонний наблюдатель и аналитик, но непосредственный участник литературного движения. Подобно московским профессорам, Плетнев порою доброжелательно разбирал на лекциях произведения своих студентов[147]. Плетнев добросовестно пытался соответствовать роли профессора, выстраивал свои курсы по продуманной теоретической схеме[148]. Однако его заемные теоретические построения если и принимались всерьез во внимание, занимали в сознании читателей и слушателей обособленное место, не были напрямую связаны с образом Плетнева – литератора и критика. «Плетнев был самостоятельным критиком в том отношении, что не придерживался одной какой-нибудь определенной теории из выработанных в Западной Европе ‹…› Он руководился своим личным критическим чутьем, легкою способностью угадывать хорошие стороны в известных произведениях»[149]. Говоривший с кафедры о теоретических основах оценки произведений, на практике Плетнев избегал следовать каким бы то ни было теориям, полагался на вкус и эмпирическое, личное впечатление. По его мнению, критика должна не доказывать соответствие произведения неким тезисам, но идти вслед за непосредственностью производимого художественным текстом впечатления.
В отличие от Плетнева А. В. Никитенко совершенно всерьез пытался выстроить собственную теоретическую литературоведческую концепцию, ибо с самого начала деятельности «историко-критическое изъяснение произведений литературы он принял за основание своих лекций и соединил в них взгляд на успехи умственные вообще с характеристикою самого искусства, в переменах которого он показывает развитие духовной жизни нации»[150]. Кроме нескольких учебных руководств и монографий, посвященных общим проблемам теории литературы[151], Никитенко дважды (в 1836 и 1842 годах) произносил «в собрании» университета особые речи о литературной критике[152]. Однако теоретические воззрения Никитенко были абстрактны и подчас невразумительны, далеки от современной литературной практики, даже от его собственных (не всегда безнадежно посредственных) критических статей. С годами профессор все более превращался в оратора, проповедующего с кафедры некие рецепты благочестивой жизни, а вовсе не способы критической оценки произведений литературы[153]. Все это понимал сам Никитенко и, судя по многим данным, сознательно стремился к такому развитию своей педагогической деятельности. Вот дневниковая запись, относящаяся к 1841 году: «Главная задача моя в ‹…› слове, которое действовало бы на умы и пробуждало в слушателях стремление к высокому, к гуманному. ‹…› Мое естественное влечение – обратить кафедру в трибуну. Я желаю больше действовать на чувство и волю людей, чем развивать перед ними теорию науки. Мне кажется, что я больше оратор, чем профессор»[154]. Подобно Плетневу, Никитенко не только не создал алгоритма применения своих идей к реальной журналистской практике, но, наоборот, высказывал запоминающиеся, яркие критические суждения именно тогда, когда «забывал» о тяжелой риторике, выходил за пределы теорий и отдавался сиюминутному впечатлению от книги. По словам Ю. Ф. Самарина, «…г. Никитенко ‹…› систематического воззрения на предметы ‹…› не имеет. ‹…› Он пишет редко и немного. Теоретические соображения его почти всегда слабы и бесцветны: но его личные впечатления почти всегда останавливают на себе внимание»[155].
Нельзя не упомянуть и о третьем петербургском профессоре-журналисте – востоковеде О. И. Сенковском, популярном беллетристе и редакторе «Библиотеки для чтения». Здесь картина еще более ясная. Если у Плетнева и Никитенко критическая и преподавательская деятельность развивались «параллельными курсами» (не создавая сколько-нибудь самобытного и органичного целого, не провоцируя журнальной полемики), то в судьбе Сенковского профессорство и журналистика почти исключали друг друга, вернее, друг за другом следовали: редакторство «Библиотеки для чтения» практически отменило собою университетскую службу: «К началу 30-х годов ‹…› Сенковский совершенно охладевает и к университету и к своему положению в нем. Более того, он начинает тяготиться своими профессорскими обязанностями[156], как докучливым делом, отвлекающим его от журналистики, которая с 1834 года занимает все его внимание и время»[157]. Более того, в качестве критика Сенковский демонстративно не использует каких бы то ни было общих концепций, он создает «фельетонную» критику, стремящуюся к парадоксальным суждениям, основанным лишь на личном мнении. Отсюда парадоксальность многих выступлений Сенковского-критика, произвольные сопоставления творчества мировых классиков и современных беллетристов и т. д.
Как видим, теоретический подход к литературе в Петербурге 1830-х годов существовал только в стенах университета, за небольшими исключениями не представлял собою злободневного предмета для обсуждения в журналах. Теория не служила для литературно-критической практики точкой отсчета, не порождала стремления искать в литературных новинках неких «объективных» характеристик, а не просто подтверждений «партийных» доктрин. В отличие от Москвы, где в роли «теоретиков» нередко выступали литераторы, к университетской среде отношения не имевшие, в Петербурге, наоборот, даже профессора-филологи, участвовавшие в журналах, писали критические статьи, не сообразуясь с собственными научными построениями. Различие московского и петербургского критического «микроклимата» явным образом сказывается на деятельности многих литераторов, совершивших сакраментальное «путешествие из Москвы в Петербург» (В. Ф. Одоевского, Н. А. Полевого, Н. И. Надеждина, В. Г. Белинского и др.). Приведем один лишь красноречивый пример, связанный с первыми годами пребывания в столице Белинского.
В Москве «литературное поведение» Белинского во многих случаях укладывается в ранее выведенный нами алгоритм: литератор, ощущающий свою неполную причастность к университетской академической премудрости, полемизируя с последней, тем не менее, стремится стать «бо́льшим роялистом, чем сам король», завоевать репутацию знатока. Так, в 1837 году недоучившийся студент Белинский издает «Основания русской грамматики для первоначального изучения. Ч. I. Грамматика аналитическая (этимология)»[158]. В те же годы не знающий немецкого языка Белинский не только постигает при помощи М. Н. Каткова, М. А. Бакунина и В. П. Боткина философию Гегеля, но и претендует в течение некоторого времени на роль ведущего идеолога московских гегельянцев.
Переезд в Петербург в 1839 году означал для Белинского резкий отход от гегелевских диалектических схем – это общеизвестно. Атмосфера петербургской журналистики, как мы старались показать выше, не располагала к систематическим штудиям, литературная (а также эстетическая, философская) теория попросту не осознавалась в какой бы то ни было связи с журналистикой, не являлась для критиков проблемой. Однако некоторое время Белинский как бы по инерции и в Петербурге ведет себя как москвич, воспитанный на нескончаемых метафизических дискуссиях. В частности, задумывает обширный трактат под названием «Теоретический и критический (sic! – Д. Б.) курс русской литературы». Замысел по вполне естественным («петербургским») причинам остался нереализованным. Сохранились два фрагмента, которые должны были войти в раздел «Эстетика». Один – под условным названием «Идея искусства» – остался под спудом, другой – известная статья «Разделение поэзии на роды и виды» – анонимно напечатан в «Отечественных записках» (1841. T. XV. № 3. Отд. II. С. 13–64). Удивительные подробности об обстоятельствах написания этой статьи содержит письмо Белинского Боткину, датированное 1 марта 1841 года.
Экс-москвич Белинский колеблется между двумя противоположными устремлениями. С одной стороны – критик чрезвычайно резко высказывается о гегелевской систематике: «Я имею особенно важные причины злиться на Гегеля, ибо чувствую, что был верен ему ‹…›, мирясь с расейскою действительностью, хваля Загоскина и подобные гнусности»[159]. В своем неприятии логизированного, системного понимания мира Белинский порой едва ли не предвосхищает стилистику откровений Подпольного человека: «Благодарю покорно, Егор Федорович (обычная для участников кружка Станкевича пародийная русифицированная форма имени Гегеля – Георг Фридрих. – Д. Б.) – кланяюсь вашему философскому колпаку; но со всем подобающим вашему философскому филистерству уважением честь имею донести вам, что если бы мне и удалось влезть на верхнюю ступень лестницы развития, – я и там попросил бы вас отдать мне отчет во всех жертвах условий и истории»; «судьба субъекта, индивидуума, личности важнее судеб всего мира и здравия китайского императора (то есть гегелевской Allgemeinheit)»[160].





