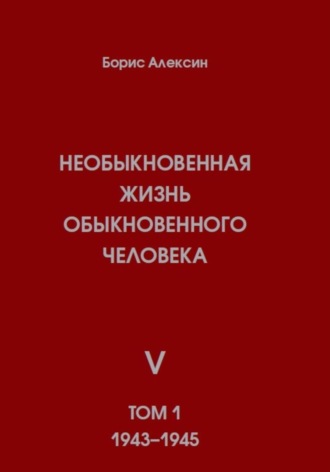
Борис Яковлевич Алексин
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 5. Том 1
Глава шестая
Итак, сельхозработы в госпитале закончились. Наступил октябрь. Раненых по-прежнему поступало очень мало. Борис Алёшкин почти всю свою энергию и время отдавал хозяйственным вопросам. Он тщательно проверял и осматривал все жилые помещения, запасы вещевого довольствия, продовольствия и медикаментов, имевшихся в госпитале. До этого, принимая госпиталь, подписывая различные ведомости и акты, он как-то не вникал в их сущность, ведь все они были заверены ответственными материальными лицами, и только теперь, так сказать, на свободе, перечёл их и пересмотрел всё с большим вниманием.
В результате он убедился, что почти за полуторагодовое стояние на одном месте, госпиталь сумел обрасти таким огромным хозяйством, что передвигать его куда-нибудь будет просто невозможно. Кроме того, основной фонд госпиталя – палатки за этот период времени, очевидно, ни разу не ремонтировались и пришли в такое ветхое состояние, что вряд ли выдержали бы переезд. У Бориса сразу возникла мысль о строительстве таких же каркасно-щитовых помещений, какие он уже с успехом применял в медсанбате. Поделился он этой мыслью со своим заместителем по хозчасти капитаном Захаровым, но тот отнёсся к этой затее скептически. Он таких строений нигде не видел и считал, что делать их кустарным способом, как это делалось в 24-м медсанбате, невыгодно и слишком долго. Пришлось бы искать хороших плотников, столяров и, самое главное, материал – фанеру, брусья, доски, гвозди и металлические изделия, которых в запасе у госпиталя не было.
Борис согласился с ним. Он понимал, что эта работа потребует много усилий и труда, но всё равно старался доказать преимущества таких помещений перед бревенчатыми бараками. В конце концов, они договорились, что Захаров будет искать соответствующих мастеров среди санитаров и выздоравливающих, попробует выпросить в штабе армии кое-какие материалы, и они, для начала, сделают хотя бы одно подобное строение. Но вскоре произошли такие события, которые нарушили все их планы.
Борис Алёшкин довольно быстро сошёлся со своим замполитом, капитаном Павловским, который оказался очень добродушным и простым пожилым человеком, очень мало разбиравшимся в военных делах и в медицине, но зато отлично знавшим и умевшим донести до каждого все вопросы международной политики, политические задачи, выдвигаемые нашей партией, и те конкретные задачи, которые возникали в воспитательной работе с личным составом госпиталя. До войны он работал одним из секретарей Выборгского райкома партии в Ленинграде, на фронт пошёл добровольцем и в госпитале находился с самого его основания. Уже в первые дни знакомства, когда Павловский кратко, но в то же время очень содержательно обрисовал каждого штатного работника, он затронул и тему многочисленных пар, имевшихся в госпитале. Он сказал так:
– Видите ли, товарищ Алёшкин, конечно, вся эта «любовь», а вернее, игра в любовь, продолжается с первых дней войны, держится до сих пор и постоянно возникает вновь. Первое время меня это как-то коробило. Как многие мои коллеги из других госпиталей и хозяйственных учреждений тыла нашей армии, я считал это вредным, действующим разлагающе на коллектив. Под моим влиянием бывший начальник госпиталя пытался с этим бороться: разлучали создававшиеся пары, наказывали их административно… Но из этого ничего не получилось, наоборот, в тех госпиталях, где продолжают с этим бороться, такое насильственное разлучение приводит к тайным встречам, обману окружающих, а в некоторых случаях и поискам нового партнёра или партнёрши. Так, в госпитале № 21 есть врачи, которые имели связь чуть ли не со всеми медсёстрами, есть медсёстры, которые встречались с несколькими врачами, шофёрами, поварами и другими работниками чуть ли не одновременно. Это привело к настоящему разврату, никакие наказания не смогли такой распущенности предотвратить. Мы же, по совету политотдела и санотдела армии, махнули на постоянное сожительство отдельных пар рукой. Пусть себе живут, пока молоды, пока их сердца достаточно горячи. И вот, по собственным наблюдениям могу сказать, такие пары и работают лучше, помогая один другому, и нет у нас в госпитале развратных девиц, готовых переспать каждую ночь с другим – прочные пары этого не допустят. Ну, а что будет дальше, мы пока предугадывать не можем. Может быть, из этих пар впоследствии образуются хорошие семьи, может быть, по окончании войны они сами собой распадутся, не будем гадать. Пока же воспользуемся тем, что если эти пары не трогать, то они работают и сохраняют дисциплину так, что многие могут позавидовать.
Борис слушал своего замполита, невольно краснел, смущался, но не посмел возразить что-либо, ведь он и сам находился в подобном положении. Он сказал:
– Вадим Константинович, мне трудно об этом говорить, вы ведь знаете, что у меня в тылу семья – жена, дети, но здесь у меня тоже есть женщина, так что я не уверен, сумею ли с этим бороться… Однако я считаю нужным предупредить вас, и буду этого придерживаться сам, чтобы все члены таких пар относились к своим служебным обязанностям так, как этого требует воинский долг, не считаясь ни со своим положением, ни с положением своего партнёра.
В первые же дни пребывания в госпитале Борис убедился: так работать хирургом, как он привык это делать в медсанбате, ему не придётся, по крайней мере, поначалу. В госпитале было два медицинских отделения. Во главе первого, так называемого черепного, стоял Н. Е. Чистович, начальник группы АРМУ, там лечили только раненых с проникающими ранениями черепа. Как правило, эти раненые попадали в госпиталь без какой-либо хирургической обработки на предыдущих этапах, и тут их оперировали впервые и по возможности полностью. Чистович – в прошлом ассистент одной из ленинградских клиник, квалифицированный нейрохирург. В его группу входили хирург-ЛОР, хирург-окулист, а из штатных работников госпиталя к этой группе для практики была прикреплена врач Феофанова (пара шофёра Лагунцова), которая, кстати сказать, к концу войны стала достаточно грамотным нейрохирургом. Здесь Борису Алёшкину делать было нечего, в вопросах черепной хирургии он разбирался слабо и оказать какую-либо помощь этому отделению, естественно, не мог.
Второе отделение занималось ранеными в грудь и живот, отяжелевшими в период эвакуации, задержанными эвакопунктом и направленными в 27 полевой госпиталь для оказания срочной помощи, выведения из нетранспортабельного состояния и подготовки к дальнейшей эвакуации в тыловые госпитали. Руководила этим отделением майор медслужбы Минаева, хирург с пятилетним стажем работы в районной больнице, в общей хирургии, молодая женщина, окончившая мединститут в 1941 году.
Здесь Борис мог бы с успехом применить свои знания и опыт, полученный во время работы в медсанбате, но так как раненых за это время поступало мало, то за все эти дни он успел сделать всего несколько операций: одну, которую мы описывали, при нагноении плевры раненому в грудную полость, а другую при тяжёлом перитоните. Но и то, что он эти операции проводил сам, подняло его авторитет среди врачей и личного состава госпиталя. Все они привыкли к тому, что начальник госпиталя даже не заходил в операционную, а его жена – «ведущий хирург», принимала участие только в перевязках. Тут, когда начальник сам прооперировал тяжелейших больных и добился в обоих случаях положительных результатов, для некоторых было весьма удивительно.
Борис же удовлетворения не чувствовал. После сравнительно бурной деятельности на всех поприщах в батальоне, огромной хозяйственной работы в связи с частыми передислокациями, а, следовательно, свёртыванием, перевозкой и развёртыванием учреждения иногда в считаные часы, после напряжённой хирургической работы, с редкими и короткими перерывами при отводе дивизии на переформирование, после постоянной угрозы бомбёжки или артобстрела, после разрывов бомб, снарядов и даже мин на территории медсанбата вблизи палаток, в которых он в это время работал, нахождение здесь, в госпитале, застывшем на одном месте на полтора года, ни разу не подвергавшемся артобстрелу или бомбёжке, получавшему незначительное число раненых, так как большинство их после сортировки в эвакопункте следовало во фронтовые и тыловые учреждения, создавало атмосферу какой-то успокоенности, неторопливости и как бы пребывания вне действующего фронта. Так, по крайней мере, казалось Борису Алёшкину.
В такой неторопливой, сонной, как шутил Игнатьич, жизни прошла большая часть октября 1943 года. 20 числа в санотделе армии было созвано срочное совещание. На нём начсанарм, не говоря конкретно о планах Военного совета армии, предупредил, что все, или почти все, армейские госпитали в самое ближайшее время должны будут передислоцироваться, многим из них придётся сменить и профиль своей работы.
Сануправление фронта решило все госпитали разбить на два разряда: первый – госпитали первой линии, которые будут работать рядом с медсанбатами и зачастую даже подменять их, и второй – госпитали второй линии, которые по существу будут выполнять те же функции, которые они выполняли и до этого. Возможны и такие варианты, когда госпитали первой линии, в силу сложившихся обстоятельств, превратятся в учреждения второй линии, а последние, перемещаясь вперёд за наступающими войсками, невольно превратятся в госпитали первой линии.
Николай Васильевич Скляров рекомендовал начальникам госпиталей провести соответствующие учения со всем медперсоналом и, главное, готовиться к возможно скорой передислокации.
По возвращении с совещания, собрав своих заместителей и ближайших помощников, Алёшкин изложил вкратце сообщение начсанарма и потребовал:
начать свёртывать пустовавшие палатки;
подготавливать и упаковывать всё хозяйственное и медицинское имущество, не находящееся непосредственно в употреблении;
организовать проведение теоретических занятий со всем медперсоналом с учётом возможности получения большого количества разнообразных раненых прямо с поля боя.
Выполнение последнего задания, в плане обучения врачей, ему пришлось взять на себя, а медсестре Шуйской поручить проведение аналогичных занятий с медсёстрами.
Первые два пункта выполняли капитан Захаров, заведующая аптекой Иванченко, начальник медканцелярии Добин и старшие медсёстры обоих медицинских отделений. В решении этих дел с первых же шагов возникли, казалось, непреодолимые трудности. Прежде всего, когда попытались свернуть одну из пустовавших более года палаток ДПМ, она рассыпалась буквально в прах. Дело в том, что с зимы 1942 года в госпитале были развёрнуты все 24 имеющиеся палатки ДПМ. Использовались они только первые дни, а затем большая часть их пустовала – необходимого количества раненых, чтобы занимать их, не набиралось.
Прежний начальник госпиталя Кучинский и его начхоз не догадались пустовавшие палатки просушить, свернуть и убрать на склад. Почему-то никто из работников санотдела армии, часто посещавших госпиталь, тоже не догадался подсказать им это сделать. Наоборот, всех умиляло и радовало наличие двух рядов палаток ДПМ, образовывающих аккуратную улицу, и внутренний вид каждой палатки, с застланными чистым бельём топчанами, создававшими весьма презентабельный вид.
Со стороны приезжавших это вызывало лишь одобрение, все полагали, что наличие большого фонда свободных коек позволит госпиталю в нужный момент оказаться на высоте.
Между тем развёрнутые палатки, которыми никто не пользовался, а их была добрая половина, постепенно портились. Зимой они не протапливались, летом не проветривались, и в результате их стены и крыши пришли почти в совершенную негодность.
Захаров и Алёшкин уже горько сожалели о том, что во время приёма госпиталя в документах удовлетворились лишь краткой формулировкой, что большая часть палаточного фонда служит с начала войны и требует ремонта. То, с чем столкнулся Захаров, пытаясь собрать всего только первую палатку, показало, что ни о каком ремонте не может быть и речи. В лучшем случае из палаток можно было выкроить куски брезента для ремонта других.
Решили все свободные палатки не трогать, а срочно их обследовать, составить акт на совершенно негодные, доложить об этом начсанарму и потребовать замены на новые. После тщательной проверки оказалось, что из 24 штук более или менее годными можно было признать 10–12, то есть палатки оперблока, четыре постоянно действующие госпитальные, две эвакуационные и две палатки, в которых жили шофёры и выздоравливающие.
После этой проверки Алёшкин и Захаров пришли к выводу, что положение госпиталя катастрофично: получив команду на передислокацию, собраться-то они смогли бы быстро, а вот развернуться на новом месте просто не в чем. Дополнительные помещения – бараки из толстых брёвен тоже для перевозки на новое место не годились, их, конечно, пришлось бы оставить на месте.
Взяв с собой акт, составленный 22 октября, Алёшкин вместе с Захаровым отправились в санотдел армии. Начсанарм, услышав доклад о плачевном состоянии палаточного фонда госпиталя, пришёл прямо-таки в ярость. Оказывается, с подобными заявлениями и актами к нему обратились начальники почти всех госпиталей. Для пополнения палаточного фонда требовалось такое количество палаток ДПМ, о котором он не смел и мечтать. Скляров знал, что на армейских складах есть небольшой запас новых палаток, но его не могло хватить и на четвёртую часть того, что необходимо, а ведь приходилось думать и о будущем.
Около получаса пришлось Алёшкину и Захарову выслушивать гневную проповедь Николая Васильевича Склярова. Немного успокоившись и понимая, что эти два новых человека уж никак не повинны в том, что палатки сгнили, и что, очевидно, свой гнев правильнее было бы излить на Кучинского, он сердито заметил, что следовало об этом заявить сразу, когда принимали госпиталь, а не сейчас, когда не сегодня-завтра ожидается переезд.
Однако, вероятно, перед двадцать седьмым полевым ставилась особая задача и, по-видимому, важная, поскольку, поостыв, начсанарм сказал:
– Ну, чёрт с вами! Раз вы такие рохли оказались, что не смогли состояние палаток разглядеть во время приёмки госпиталя, придётся вас выручать.
В глубине души он винил и себя, и работников своего аппарата, которые, часто бывая в госпитале, не подумали о сохранности такого важного имущества, как палатки. Конечно, говорить об этом своим подчинённым он не собирался.
Скляров снял трубку и, соединившись с членом Военного совета армии генералом Зубовым, попросил его о приёме вместе с начальником госпиталя № 27. Тот назначил время, и спустя три часа они были уже в приёмном отделении землянки генерала. Тот принял их довольно приветливо. Алёшкина он видел не в первый раз, и узнав, что именно он принял госпиталь № 27, поздравил его с вступлением в новую должность. Не успел начсанарм сказать о причине их прихода, как Зубов заметил:
– А это хорошо, что вы сейчас пришли. Только что на Военном совете принято решение о срочной передислокации ряда армейских учреждений. В первую очередь должен тронуться госпиталь № 27. Вот об этой дислокации сейчас и поговорим.
Не давая прибывшим вымолвить ни слова, он продолжал, развернув карту, лежавшую у него на столе:
– Товарищ Алёшкин, придётся вам к 10 ноября развернуться вот в этом районе, – он начертил кружок возле железнодорожной станции Назия. – Будете заменять медсанбаты тем дивизиям, которые там стоят и сейчас готовятся к решительному наступлению. Я полагаю, – он обернулся к начсанарму, – что целесообразно было бы сейчас медсанбаты этих дивизий свернуть частично, а то, что останется, пододвинуть вплотную к войскам, сдерживающим немцев на южной стороне коридора.
Мы уже говорили, что в январе 1943 года войскам Ленинградского и Волховского фронтов удалось прорвать блокаду Ленинграда, овладеть Шлиссельбургом и из района станции Назия проложить железнодорожную ветку, которая позволяла улучшить снабжение осаждённого города. Продолжая окружать Ленинград со всех других сторон, фашисты принимали отчаянные попытки ликвидировать этот коридор, как его называли в наших сводках. Да он и на самом деле таким представлялся, в некоторых местах занимая в ширину всего четыре-пять километров. Его, конечно, беспрерывно подвергали артиллерийскому обстрелу так же, как и проходившие по нему поезда. Кроме того, соединения немцев, находившиеся на южной стороне коридора, почти ежедневно предпринимали атаки против тех частей Красной армии, которые занимали там прочную оборону. В связи с тем, что эти части несли ощутимые потери, их постоянно пополняли новыми.
Сохранение этого коридора было жизненно необходимым для города Ленина и воинских частей, оборонявшихся в нём с внутренней стороны блокадного кольца. К устью этого коридора и должен был передислоцироваться госпиталь № 27.
Начсанарм заявил:
– Не зная о сроках передислокации, в предвидении её мы начали готовить свои учреждения. В процессе подготовки выяснилось, что палаточный фонд, которым госпитали пользуются уже более двух лет, в значительной своей части требует замены. Имеющиеся у нас бараки, срубленные из брёвен, перевозить невозможно. Значит, необходимо срочно выдать новые палатки из того запаса, который имеется на складах армии. Поскольку госпиталю Алёшкина дана задача сняться первому, то я и прошу вас распорядиться о выдаче ему 14 палаток ДПМ и одной палатки ППМ.
Зубов посмотрел на заявку, предусмотрительно составленную Алёшкиным и Захаровым заранее, и слегка поморщившись, сказал:
– Товарищ Скляров, вы же знаете, как ограничен фонд этих палаток, имеющихся в нашем распоряжении, знаете и то, что пока и фронт, и Главное управление Красной армии в пополнении палаточного фонда нам отказали, с этим приходится считаться. Сейчас я позову полковника Киселёва (начальник хозотдела армии) и мы решим, чем можем помочь.
Кликнув адъютанта, Зубов приказал ему вызвать к себе Киселёва, а когда через несколько минут тот явился, он молча подал ему заявку, полученную от Бориса. У начхоза высоко поднялись брови и округлились глаза:
– Товарищ генерал-майор, они что, с ума посходили? Им что же, весь наш запас отдать? А как же подготовка к наступлению?
Зубов улыбнулся:
– Это и есть часть подготовки к наступлению. Не будем зря заниматься словопрениями, подумайте, посчитайте и к вечеру доложите, насколько вы сможете удовлетворить заявку товарища Алёшкина. Я вам сообщу об этом, товарищ Скляров, а вы распорядитесь, чтобы они завтра выслали транспорт за палатками.
Он обернулся к Борису:
– Конечно, всё, что просите, мы не дадим, но кое-что получите. Кстати, вы говорили, что некоторые палатки ещё могут послужить, если их не перевозить. Так вот, передайте их тому госпиталю, который останется здесь, и, может быть, займёт ваше место. Товарищ Скляров, распорядитесь.
Киселев ушёл, а Зубов снова повернулся к Борису:
– Знаете что, товарищ Алёшкин, я бы на вашем месте завтра же поехал в тот район, который назначен для нового расположения госпиталя, обследовал его, выбрал конкретный участок и, не дожидаясь получения официального приказа о передислокации, начал бы помаленьку его обживать. А приказ вы получите денька через два-три.
***
На следующий день Алёшкин и Захаров ехали на своём «козлике» в район Назии. Прежде всего, Борис решил осмотреть местоположение своего медсанбата летом 1942 года. Он полагал, что там могло уцелеть несколько землянок, да и места под палатки ранее расчищались. Как он помнил, не доезжая до станции два-два с половиной километра, справа от шоссе, по направлению его прежней стоянки, отходила просёлочная дорога длиною около трёхсот метров, которая и приводила на территорию медсанбата. Они свернули на эту чуть заметную дорогу, по которой, видно, уже более года никто не ездил. Дорога оказалась достаточно хорошей, и Захаров заметил:
– Ну, место, кажется, будет подходящее.
Но стоило им приехать туда, где когда-то стоял шлагбаум батальона, как взору их представилась картина страшного разрушения. Очевидно, эта территория в прошлом году подверглась особенно сильной бомбёжке и артобстрелу. Воронки от бомб и снарядов буквально сливались между собой. Большинство деревьев, когда-то надёжно маскировавших территорию медсанбата, были разбиты в щепы или валялись, вывернутые с корнем. Не стоило даже и думать о том, чтобы расчистить это место, сравнять многочисленные ямы. На это потребовался бы месяц тяжёлого труда всего личного состава госпиталя. А потом, самое главное, размещение там госпиталя было невозможно и с точки зрения маскировки: все его сооружения были бы видны, как на ладони. Печально смотрел Борис на эти разрушения и думал: «Нас, в том числе и меня, спас счастливый случай! Не передислоцируйся вовремя мы отсюда к Александровке, этот массированный удар пришёлся бы на нас. Ведь, судя по всему, бомбёжка и обстрел проводились в сентябре–октябре прошлого года. Да, в счастливой рубашке мы родились».
Если Захаров смотрел на разрушения без особого удивления, ведь он в прошлом – строевой командир, прослуживший более полутора лет на передовой, всё это видевший не раз, то Лагунцов, работавший лишь в пределах госпиталя и армейских тылов, этой картиной был поражён и даже, очевидно, напуган. Алёшкин, заметив это, не удержался:
– Да вот, товарищ Лагунцов, на этом месте наш медсанбат стоял. Первая бомбёжка нас ещё здесь застала, несладко пришлось. А теперь нам к этому надо привыкать: будем госпиталем первой линии, значит, придётся находиться от передовой на таком же расстоянии, как и медсанбат, так что будем готовы ко всему… Ну, а здесь нам делать нечего, поедем искать другое место.
Они выехали на шоссе, проехали ещё полкилометра ближе к передовой и остановились. От станции Назия фактически остался только железнодорожный путь, ведущий к Шлиссельбургу, да маленькая, самодельная, сделанная из старых шпал будочка, в которой, видимо, и жил, и дежурил железнодорожник.
Подумав немного, Борис решил поискать какое-нибудь место слева от полотна железной дороги. Километрах в двух от шоссе виднелся небольшой лесной массив, его он и предполагал использовать. В направлении этого массива от шоссе не отходило дорог, поэтому найдя место, где кювет был менее глубоким, поехали прямо по целине. Хотя Лагунцов и протестовал, уверяя, что там наверняка болото и можно угробить машину, ни Алёшкин, ни Захаров на его протесты внимания не обратили. Они уже нашли подходящее место и только было собрались сворачивать с шоссе, как вдруг, шагах в пятидесяти от них, справа из кустов, с натужным завыванием мотора стала выбираться на шоссе полуторка, оборудованная под санитарную машину.
Остановив её жестом и подойдя к кабине, Алёшкин с радостью увидел знакомого шофёра Ряховского, служившего в его батальоне. Рядом с ним сидела незнакомая девушка-медсестра, очевидно, новенькая. Ряховский тоже обрадовался, увидев своего бывшего командира. Мы ведь говорили, что Алёшкин среди личного состава медсанбата пользовался большим уважением и любовью.
Остановив машину, шофёр выскочил из машины и чётко отрапортовал:
– Товарищ майор, санитарная машина перевозит эвакуированных раненых в эвакопункт в сопровождении медсестры Васильевой, всего шесть человек лежачих.
– Ну, зачем же так официально, товарищ Ряховский? Ведь я теперь не ваш начальник. Давайте закурим и пару минут поговорим.
Они присели на краю кювета и закурили папиросы, предложенные Борисом.
– Почему это вы сами вдруг стали раненых вывозить? Разве эвакопункт не присылает машины?
– Да нет, присылает, но нашему медсанбату приказано срочно разгрузиться, так как мы должны передислоцироваться. Эвакопункт не успевает всех увезти, мы ему помогаем. С передовой сейчас никого не возим.
– А далеко наш батальон стоит?
– Да тут, в леске, километра за полтора от шоссе. Каким-то чудом этот лесок уцелел. Кругом всё разбомблено, а этот участочек почти не тронут. Да вы, наверно, его знаете, там когда-то штаб стрелкового полка стоял.
Алёшкин припоминал это место, но очень смутно. Когда ещё он был начсандивом, посещая 50-й стрелковый полк, он больше обращал внимание на подготовку к развёртыванию ППМ, так как полк готовился к наступлению, чем на место, на котором стоял штаб полка. Однако у него сразу же возникла мысль осмотреть это место, об этом он и сказал Ряховскому. Тот, бросив скептический взгляд на их старенький «козлик», заметил:
– Боюсь, что на этом драндулете вы туда не доберётесь. Я вот и на полуторке едва-едва проезжаю. Тут от шоссе по кустам проехать нетрудно, а как только кусты кончатся, начнётся болото. На нём хотя и настлана лежнёвка, да она настилалась ещё в прошлом году, местами была повреждена снарядами. Мы её подлатали, но не очень надёжно, а сейчас, осенью, она и вовсе под воду ушла. По ней ехать приходится почти по ступицы в воде. Правда, болото это небольшое, всего с полкилометра будет, а дальше опять пойдёт нормальная дорога. Ну да увидите сами! Мне, товарищ майор, ехать пора, разрешите?
– Хорошо, отправляйтесь.
В этот момент мимо них на большой скорости промчался недлинный товарный поезд, влекомый довольно мощным локомотивом. Только он прошёл станцию Назия, как с немецкой стороны открылся сильный артиллерийский огонь. Очевидно, обстреливался и поезд, и железнодорожный путь. Не обращая внимания на разрывы снарядов почти рядом с движущимся составом, тот продолжал с прежней скоростью мчаться вперёд, к Ленинграду!
Почти одновременно заговорили пушки, миномёты и «Катюши», главным образом, со стороны берега Ладожского озера. Они стремились подавить огонь вражеской артиллерии.
Вдруг слева от шоссе, как раз в том леске, куда собирались свернуть Алёшкин и Захаров, что-то блеснуло, раздался сильный звук выстрела, и над их головами, где-то высоко, с противным шелестом пролетел, видимо, огромный снаряд, с гулом разорвавшийся в глубине немецкой обороны. Ряховский, ещё не успевший отъехать, крикнул из кабины:
– Это артиллерия резерва Главного командования недавно там обосновалась. Она даёт фрицам прикурить! Ну, я поехал, а то ведь и здесь может какой-нибудь «дурак» – или ихний, или наш – разорваться. Да и вы тут на шоссе не задерживайтесь, поскорее спускайтесь в кусты, к нашему медсанбату, там у нас тихо. Хотя такие обстрелы по два-три часа идут. Как проходит очередной состав, так и начинается. Ну да наши железнодорожники молодцы: при повреждении прямо всё моментом исправляют. А на паровозе всегда двойная бригада сидит. Если кого подобьют, замена тут же. Ну пока. До свидания, товарищ майор. До свидания, товарищи!
Ряховский сел в машину, дал газ, и вскоре только облако пыли уже в нескольких километрах от этого места указывало на путь уехавшей машины.
Последовав совету шофёра, съехал с шоссе в сторону кустов и Борис со своими спутниками. Действительно, среди кустов оказалась довольно сносная просёлочная дорога, тянувшаяся около километра. Но, едва кончились кусты, дорога пропала, на её остатки указывали глубокие колеи, направленные к пространству, сплошь покрытому водой. В нём кое-где плавали нетолстые брёвна, вокруг росли осока, камыши и виднелось множество кочек, покрытых блестящим зелёным мхом.
Лагунцов остановил машину:
– Как хотите, товарищ начальник, я дальше не поеду. Мы с «козликом» здесь утонем!
– Хорошо, – ответил Борис, выбираясь из машины. – Товарищ Захаров, пойдёмте пешком, тут, кажется, уже недалеко. А вы, товарищ Лагунцов, замаскируйте в кустах машину и постарайтесь обследовать дорогу, ведь всё равно вам по ней ездить придётся.
– Неужели, товарищ начальник, вы хотите госпиталь в такую дыру загнать? –воскликнул Лагунцов.
Алёшкин усмехнулся:
– А что же, по-вашему, его лучше развернуть рядом с шоссе, на открытом поле? Мол, нате вам, фрицы, цель, лупите со всех сторон! Можете быть спокойны, они так и сделают. Мы и суток не сможем простоять, как от наших палаток, да и от нас самих, одни лоскуты останутся. Нет уж, лучше с плохой дорогой смириться и постараться найти такое место, где нас с воздуха и со стороны видно не будет. Может быть, место, занимаемое медсанбатом, нам и не подойдёт, но, очевидно, что развёртываться надо где-то здесь, неподалёку. Лезть на ту сторону, где артиллерийские позиции находятся, нам не с руки. Я уже раз это попробовал, больше не хочу.
Борис невольно вспомнил, когда часть его медсанбата, подчиняясь не совсем обдуманному приказу командира дивизии, расположилась возле плацдарма, занятого у Невской Дубровки, и попыталась обосноваться на берегу Невы, почти рядом с артиллерийскими позициями дивизии. И как при первой же артиллерийской дуэли от палаток и землянок батальона полетели в разные стороны куски, а из находившихся там людей уцелела половина.
Около болота валялось много палок и шестов, служивших, очевидно, для вытаскивания застрявших машины, а, возможно, и опорой для тех, кто преодолевал препятствие вброд, как собирались сделать это Алёшкин и Захаров. Они взяли по увесистой палке и смело шагнули в воду. Хотя их хромовые сапоги и были почти новыми, но они, конечно, не предназначались для таких путешествий. Однако делать было нечего, приходилось идти.
Борис, опираясь на палку, пошёл вперёд. При первых же шагах он ощутил под ногами, на глубине 15–20 сантиметров относительно прочную связку брёвен обыкновенной лежнёвки, идти по ней оказалось нетрудно. Лишь в трёх местах он заметил ямы между брёвнами шириной немногим более полуметра. Опустив туда шест длиной около двух метров, дна он не достал. Перепрыгнуть яму труда не составляло, но, конечно, если бы в неё попали колёса машины, то вызволить её было бы не просто.
По противоположному краю лежнёвки двигался Захаров. Он тоже обнаружил несколько аналогичных ям. Тем не менее этот неприятный участок длиною около ста метров они преодолели за каких-нибудь десять минут. Учитывая то, что они шли по нему впервые, одновременно обследуя его, пытаясь оценить его состояние, времени затратили немного.
Выбравшись на сухое песчаное место, они бросили шесты и уже скоро по хорошо наезженной дороге углубились в густой смешанный лес, в котором преобладали ели и сосны. А ещё минут через пятнадцать у шлагбаума их остановил часовой медсанбата. Этот красноармеец из числа выздоравливающих не знал в лицо Алёшкина и вызвал сигналом – ударом по подвешенному на ближайшем дереве куске рельса – дежурного. Им оказался Скуратов, который встретил Бориса с распростёртыми объятиями. Они прошли в центр медсанбата, где располагался домик командира. Это был не старый, бревенчатый, а новый, сделанный, как и лечебные помещения, из фанерных щитов, в котором Алёшкин так и не успел пожить. Он состоял из двух комнаток и небольшой кухни, которая служила и жильём ординарца.







