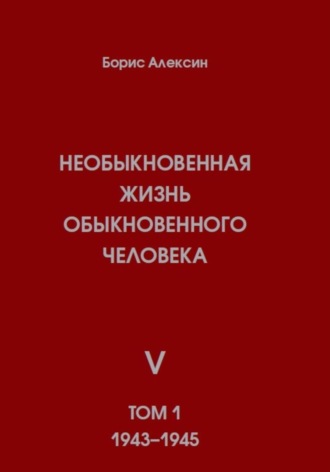
Борис Яковлевич Алексин
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 5. Том 1
Глава двенадцатая
Новое месторасположение госпиталя оказалось очень неудобным – пришлось развернуться в мелком осиновом и берёзовом леске на болотистой местности. Никаких вспомогательных построек возвести не удалось: не было подходящего материала, да и времени не хватило. Сразу же по прибытии на новое место стали поступать раненые в среднем по 150 человек в день. Большинство из них требовали серьёзных полостных операций – лапаротомий. Хирургов, включая начальника, способных проводить такие операции, в госпитале было трое, работать пришлось очень напряжённо. Для размещения прооперированных поставили все имевшиеся палатки и установили в них двухъярусные койки из вагонки. Как часто происходило, своевременный вывоз раненых из госпиталя организовать не смогли.
Значительные трудности возникли и с получением стерильных растворов для внутривенных введений. В сутки их требовалось до ста литров, а имевшийся аптечный перегонный аппарат позволял получать всего 25 литров дистиллированной воды. Пришлось тут же, на ходу, изобретать новый перегонный куб, используя самую обыкновенную полевую кухню.
В этот период Алёшкин спал не более двух-трёх часов в сутки, и за 12 дней основательно измотался. Жил он в небольшом шалаше из плащ-палаток, устроенном стараниями Игнатьича. Шуйская с 39 госпиталем осталась на старом месте, около деревни Кривая Лука.
Борис уже успел отвыкнуть от таких некомфортабельных жилищ, не хватало ему и женской заботы. К концу этой передислокации он свалился с высокой температурой. В течение двух дней она спала, но именно тогда он впервые почувствовал боли в области сердца. Батюшков выслушал его и прописал ландышевые и валериановые капли – других медикаментов для лечения сердца в его распоряжении не было.
По правде говоря, начальнику госпиталя и болеть, и лечиться было некогда. 29 июля, имея в своих палатках более 120 нетранспортабельных раненых, госпиталь получил распоряжение срочно передислоцироваться на противоположный – левый берег реки Нарвы, где уже имелся захваченный нашими войсками плацдарм глубиной около трёх километров и протяжённостью 15–17 километров.
Начав эвакуацию всех нетранспортабельных раненых на носилках в развернувшийся на расстоянии километра эвакогоспиталь, двадцать седьмой полевой хирургический одновременно приступил к переезду.
Переноска раненых проходила трудно. Тропинки, по которым приходилось идти, пролегали по болоту, санитары-носильщики могли нести носилки без отдыха на расстояние не более двухсот метров. Чтобы перенести одного раненого, требовалось более получаса, поэтому для этой работы пришлось выделить большую часть медперсонала госпиталя, главным образом, дружинниц и медсестёр. Оставшиеся мужчины-санитары и несколько человек выздоравливающих свёртывали палатки, укладывали их на машины, грузили продовольствие и остальное имущество госпиталя.
Наступление армии развивалось успешно. Части 109-го корпуса форсировали Неву и продолжали расширять плацдарм на левом берегу. Вследствие этого госпиталь № 27, обязанный принимать всех раненых этого корпуса, по решению санотдела армии должен был передислоцироваться не на 15 километров вперёд, в лес на правом берегу Нарвы, а на 25 километров – на левый берег реки, в район захваченного плацдарма около бывшей деревни Преда.
В момент прибытия госпиталя на это место от его расположения до передовых позиций было всего около двух с половиной километров. Тем не менее, надеясь на продолжение успешного наступления, по приказанию начсанотдела корпуса, 30 июля госпиталь развернулся и приступил к приёму первых раненых. Развернули палатки. Времени для рытья землянок не было, хотя грунт сделать это и позволял. Продовольственный и вещевой склады, так же, как и пищеблок, поставили под навес, сделанный из брезента.
Медицинское учреждение на левом берегу Нарвы вскоре обнаружили немецкие разведчики, и через два дня после развёртывания на территорию госпиталя был совершён артиллерийский налёт, выведший из строя две палатки и склад вещевого имущества.
Во время этого обстрела погибло пять человек из личного состава госпиталя, санитаров и дружинниц, ранено около двадцати медработников и повторно ранено более тридцати человек, проходивших лечение. После этого артналёта госпиталь беспрерывно продолжал находиться под миномётным обстрелом. Потери в живой силе и в материальной части продолжались.
С одной из первых машин, прибывших для эвакуации раненых, из госпиталя в эвакопункт приехал армейский хирург Брюлин. Как раз в этот момент происходил очередной миномётный обстрел. Увидев, в каком тяжёлом положении находится госпиталь, Брюлин связался с начальником санотдела корпуса и настоял на немедленной эвакуации на правый берег реки, в лес, в то место, где дислокация госпиталя предполагалась вначале.
В ночь на 2 августа, простояв на левом берегу несколько дней, приняв за это время около 250 раненых и потеряв треть личного состава ранеными и убитыми, а также две палатки ДПМ, госпиталь начал передислокацию в обратном направлении.
Это был очень трудный переезд, во-первых, потому, что дополнительный транспорт не выделили. Свои машины могли за один раз увезти едва ли пятую часть всего имущества, а вместе с ним нужно было перевезти около ста раненых, находившихся на излечении. Кроме того, на передовую, где фашисты, получив подкрепление, сумели организовать оборону и остановить наступление корпуса, почти беспрерывно следовали новые воинские части, и на единственном понтонном мосту, наведённом через Нарву, и подступах к нему постоянно скапливались пробки, останавливающие движение иногда на несколько часов, поэтому машины госпиталя, следовавшие, так сказать, против течения, вынуждены были простаивать часами. Таким образом, если на левый берег Нарвы 27 госпиталь переправился за одни сутки, проделав путь в 35 километров, то на переезд назад, на расстояние всего в десять километров, пришлось затратить целых три дня.
Прибыв на новое место, госпиталь получил распоряжение полностью не развёртываться, а лишь создать возможность оказания нужной помощи тем, кого привёз с собой. Поступление новых раненых почти прекратилось, это произошло потому, что медицинские учреждения соединений корпуса (медсанбаты), как только их дивизии своё продвижение вперёд приостановили, развернулись и начали принимать раненых, направляя их после обработки в госпитали второй линии.
В этот период госпиталь Алёшкина спешно приводил себя в порядок: получил из отдела кадров армии необходимое пополнение, отремонтировал повреждённые палатки (а дыры от осколков, иногда значительные, были почти в каждой). Для ремонта использовали остатки разбитых палаток, так как их восстановить уже было невозможно.
В лесу, также состоявшем преимущественно из мелколесья, построить каких-либо более или менее стационарных помещений, землянок и бараков не удалось. Все ранее привезённые части разборных конструкций пришлось бросить на левом берегу Нарвы, поэтому персонал опять ютился в шалашах, наскоро построенных из осиновых деревцев, переплетённых ивовыми прутьями. Сверху всё это укрывалось плащ-палатками.
В одном из таких шалашей жил и Алёшкин с Игнатьичем и Джеком, они опять остались втроём. За Сильвой через два дня после отъезда Тынчерова явился его Вася. Собака никаким образом не хотела забираться в машину, чем тот её только не приманивал. Пришлось Игнатьичу садиться вместе с ней, только так и удалось переправить её в штаб армии. Игнатьич рассказывал, что, когда он уезжал, Сильва, привязанная у дверей домика Тынчерова, металась, лаяла (чего с ней никогда не бывало) и даже выла. Он сказал Борису:
– Жалко мне её! Недолго она у нас побыла, а смотрите, как к нам привыкла.
В это время у Бориса было очень много работы, сперва –хирургической на участке, почти насквозь простреливаемом минами. Ситуация осложнялась потерей многих хорошо известных ему по прежней работе помощников и помощниц, утратой имущества, неимоверно трудной обратной передислокацией. Каждый рейс ему приходилось сопровождать самому, так как иногда только его майорские погоны и напористый характер позволяли пробиться колонне машин госпиталя на правый берег Нарвы сквозь части, следовавшие в противоположном направлении. Затем обустройство на новом, хотя и более безопасном, но крайне неудобном для размещения месте. Всё это требовало очень большого напряжения, а Борис, видимо, ещё не вполне оправился после болезни, перенесённой в июне, он стал чаще чувствовать боли в области сердца.
Так прошёл почти весь август 1944 года. К концу его с помощью приданной автороты 27 госпиталь вновь начал передислокацию, на этот раз на север, по правому берегу Нарвы, в район деревни Радовелли, где и остановился, выйдя на основную линию наступления 8-й армии.
От начсанарма Алёшкин получил приказ следовать за наступающими частями, не развёртываясь, до специального приказа или внезапной остановки корпуса. Наступление войск происходило стремительно, без крупных и длительных боёв. Раненых поступало очень мало, и их направляли в обогнавшие двадцать седьмой госпитали первой линии, а он продолжал двигаться в составе тылов корпуса, не развёртываясь, проделав за восемнадцать дней сентября более четырёхсот километров, пройдя Ленинградскую, Новгородскую и часть Псковской областей. Весь персонал госпиталя, в том числе и его начальник, за эти дни, не будучи чем-либо занятыми, сидя в машинах, лишь изредка делая недлительные привалы, главным образом, для приёма пищи или кратких ночёвок, основательно отдохнули. Правда, спали прямо на земле – тут же, под машинами, но стояла тёплая пора и не было дождей. У Бориса исчезли боли в сердце, он чувствовал себя вполне здоровым и работоспособным.
В середине сентября госпиталь вместе с частями армии передислоцировался на левый берег реки около города Нарва, и дальнейший путь продолжал по Эстонии.
Внимание всех, конечно, и Бориса, привлекла следующая особенность: пока госпиталь пересекал Ленинградскую, Новгородскую и Псковскую области, все населённые пункты (деревни, сёла, города) выглядели почти полностью разрушенными отступавшим врагом. Как мы уже говорили, от некоторых сёл оставались только печные трубы да таблички на досках, прибитых к воткнутым у дороги кольям, с названием села. В Новгороде едва уцелело два или три дома, почти так же был разрушен Псков, сильно пострадала и Нарва. В других городках разрушений было ещё больше.
Совсем другой вид имели населенные пункты Эстонии. Как только госпиталь пересёк старую границу Эстонии, он встретил совершенно не повреждённые войной города, сёла и отдельные хутора, даже стёкла в окнах домов были целы. Это создавало иллюзию того, что на этой земле как будто и войны не было.
Увиденное вызвало среди личного состава госпиталя много толков и недоумения, тем более что встречавшиеся на пути хуторяне относились к красноармейцам, и даже к девушкам –дружинницам и медсёстрам, настороженно и недружелюбно. Это поражало всех, потому что составляло резкий контраст с тем, как встречали госпиталь уцелевшие жители пройденных ранее областей. Вылезая из своих землянок, грязные, закопчённые, худые женщины, старики и дети со слезами на глазах обнимали девчат госпиталя, а получив от них хлеб, консервы или кусочки сахара, благодарили самым искренним образом.
Совсем не то было в Эстонии, здесь встреченные жители хуторов и городков ни в чём не нуждались, во дворах у них имелась и птица, и скот. Когда однажды медсестра, знавшая эстонский язык (на обращения по-русски почти все встречные отвечали «не понимай»), попросила одну из женщин, стоявших на крыльце, продать немного молока для заболевшей в дороге подруги, та ответила категорическим отказом.
Поначалу даже коммунисты растерялись от такого приёма, и лишь через несколько дней Павловский, побывав в политотделе армии, сумел объяснить суть дела. В начале войны, после прихода в Эстонию гитлеровцев, все эстонцы – рабочие и крестьяне, сочувствовавшие советской власти и в своё время требовавшие присоединения Эстонии к СССР – или эвакуировались в Россию, или были арестованы фашистами и высланы на работы в Германию. Оставшиеся хуторяне-кулаки чувствовали себя при фашистах неплохо, приход Красной армии они встречали без восторга. Сыграла большую роль и геббельсовская пропаганда, предупреждавшая оставшихся на месте эстонцев о грубом насилии со стороны Красной армии по отношению к тем, кто жил в оккупации. Этим и объяснялась холодность и даже откровенная неприязнь, c которой сталкивались работники госпиталя. Они настолько быстро двигались вперёд вместе с наступающими войсками, что не застали эстонцев, возвращавшихся из эвакуации.
Наконец, Алёшкин получил приказ остановиться и развернуться в каком-нибудь подходящем здании в городе Раквере Эстонской ССР. Этот небольшой городок находился примерно в 90 километрах от столицы республики, Таллина, и километрах в полутораста от города Нарвы.
Приказ получили 19 сентября около 22 часов. Срок развёртывания и начала приёма раненых дали до 8:00 21 сентября 1944 года. Колонна из 12 автомашин с имуществом и личным составом госпиталя в момент получения приказа находилась километрах в двадцати от Раквере, остановившись на ночёвку в небольшом лесу, где стояло штук десять маленьких щитовых домиков и несколько землянок. Внутри домов и вокруг них валялись газеты, журналы, обрывки бумаги, из которых можно было заключить, что в этом лесном посёлке ранее располагался штаб какого-то немецкого соединения, не успевшего вследствие поспешного отступления ничего уничтожить.
По имевшимся сведениям, немцы, как правило, бросали свои дома и блиндажи, предварительно заминировав их. Опасаясь такого же подвоха и здесь, Алёшкин и Захаров, остановив колонну на дороге, собрали свою группу минёров и отправились вместе обследовать брошенные помещения.
Откуда же взялись минёры в госпитале? Мы уже говорили, что во время длительной стоянки госпиталя около деревни Кривая Лука Борис в преддверии дальнейшего наступления решил подготовить небольшую группу из санитаров и шофёров, чтобы обнаруживать мины в расположении госпиталя, уточнять их количество, границы поля, и уметь разрядить (обезопасить) найденные мины. В качестве учителей использовали соседей-сапёров. Толчком к этому послужило минное поле, на которое наскочила машина госпиталя во время передислокации в Кривую Луку.
Санотдел армии одобрил эту инициативу. Алёшкин выделил в группу четверых санитаров и одного шофёра, Василия Николаева. Последний имел среднее образование, его назначили старшим группы. Ребята оказались способными учениками, и после полуторамесячных курсов овладели техникой нахождения и разряжения используемых в то время советских и немецких мин, в том числе и мин-ловушек, помещённых в портсигары, коробки из-под конфет, в консервные банки и тому подобное. Инструктор, проводивший занятия, выпросил у своего командира для этой группы миноискатель, правда, самый примитивный.
Николаев настолько хорошо усвоил преподаваемую науку, что начальник минного отделения сапёров даже хотел хлопотать о переводе его к себе, но протест начальника госпиталя, не желавшего лишиться квалифицированного шофёра, а теперь ещё и минёра, помешал этому.
Так вот, эта группа, за которой шли Алёшкин и Захаров, обследовала все домики и землянки и убедилась, что на этот раз никаких сюрпризов нет. Тогда Борис дал команду колонне госпиталя свернуть к посёлку, рассредоточить машины, кухням – приступить к раздаче ужина, Добину – выставить караул, а остальным – разместиться на отдых в помещениях, которые они сочтут для себя удобными.
Большая часть людей заняла домики, а кое-кто развернул свои плащ-палатки и устроил на полянах шалаши. Никому не хотелось ночевать в землянках, они все провоняли какими-то особо вонючими дезинфицирующими и дезинсектицидными средствами, которыми фашисты обрабатывали помещения рядового состава, но которые, видно, всё-таки мало помогали от насекомых. В течение последних дней в госпиталь работники Особого отдела приводили пленных немцев, нуждавшихся в перевязке. После них врачам и медсёстрам приходилось осматривать себя, так как вшей на пленных было настолько много, что они прямо сыпались из сменяемой повязки.
Пока Борис был занят расстановкой машин и отдачей всех распоряжений, которые мы только что описали, Игнатьич не терял времени. Он выбрал один из самых целых и красивых домов, возле которого, видимо, летом был разбит маленький цветник. Надо сказать, что в большинстве помещений оставались целыми и окна, и мебель: стулья, табуретки, столы и железные кровати. На одной из таких кроватей Игнатьич устроил спальное место для начальника госпиталя. Впервые с начала войны, то есть первый раз за три года, Борис спал ночью на настоящей кровати!
Во время ужина к Алёшкину явился нарочный с пакетом из санотдела армии. О его приближении дал знать лежавший у двери Джек, враждебно заворчавший. Всех своих он прекрасно знал и, хотя и следил за ними взглядом и никогда не выражал радости при их появлении, но в жильё, когда там были хозяева, пропускал беспрепятственно.
По поведению собаки Игнатьич сообразил, что к домику подходит кто-то чужой. Он схватил автомат и выскочил за дверь. А ещё через полчаса Алёшкин, собрав своих ближайших помощников, зачитал им приказ. Нужно было посовещаться, что делать. Решили, что в этот город Раквере, куда им предлагалось ехать и искать подходящее помещение, двигаться ночью не стоит, ведь никто не знал, что собой представлял этот город. Дорога, хотя и хорошо асфальтированная, изобиловала воронками, часть мостиков через небольшие речки была взорвана. Искать объезды, проложенные сапёрами, ночью очень трудно. По карте определили, что до Раквере от места их стоянки было менее тридцати километров, и если они выедут на рассвете 20 сентября, то прибудут в город не позднее вечера того же дня. До восьми утра 21 сентября будет вполне достаточно времени, чтобы успеть развернуть палатки операционного блока и, хотя бы по одной, для сортировки и госпитальной, а это уже обеспечивало начало работы госпиталя, позволяя принять первых раненых. Несколько смущало только выражение «подобрать помещения».
– Это что же, значит, мы не в лесу, а в самом городе стоять будем? – спросил наиболее осторожный Добин.
– Очевидно, так… – ответил Борис. – Это, между прочим, нам на руку, ведь в помещении мы сможем развернуться для работы в течение нескольких часов, даже если оно и полуразрушенное.
– Значит, наши дела идут хорошо, – заметил Павловский. – Ведь мы в лесах-то прятались главным образом потому, что авиации боялись. А вы заметили, что с тех пор, как мы по Эстонии едем, над нами ни один немецкий самолёт не пролетел? Значит, прижали их к земле наши соколы, поэтому и госпиталю разрешено развернуться в городе, в доме!
– Надо бы только помещение получше подобрать, – вмешался Захаров, – а то ведь такой приказ нам не одним дан. Товарищ майор, разрешите, я на «козлике» ночью туда поеду, с восходом солнца начну поиски помещения, и к вашему приезду встречу вас с готовым планом?
– Что же, – подумав, сказал Алёшкин, – поезжайте после ужина. Возьмите с собой двух санитаров с автоматами да Николаева, надо будет проверить помещение в отношении мин.
– Так там уже, наверно, армейские минёры все проверили, – возразил Захаров.
– Ну, нет, – возразил Борис, – я думаю, что армейским минёрам хватало работы по расчистке основного пути корпуса, а все помещения подряд вряд ли они обследовали. Бережёного Бог бережёт, так что не отказывайся от Николаева.
На этом недолгое совещание закончилось. Через час Захаров со своими спутниками отправился в Раквере, а остальные улеглись спать.
На следующий день, часов около двенадцати, колонна автомашин, перевозившая госпиталь, уже ехала по чистеньким, хорошо асфальтированным улицам маленького эстонского городка. При въезде их встретил Захаров, доложивший об успешном выполнении задания.
– Товарищ майор, почти в центре города есть большое трёхэтажное здание, когда-то в нём была гимназия, а затем всю войну стоял немецкий госпиталь. Выезжали они довольно поспешно, здание разрушить не успели, а, может быть, и не захотели. Только кое-где стёкла в окнах выбиты. Внутри, конечно, грязь страшенная, кучи мусора и вонища, как всегда, их дезрастворами. Кое-что из мебели осталось: столы, стулья, шкафы и, наверно, десятка три двухъярусных деревянных коек. Я думаю, что если наши девчата возьмутся как следует, то к вечеру мы уже сможем развернуть перевязочную и пару палат, а дня через два, вероятно, и пятьсот раненых примем. Вот с кухней плоховато, они, сволочи, стационарную всю растащили – и котлы, и плиту, ну да первое время можем на полевых готовить.
Подъехав к выбранному Захаровым помещению, Алёшкин увидел, что здание, расположенное на пригорке, окружено зелёной лужайкой и ровными рядами небольших деревьев, обрамлявших довольно широкую асфальтированную дорогу. Оно выделялось среди остальных строений Раквере, и Борис удивился, почему его не разбомбили с воздуха, откуда оно было хорошо видно. Лишь несколько месяцев спустя он узнал, что немцы вообще городок не бомбили, так как в 1941 году на этом рубеже Красная армия сопротивления не оказывала, откатываясь за естественную преграду – реку Нарва. Наша же авиация, хотя и бомбила многие населённые пункты, где дислоцировались фашистские штабы и спецподразделения, госпиталь не трогала, так как на его крыше был нарисован огромный красный крест. Борис знал, что наши лётчики уважали этот знак, а вот фашисты часто не считались с ним, а наоборот, больше бомбили. Поэтому все медучреждения Красной армии давно перестали рисовать красный крест на крышах своих палаток и машин, стараясь не привлекать внимания.
В то время, когда наша авиация на этом участке фронта совсем подавила фашистскую, можно было не опасаться налётов немцев, и Борис одобрил выбранное Захаровым здание, тем более что оно понравилось и ему.
Надо заметить, что и врачи, и медсёстры, с начала войны, то есть в течение трёх лет, привыкшие к землянкам и палаткам, после осмотра помещения бывшего немецкого госпиталя остались в восторге. А такие мелочи, как кучи мусора и несколько разбитых окон, никого не смущали.
Алёшкин дал команду колонне заезжать по одной машине, санитарам – приступить к их разгрузке, а медсёстрам и дружинницам – немедленно начать уборку того крыла здания, которое предназначалось для первой очереди госпиталя. Работа закипела.







