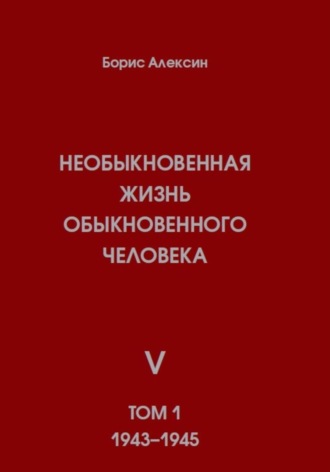
Борис Яковлевич Алексин
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 5. Том 1
Конфисковав все лекарственные препараты и сложив обратно в чемодан женскую одежду, Захаров по приказанию начальника госпиталя отдал чемоданы перепуганным плачущим женщинам и разрешил им идти домой. Схватив чемоданы, обе опрометью бросились к выходу.
Пока производился обыск и выгрузка лекарственных препаратов, Ася беседовала с эстонками. Они прекрасно понимали, что если бы за подобное преступление их задержали немцы, то им грозил бы расстрел или, по меньшей мере, концлагерь. Ася успокаивала их, объясняя, что русские на немцев совсем не похожи.
Так оно и оказалось. Забрав лекарства, явно не принадлежавшие женщинам, русские офицеры их отпустили. Вероятно, Борис не должен был этого делать, но он подумал: «Возись тут с арестованными, доставляй их в Особый отдел, канитель-то какая! Кроме того, тогда придётся сдать в санотдел всё, что у них отобрано, и ценные медикаменты уплывут из госпиталя. Лучше отпустить их». Поэтому он и отдал соответствующее приказание.
Но уже через четверть часа Алёшкин об этом пожалел. Ни он, ни другие врачи госпиталя, ни начальник аптеки Иванченко о большинстве изъятых медикаментов понятия не имели. Надписи на них имели названия, придуманные немецкими фармацевтическими фирмами, без перевода на латынь. В имевшемся у Иванченко справочнике нашей фармакопеи этих лекарств не было. Вероятно, эстонки через Асю сумели бы объяснить действие и назначение каждого препарата, но их, конечно, и след простыл.
Вызванный Эрнст, видевший этих женщин, подтвердил, что обе они работали при немцах в госпитале, а до этого – в аптеке больницы. Но где они живут, он не знал. Между прочим, по его словам, одна из них – немка, и почему она не эвакуировалась с остальным персоналом госпиталя, он не понимал.
Пожалел Борис о своём промахе, но жалеть пришлось недолго: случай помог Алёшкину через несколько дней разобраться со всеми этими лекарствами. А начало ему положила совершенно неожиданная встреча, которая произошла в этот же день.
В тот день обед для личного состава госпиталя и для раненых приготовили полностью из трофейных продуктов. Повара постарались, и все блюда имели отличный вкус. Но главное, что придало первому обеду в Таллине особый блеск, это сервировка.
В одном из подсобных помещений пищеблока Гольдберг раскопал целый склад почти совершенно новой фаянсовой и фарфоровой посуды, большое количество мельхиоровых столовых приборов и несколько ящиков стаканов. Естественно, что всё это им было немедленно пущено в дело. Ну, а Игнатьич не растерялся и подобрал комплект этой посуды и для своего начальника.
Когда Борис после бурного утра возвратился в свою комнату, на столе, покрытом белоснежной скатертью, тоже где-то раздобытой Игнатьичем, стояли настоящие фарфоровые тарелки, рядом лежала не только ложка, но даже нож и вилка (с начала войны последними двумя предметами Борис пользовался впервые). На небольшом блюде виднелся аккуратно нарезанный хлеб. Алёшкин, остановившись на несколько секунд в дверях, подошёл к умывальнику, вымыл руки и сел за стол. В этот момент явился Игнатьич, неся в вытянутых руках настоящую суповую миску. Поставив её на стол, он усмехнулся и сказал:
– Кушайте, чай, проголодались, а я пойду за вторым схожу, там чего-то такого повара из консервов наготовили, пальчики оближете!
Упрашивать себя Борис не заставил, пообедал с завидным аппетитом. На приглашение присоединиться к трапезе Игнатьич ответил отказом, заявив, что он на кухне с поварами уже так наелся, что и смотреть ни на какую еду не может.
После обеда, покурив и сняв сапоги и китель, Борис прилёг на кровать, чтобы немного отдохнуть. По расписанию, утверждённому им самим, ему предстояло работать в операционной с 17:00 до 24:00.
Из всех врачей, имевшихся в это время в госпитале, полостные операции и наиболее сложные на конечностях делали только начальник первого отделения майор медслужбы Минаева и он. Чистович оперировал только раненых в череп, остальные врачи могли лишь ассистировать или выполнять обычную обработку ран. За прошедшие три года войны весь старый врачебный костяк госпиталя, имевшийся в момент его формирования, рассеялся: часть врачей перевели начальниками отделений во вновь формируемые госпитали, часть погибла во время голода в Ленинграде, часть получила ранения и была демобилизована. Взамен им давали персонал из ускоренных выпусков 1941–1942 гг. и, как правило, из числа не имевших хирургической специализации. Требовалось их обучение, и оно не всегда происходило гладко. Естественно поэтому, даже такие молодые хирурги, как Алёшкин, считались уже опытными. Опыт у них, конечно, был ещё не ахти какой, но тем не менее наиболее способным из них, в том числе и Борису, приходилось брать на себя самую трудную и сложную хирургическую работу.
Поэтому, составляя расписание работы с расчётом нагрузки не менее 12 часов в сутки на каждого врача, Борис также включал и себя. В этот день он не успевал выполнить своей нормы, так как был чересчур долго занят административными делами. Хорошо ещё, что в помощь начальнику второго отделения хирургу Феофановой прибыл Чистович со своей группой. Теперь Борис был совершенно спокоен за всех раненых в голову, череп и лицо, а так как эти ранения, как правило, были не очень многочисленными, то Феофанова могла отвлекаться и для другого профиля.
Едва Борис улёгся на кровати с пружинным матрацем, как в ту же минуту крепко уснул. Он не слышал, как пришла Катя, как Игнатьич уговаривал её поесть и как она отказалась, сославшись на то, что уже успела пообедать вместе с сёстрами. Игнатьич ушёл, а Катя разделась и забралась в ту же кровать, где уже спал крепким сном Борис.
Надо сказать, что со времени её возвращения им ещё не приходилось оставаться наедине: то Борис был занят в операционной, и она ему помогала, то она должна была находиться в перевязочной, чтобы руководить гипсованием, ведь, кроме неё и Журкиной, ни одна сестра делать этого как следует не умела. Не могли научить этому сестёр и молодые врачи, так что Шуйской приходилось в нарушение всех правил работать чуть ли не по двадцать часов в сутки. Во всяком случае, так было в первые два дня. И сейчас молодая женщина, вернувшись домой (а это был её дом, так как Борис сразу же предложил ей поселиться в его комнате) и забравшись в постель, сразу же уснула. Она не слыхала, как в дверь кто-то тихонько постучал. Борис поднялся с постели и, стараясь не разбудить спящую Катю, подойдя к двери, тихо спросил:
– Кто там, в чём дело?
За дверью оказался дежурный по госпиталю, начальник канцелярии Добин. Он смущённо проговорил:
– Извините, товарищ майор, но к вам опять посетители! Какие-то два человека, одетые ещё в старую красноармейскую форму и со шпалами в петлицах. Они очень хотят видеть начальника госпиталя, говорят, что у них важное и срочное дело, что они врачи из лазарета военнопленных, и от разговора с вами зависит жизнь многих раненых, которые находятся там. Как прикажете?
– Я сейчас оденусь, – сказал Борис, – и выйду к ним. А вы проводите их в мой кабинет. Оружия при них нет? Могут ведь к нам фашисты диверсантов подослать.
– Кажется, нет, – ещё более смущённо пробормотал Добин.
– Проверьте и проведите их ко мне, да на всякий случай захватите с собой вооружённого санитара, – распорядился Борис.
Затем он вернулся в комнату, быстро обулся, надел китель и снаряжение с кобурой и пистолетом ТТ, надел фуражку и направился к двери.
Борис уже был в кабинете, когда Добин ввёл к нему людей. Они действительно были одеты в форму старого образца, хотя и чисто выстиранную, но очень поношенную, используемую уже несколько лет.
Вошедшие остановились у двери и, щёлкнув каблуками, как это делали обычно немецкие офицеры, представились:
– Военврач третьего ранга Рудянский.
– Военврач третьего ранга Халимов.
Первый был среднего роста, тёмный шатен, с карими близорукими глазами, подтянутый и, видимо, очень энергичный. Говорил он высоким звучным тенором.
Второй – высокий, рыжеватый веснушчатый мужчина с приплюснутым носом, толстыми губами и глазами какого-то неопределённого серо-голубого цвета, над которыми нависали густые рыжие брови, он говорил каким-то вялым густым баском.
Оба они выглядели очень худыми. Щёки у них ввалились, и обмундирование, очевидно, когда-то хорошо подогнанное по фигуре, сейчас висело на них как на вешалках. Представившись, они с ожиданием и некоторым удивлением уставились на Бориса.
Вначале эти пристальные взгляды даже смутили его, но потом он понял, что они рассматривают его обмундирование. Принимая этих посетителей так же, как наркомздрава Эстонии, он надел свой парадный китель, сшитый ему перед началом наступательных действий в портняжной мастерской Военторга из какой-то новой, как будто полученной от англичан, светло-зелёной материи вроде тонкого сукна. На его плечах красовались блестящие серебряные погоны с двумя красными полосами и большой серебряной звёздочкой между ними. На груди справа блестел орден Отечественной войны, а слева висела медаль «За оборону Ленинграда». Очевидно, эти люди такую форму видели впервые, так оно впоследствии и оказалось. Они уже встречались с новой формой Красной армии, но то была обыкновенная полевая форма – гимнастёрка с зелёными пуговицами, защитного цвета погонами, на которых были вышиты красные звёздочки.
Добин, молча наблюдавший, как Алёшкин, встав из-за стола, вежливым жестом пригласил посетителей занять стулья, обратился к начальнику:
– Товарищ майор, я не нужен? Разрешите идти?
– Идите, оставьте там санитаров в коридоре, может быть, мне что-нибудь понадобится, – ответил начальник госпиталя и стал усаживаться в своё небольшое кресло.
Всё это время его мучила неотвязная мысль: где он видел этого уже немолодого, невысокого сухопарого человека? Слушал его голос и ощущал какое-то смутное воспоминание, связанное с названной им фамилией. Это было тем более поразительно, что второй мужчина, как бы в полном контрасте, никакого волнения у него не вызывал.
Садясь, Борис тоже представился:
– Майор медслужбы, начальник хирургического госпиталя Алёшкин Борис Яковлевич.
Он достал из лежавшей на столе коробочки английскую сигарету, закурил её и пододвинул коробку к посетителям, предлагая закурить.
Прошло несколько минут в томительном молчании. Затем один из пришедших, тот, который был пониже, достал из кармана гимнастёрки сложенный вчетверо листок и протянул его Борису. Но прежде, чем взять бумагу, Борис бросил сигарету в пепельницу и вскочил. Его точно что-то осенило, он воскликнул:
– Как, вы сказали, ваша фамилия? Рудянский?
– Да, Рудянский, – удивлённо посмотрев на взволнованного майора, ответил тот.
– Борис Алексеевич?
– Да, – ещё более удивлённо проговорил Рудянский, очевидно, совершенно не понимая, откуда этот неизвестный ему военный врач Красной армии может знать его имя и отчество.
– Вы сын Алексея Михайловича Рудянского из города Темникова?
– Да, – вскочив на ноги, в полном изумлении в третий раз уже почти крикнул Рудянский. – А откуда вы знаете моего отца?
Борис усмехнулся:
– Да уж оттуда… Моя фамилия вам ничего не сказала? Конечно, где было вам, гимназисту восьмого класса, заметить какого-то первоклашку, восторженно наблюдавшего за вашими гимнастическими упражнениями? Ну, а такое имя, как Мария Александровна Пигута, вам ничего не говорит?
– Как же, как же! Её в Темникове все знали. Она была начальницей женской гимназии, затем какой-то советской школой заведовала. Папа с ней был хорошо знаком. В её гимназии моя старшая сестра училась… Ну, а при чём здесь она?
– При том, что она моя бабушка, и я у неё жил после смерти моей матери. Жил до самой её смерти.
– Ну, теперь я припоминаю… Дома был разговор о том, что у Марии Александровны очень молодая дочь-врач от рака умерла. Да, потом говорили, она и сама погибла от этой же болезни. Я на её похоронах был, как раз каникулы шли. Я тогда уже в Москве в университете на медфаке учился.
– Ну вот, видите, мы с вами земляки, значит, это же замечательно! Ведь через столько лет своего гимназического кумира встретить! Я-то помню, что последний раз виделся с вами ещё в гимназии, наверно, в 1917 или 1918 году, а сейчас уже 1944-й. С тех пор, значит, почти 25 лет прошло! Но как вы-то здесь очутились? И почему в такой форме? – довольно бестактно спросил Алёшкин.
Рудянский как-то сразу потускнел, его оживление и радостная улыбка, появившаяся во время рассказа Бориса о выявленном их землячестве, сменилась какой-то грустной гримасой. Он понуро опустился на стул и, указывая на бумагу, которую Борис всё ещё продолжал держать в руках, сказал:
– Прочтите, там всё сказано.
Борис развернул листок, очевидно, вырванный из полевого блокнота, и сразу взглянул на размашистую подпись, стоявшую внизу письма. Это была хорошо знакомый ему росчерк начальника Особого отдела армии (или, как тогда начали его называть, СМЕРШ) Скворцова. Алёшкин в своё время лечил этого подполковника (теперь уже полковника) в связи с ранением, которое тот получил, возглавив атаку одного из батальонов 65-й дивизии, потерявшего в бою командира, ещё под Невской Дубровкой. С тех пор они со Скворцовым были на дружеской ноге. Скворцова перевели в штаб армии почти одновременно с переводом в госпиталь Бориса.
Записка содержала следующее:
«Товарищ Алёшкин! Мы обнаружили около Таллина в одном из бывших баронских замков госпиталь наших военнопленных. К нашему удивлению, все раненые уцелели. Они оказались, хотя и очень истощённые, но хорошо ухоженные, хирургически обработанные. Все они уцелели только потому, что охрана госпиталя, состоявшая из нестроевых фашистских солдат, увидев стремительное наступление наших танков, бросила свои посты и разбежалась кто куда. Направленные для уничтожения раненых эсэсовцы, столкнувшись с нашими наступающими частями, были разбиты и также обратились в бегство. Все раненые числились рядовыми, но, как мы уже успели выяснить, кое-кто под видом рядовых был и из командиров, даже политработников. Все они утверждают, что своим спасением обязаны двум врачам, которые вручат тебе эту записку. Побеседовав с ними и узнав от них кое-какие подробности, я поверил в их благонадёжность и поэтому решил оставить их во главе этого госпиталя. Пока мы госпиталь взяли под свою охрану. У них очень плохо с медикаментами и с питанием. Они сами расскажут. Помоги им, чем можешь. С приветом. Скворцов. Подробности расскажу при встрече. 24 сентября 1944г.»
Прочтя эту записку, Борис понял всё. Он крикнул стоявшего за дверью санитара и приказал прислать к нему Гольдберга, Иванченко и Игнатьича. Первым явился Игнатьич.
– Вот что, Игнатьич, эти товарищи – мои друзья. Беги на кухню и притащи для них сюда обед, чай, хлеб, ну и «наркомовскую норму». Понятно? Чтобы через пять минут они могли здесь поесть.
Игнатьич мгновенно исчез.
Вскоре оба гостя с плохо скрываемой жадностью набросились на принесённые блюда. К алкоголю они не притронулись, но с нескрываемым наслаждением пили чай с черносмородиновым вареньем.
Тем временем в кабинет вошли Гольдберг и Иванченко.
– Сколько у вас раненых? – спросил Алёшкин у Рудянского.
– Около 250, – ответил тот.
– Вы слышали? – повернулся Борис к Гольдбергу и Иванченко. – Даю вам шесть часов на то, чтобы на это количество человек подготовить продукты питания, по крайней мере, на две недели, и медикаментов, и перевязочного материала. На одной из наших машин отправите всё это по адресу, который вам дадут эти товарищи.
Заметив, что Гольдберг пытается что-то возразить, Борис сурово перебил его:
– Товарищ Гольдберг, это приказ, обсуждению не подлежит! Действуйте. Машину будете сопровождать лично, об исполнении мне доложите, – Борис взглянул на свои часы, они показывали 17:00. – Я буду в операционной. Можете идти. Да, пошлите ко мне Добина.
Гольдберг вышел.
– Товарищ Рудянский, тут нашлось множество трофейных немецких медикаментов, своими силами мы с некоторыми из них не можем разобраться. Помогите нам! Заодно из них отберёте нужные и себе.
Вошёл Добин.
– Звали, товарищ начальник?
– Да, проводите товарищей на аптечный склад, побудьте там, а потом проводите их на улицу.
После этого он обернулся к гостям.
– Простите, товарищи, но меня, наверно, уже ждут в операционной, ведь у нас врачей не хватает, а так как я тоже хирург, то и несу своё дежурство в операционном блоке наравне со всеми остальными. Я вас очень прошу, товарищ Рудянский, завтра в это же время или немного раньше прийти ко мне, рассказать, как удовлетворили ваши нужды и как выполнены мои распоряжения, может быть, ещё что-нибудь потребуется. Если сумеем, постараемся помочь. Да мне и поговорить с вами хочется…
– Я буду очень рад с вами вновь увидеться, но я не знаю, пустят ли меня. Ведь ваши солдаты и один офицер заняли казарму охраны, выставили на вышках посты и никого из госпиталя не выпускают. Нас полковник (как мы узнали его звание, для нас, между прочим, такое непривычное) отпустил к вам под честное слово, но он уехал, а как поступит охраняющий нас офицер, я не знаю.
– Ничего, сейчас устроим, – сказал Борис.
Он взял бланк со штампом своего госпиталя, которые в своё время ещё в Ленинграде заказал его предшественник, и написал:
«Товарищ полковник Скворцов! Прошу военврача Рудянского отпустить в госпиталь № 27 для решения некоторых вопросов, связанных с оказанием медпомощи обнаруженным вами раненым. Начальник госпиталя № 27 майор медицинской службы Алёшкин».
– Вот, товарищ Рудянский, отдайте эту записку начальнику охраны, я думаю, что до завтра он успеет получить разрешение от полковника, и тогда вас выпустят. Ну а если не получится, то я потом вас всё равно вызову. До свидания.
С этими словами Борис поднялся из-за стола, протянул ладонь и крепко пожал руки гостей.
***
На следующий день, вскоре после обеда Игнатьич доложил прилегшему отдохнуть Борису, что один из вчерашних врачей его опять спрашивает. В этот день дежурство в операционном блоке у Бориса начиналось с 24:00, и весь вечер был в его распоряжении. Он решил подольше побеседовать с Рудянским. Ещё вчера он успел рассказать замполиту Павловскому и своему помощнику Захарову, с кем свёл его случай, и что ему очень интересно узнать подробности о своём земляке. Рассказал он им и о том решении, которое принял, чтобы помочь бывшим военнопленным.
Потребовалось это для того, чтобы получить оправдание своим действиям перед товарищами по партячейке, ведь мы знаем, что в то время слово «военнопленный» являлось позорным, и связь с таким человеком считалась делом недостойным.
Кстати сказать, это были первые военнопленные, с которыми столкнулся Борис. За всё время наступления, начавшегося в январе 1944 г., ни одного военнопленного в госпитале не видели. Больше того, не видели даже ни одного их лагеря: немцы торопились их уничтожить, сжечь, а людей угнать на Запад. Тех же, кого угнать не успели, как потом выяснилось, они убивали. Между прочим, в пригородах Таллина был обнаружен огромный костёр, сложенный из брёвен и трупов военнопленных, который фашисты подожгли. Он не успел сгореть, и, как рассказывали Алёшкину работники санотдела армии, видевшие этот ужасный костёр, похоронной команде одной из дивизий пришлось его разбирать и хоронить трупы несколько дней. Тем удивительнее было, как фашисты позволили работать госпиталю для раненых военнопленных и не уничтожили его.
Встреча с Рудянским для выяснения целого ряда подробностей была одобрена и Павловским, и Захаровым. Борис приказал Игнатьичу организовать чай и какую-нибудь закуску и проводить гостя в комнату.
Когда Рудянский вошёл и, сняв пилотку, остановился около двери, Борис пригласил его к стоявшему посреди комнаты столу и, усадив на стул, предложил закурить. Тот с наслаждением закурил папиросу «Норд», взяв её из лежавшей на столе пачке.
– Вот уже три года не курил русских папирос. В плену нам выдавали, да и то не каждый день, по две сигареты, набитых эрзац-табаком. Говорят, он из капустных листьев делается. Вот только с приходом ваших – нет, наших войск, разгромивших жилище бывшего начальника госпиталя, нам удалось получить в подарок несколько коробок настоящих гаванских сигар (у него их, оказывается, имелся большой запас), я и вам, товарищ майор, принёс одну коробку от нашего госпиталя, – с этими словами Рудянский поставил на стол небольшую коричневую коробочку, которую до этого держал в руках.
Тем временем был готов чай. Хлеб, печенье, колбаса, сыр и целая банка черносмородинового варенья украшали стол. Рудянский с удовольствием и ел, и пил. Чувствовалось, что давно он уже не находился в такой спокойной для себя обстановке.
С трудом дождался Борис конца чаепития, после которого обратился к своему гостю:
– Борис Алексеевич, вы позволите мне вас так называть? Нам с вами чинопочитание ни к чему. Меня тоже прошу называть по имени-отчеству. Расскажите мне, во-первых, как вы очутились в Таллине, а затем скажите, не нуждаетесь ли вы лично в какой-нибудь помощи.
– Да понимаете, Борис Яковлевич, уж очень не хочется ворошить это старое и такое тяжёлое, тем более что обо всём весьма подробно я изложил в докладной записке полковнику Скворцову, начальнику СМЕРШа.
– Кстати сказать, я ещё пока и не знаю, что это слово означает.
– СМЕРШ расшифровывается как «смерть шпионам», но мы все, да и они сами, больше привыкли к старому названию – Особый отдел.
– Вы меня простите, Борис Алексеевич, но то, что вы там написали, я не увижу. Расспрашивать Скворцова неудобно, а мне очень бы хотелось, да даже просто нужно, подробно знать вашу историю. Я ещё раз повторяю, что, может быть, я вам чем-нибудь помогу.
– Ну, хорошо, – вздохнув, сказал Рудянский, достал папиросу, закурил. – Тогда слушайте. В июле 1941 года начал формироваться наш медсанбат, в него вошли врачи различных московских клиник, в том числе и Института онкологии, где работал я. Ведь я окончил Первый мединститут ещё в 1922 году и был оставлен при нём на кафедре общей хирургии. В 1925 году перешёл в только что открывшийся Институт онкологии имени Герцена и работал там до начала войны. Наш медсанбат, где я был ведущим хирургом, придали одной из дивизий московского ополчения. В сентябре дивизия выступила из Москвы, заняла линию обороны где-то около Смоленска, туда же направился и наш медсанбат. Однако немцы прорвали линию обороны раньше, чем мы к ней подъехали, и мы наскочили на вражеские танки так неожиданно, что многие даже не успели повыскакивать из машин. Наша колонна в течение нескольких минут была разгромлена. Танки почти в упор расстреливали наши автомашины, хотя на всех имелись ясно обозначенные знаки красного креста. Пытавшихся убежать в лес (встреча произошла на лесной дороге) автоматчики, следовавшие с танками, расстреливали на ходу. Я и ещё несколько человек пытались спасать из горевших и опрокинувшихся автомашин женщин-врачей и медсестёр. Правда, вытащить удалось немногих, да и те почти все были ранены. Через несколько минут мы, а нас собралось врачей, санитаров и работников штаба, ехавших в случайно уцелевших машинах, человек сорок, были окружены немецкими автоматчиками, обезоружены (кое у кого, в том числе и у меня, имелись пистолеты), согнаны в кучу и отведены в сторону от горевших машин. В той стороне некоторое время раздавались автоматные очереди, а затем, когда всё стихло, к нам, уже разутым и почти раздетым нашими конвоирами, подошёл немецкий офицер, лейтенант, и на довольно чистом русском языке произнёс: «Кто вы есть? Комиссар?» – он ткнул в меня пальцем. Я ответил по-немецки, я довольно сносно знаю этот язык, ведь к началу войны я уже был кандидатом медицинских наук и сдавал экзамен по немецкому языку. «Нет, я врач-хирург», – и я показал белую повязку с красным крестом у меня на гимнастёрке. Если вы помните, в то время все медработники были обязаны носить такие повязки. «О-о! – воскликнул немец. – Вы говорите по-немецки, это хорошо. Будете переводчиком». Через меня он расспросил остальных (как потом выяснилось, спаслось 47 человек, всего в медсанбате было 224), кто и какой специальности. Ни одного из политработников медсанбата – ни комиссара, ни политрука в живых не осталось. Искал этот лейтенант коммунистов, но, хотя среди спасшихся и было несколько партийных, их не выдали.
– Наша встреча с танковой колонной произошла часа в два дня, а в шесть часов вечера меня и ещё одного врача-хирурга, раненого в руку, погрузили в нашу уцелевшую машину, с нами село двое немецких солдат, шофёр, конечно, тоже был немец, и нас повезли куда-то на запад. Предварительно нам отдали наши шинели, вещевые мешки, сапоги и пилотки, сорвав с них красные звёздочки. На станции Орша нас погрузили в какой-то поезд в товарный вагон, заполненный чуть ли не до отказа ранеными красноармейцами. Ехали мы целые сутки, в течение которых нас ни разу не выпустили из вагона и ни разу не дали еды или питья. Я и мой товарищ вскоре обнаружили, что среди раненых есть два фельдшера. Все мы оказывали помощь наиболее тяжёлым раненым, а главное, организовали их питание и обеспечение водой. У некоторых из бойцов не успели отобрать фляги с водой и вещевые мешки. Мы старались распределить продукты и, главное, воду так, чтобы поддержать силы наиболее пострадавших. Но всё равно к моменту выгрузки в вагоне находилось пятнадцать трупов. Однако это конвоиров, сопровождавших эшелон, не смутило, они приказали тем из раненых, которые были более или менее трудоспособны, вынести из вагона трупы и сложить их в кучу около железнодорожного тупика, где стоял эшелон.
– Как потом выяснилось, весь состав, вероятно, что-то около двадцати вагонов, был заполнен такими же ранеными, как и у нас, и потому очень скоро почти вся площадь тупика оказалась заваленной трупами. Затем нас построили в колонну, и мы отправились в тот замок, который наш госпиталь занимает и сейчас. Перед этой дорогой двое военнопленных не из нашего эшелона, а, видимо, из какого-то лагеря, принесли большой оцинкованный бак, наполненной вонючей бурдой. Впоследствии мы узнали, что это блюдо именовалось «супом из овощей». На самом деле он готовился из кожуры картофеля, кусков нечищеной свёклы и брюквы. Бурду эту разливали во что придётся, кое-кто брал её даже в пригоршни. Как мы узнали, многие из раненых не ели уже по двое и более суток. До замка от станции было километра три. Поддерживая друг друга, колонна раненых преодолела это расстояние за полтора часа. Некоторые ослабевшие, выскальзывая из рук поддерживающих их товарищей, падали на землю. Упавших и не способных подняться конвоиры пристреливали прямо на дороге. Во дворе замка нас встретил офицер в чине капитана с медицинской эмблемой. Около него стояло десятка полтора пожилых немецких солдат. Капитан вызвал лиц, понимавших немецкий язык, таких вместе со мной оказалось пятеро. Расспросив нас о наших специальностях и узнав, что все мы врачи, он презрительно хмыкнул, но в то же время, по-видимому, и обрадовался. Стоявшая перед ним толпа раненых военнопленных, числом до пятисот человек, очевидно, ему была противна, а работа с ними совсем не соответствовала его желаниям. Наличие довольно большого количества врачей ему было на руку, он понял, что всё касающееся медицины, он сможет спихнуть на них. После этого нам объяснили, что в этом замке гуманное немецкое командование устраивает специальный госпиталь для русских военнопленных, что капитан назначен главным врачом этого госпиталя, начальником, хотя ему и неприятно возиться с «русскими свиньями», но приказ он обязан выполнить. Он приказал всех раненых рассортировать по палатам. По просьбе германского командования эстонские женщины собрали пожертвования и оборудовали госпиталь кроватями и мягким инвентарём. Начальник предупредил, что за пропажу или порчу чего-нибудь провинившийся будет расстрелян. Затем он сказал, что в наше распоряжение выделена операционная и перевязочная, снабжённые всем необходимым, и мы должны показать своё мастерство. Всех вылеченных нами раненых отправят в Германию для работы на фабриках и заводах, они там будут получать хорошее питание и жить в хороших условиях. Врачам следует поселиться в отдельной комнате. Средний медицинский персонал подобрать из раненых, их тоже поселить отдельно.
– Далее капитан, назвавшийся господином Шварцем, сказал, что он будет посещать госпиталь раз в неделю и проверять работу русских врачей, и если при этом найдёт недостатки в работе медиков, то виновные будут подвергаться телесным наказаниям или отсылаться в общие лагеря военнопленных. «В моё отсутствие меня будет замещать мой помощник, – сказал Шварц и указал на здоровенного парня с хлыстом в руке, на эсэсовских петлицах которого виднелись нашивки ефрейтора. – Он будет вами управлять. И хотя он не доктор, но у него арийская голова на плечах, и если он увидит, что кто-либо из медиков делает не так, то он быстро наведёт порядок. Также он будет наблюдать за порядком и в палатах». При этих словах парень улыбнулся, показав жёлтые, прокуренные, какие-то лошадиные зубы, и выразительно помахал плеткой. Пришлось попробовать этого «лекарства» и мне, – невесело усмехнулся Рудянский.
Затем он продолжил свой рассказ:
– После таких переговоров Шварц вдруг повернулся к колонне раненых, часть которых в изнеможении опустилась на каменную мостовую (двор замка вымощен крупным булыжником) и сердито сказал по-русски: «Этот госпиталь назначен только для русских солдат и офицеров. Все евреи и комиссары должны выйти из строя! Большевики тоже!» Конечно, никто из строя, если можно было назвать строем толпу измученных голодом и изнурительной дорогой несчастных людей, не вышел. Шварц подождал несколько минут, затем саркастически улыбнулся: «Значит, большевистская пропаганда, как всегда, всё врёт! В газетах у вас пишут, что половина всех красноармейцев – коммунисты, а вот среди раненых их нет, значит, они за вашими спинами прячутся, боятся показаться!» Этих издевательских слов не выдержал один молоденький парень, очевидно, в прошлом политрук роты или батальона. На нём, кроме шаровар, не было ничего, грудь его была перебинтована грязным бинтом. Он вышел вперёд и, смело глядя на Шварца, сказал: «Большевики никогда не были трусами, и вот вам доказательство. Я большевик!» После этих слов Шварц позеленел от злости, махнул рукой, подозвал двух конвоиров и коротко бросил: «Увести!» Затем продолжал по-русски: «Я вас предупреждай! Если в палата найдётся один еврей, или один комиссар, или один большевик, вся палат будет расстрелян. Такой приказ». Во время выступления Шварца отобранные врачи, стоявшие отдельной группой, довольно испугано переглядывались. Дело в том, что до этого, полагая, что Шварц не понимает по-русски, они потихоньку переговаривались между собой о том, как бесчеловечно держать на улице под жарким солнцем на раскалённых камнях несчастных, изувеченных и утомлённых людей. Теперь выяснилось, что Шварц владеет русским языком. Но тот или на самом деле не слышал их разговора, или сделал вид, что не слышал, никаких замечаний им не сделал. По окончании своей речи, обращённой к раненым, он повернулся к нам и, изменив тон, даже как бы приветливо, сказал по-немецки, что мы можем пройти внутрь здания, распределить палаты, разместить в них раненых по характеру ранения, осмотреть операционную и перевязочную, разобрать имеющиеся там инструменты и материалы, подобрать себе фельдшеров и приступить к работе. Сказал он также, что первые дни кухню госпиталя будут обслуживать эстонские женщины из общества Красного Креста, изъявившие на это согласие, но как только появятся знающие и трудоспособные раненые, эту работу будут выполнять они. Легкораненым следует поручить должности санитаров. «В палатах и во всём помещении госпиталя должна быть идеальная чистота», – заявил на прощание Шварц.







