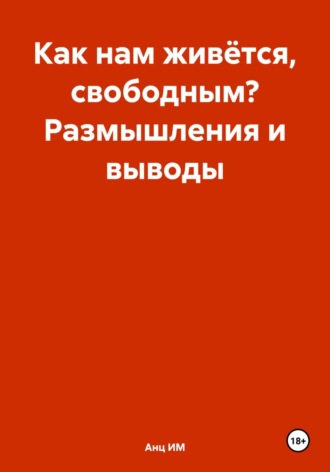
Анц ИМ
Как нам живётся, свободным? Размышления и выводы
В том же порядке и те же самые действия, как мы ещё не забыли, закреплены в ч.4 ст.29 основного закона РФ и тоже – в самом начале. Но ведь там говорится об информации обычной! Будет ли правильным «подчистую» уравнивать её с массовой информацией? Если – да, как это допускается многими из нас и, как увидим далее, – законотворцами – тоже, то не резонно ли отказаться от «повторного», дублирующего обозначения, хотя оно и у всех на слуху?
Весь казус в том, что по отношению к СМИ обычная информация – это, условно говоря, только сырьё, стартовый компонент, наподобие руды при производстве металла. А массовая информация, как таковая, рождается уже не иначе как непосредственно в «недрах» СМИ, в редакциях и студиях, будучи производима в них и больше – нигде. Соответственно операции, изложенные в законе о СМИ, надо рассматривать не как гражданский, а как только производственный оборот, что далеко не одно и то же. Очень важным становится вопрос об участии в таком обороте и правах на участие. Обойтись тут каким-то общим принципом нельзя уже только из-за того, что СМИ являются и производителями, и собственниками производимого.
Можно ли представить такое, что ввиду «специфичности» массовой информации в её деловом обороте участниками в нём должны быть все члены общества, как то происходит с обычной информацией в обороте гражданском – согласно конституции? Отрицательный ответ очевиден. Сама постановка такого вопроса неуместна.
Недоумение вызывает уже то, что потребителя вынуждают заниматься поиском и получением массовой информации на той части производственного оборота, где ещё нет продукции. Не логичнее ли было бы две первые операции ставить последними? Например, в виду вот такого рассуждения: Я могу (имею право), не думая ни о каком производстве, ни о каких медийных процессах, искать массовую информацию, то есть какую-нибудь радиопрограмму, газету, сайт и проч. или фрагменты их содержания, используя любой вид рекламы, википедию, услуги библиотек, советы знакомых и т. д. и если найду, то останется только по-своему распорядиться ею, заплатив, если нужно, её стоимость или приобретя без платы.
Законом о СМИ предусматривается другое. С какой целью? Равнение на конституцию? Но там участие в обороте ни для кого не ограничено, и тем самым гарантировано право на участие каждому, что совершенно справедливо. Для всех так для всех. Не будет разницы, кому, за что и когда браться. В том и свобода. Закон же о СМИ об этом не говорит. Вследствие чего я (который искал) в виде участника поиска могу только предполагаться, но реально им быть не могу, ведь по форме действие поиска для меня – не есть участие в индустрии СМИ, когда где-то мною найденное мне позволялось бы ввести в производственный оборот с надеждой иметь прибыль.
Те же последствия должны возникать с операциями «получения», «производства» и «распространения». По их предназначенности в цепочке производственного оборота ни одно из них с действиями, предусмотренными конституцией, не совпадает: из них изъята свобода для всех. И потому в правовом отношении я (искавший) оказываюсь тем субъектом, которому загодя отводится роль постороннего. Эта же точно роль уготована всему неограниченному кругу лиц – потребителям массовой информации, которые, правда, потребителями в законе не именуются: – с опцией потребления и здесь разобраться не поспешили.
Проблема ещё более обострена тем, что свобода массовой информации гарантируется конституцией России. Об этом сказано в ч.5 её ст.29.
Что обозначает такое утверждение?
Выше мы уже останавливались на свободе, когда она способна оказывать воздействие на форму предмета или явления. Полная свобода целиком нивелирует форму, уничтожает её. Предмет или явление перестают существовать, превращаясь в ничто. Норма конституции, к сожалению, не уточняет, в какой мере свобода массовой информации прогарантирована.
Россиянам остаётся понимать её безо всяких скидок: речь идёт о мере исключительной, полной или даже – полнейшей.
За всем этим, как велит логика, должны следовать многие неувязки в толкованиях значимости массовой информации – как предмета и понятия современной «прогрессивной» юриспруденции.
Ведь полное освобождение даже по отношению к человеку невозможно, на что уж велики здесь бывают его претензии (не забудем о ст.22 конституции РФ, где закреплено: «…каждый имеет право на свободу…»).
Его освобождают из-под ареста, от чьей-то зависимости, от угнетения, от нищеты. Если же его освобождать от его имущества, работы, от воздуха, от его собственного тела, от жизни, то он сам возопиёт от такой, с позволения сказать, свободы, не говоря уж о гарантии освобождения.
Полностью освобождённый человек был бы всего лишь фикцией, без каких-либо признаков не только человеческого, но и вещественного.
Если массовую информацию понимать как освобождённую ото всего, то это значит, что ею утеряна всякая стабильность. Нет никакой возможности разглядеть в ней форму, она – «разобрана». Это, «по результату», – «чистая» информация или информация «вообще», ничто. Кому она такая нужна? Что с ней делать?
Здравые люди не могли бы согласиться на её такую жалкую участь.
Разработчикам конституции, если бы они знали цену своему решению о гарантии, надлежало найти обоснованное оправдание, прикрывающее незадачу. Как выходило, к этому обязывал закон РФ о СМИ, который в первоначальном виде был принят российским парламентом за два года до принятия конституции и уже тогда содержал норму о гарантии свободы массовой информации.
Безусловно, тут сыграло свою роль время, и сочинившие прикладной закон «досрочно» и в легко извиняемой спешке (при отходе от эпохи неудавшегося коммунизма) попросту доверились широко разглашённым установкам так называемой западной демократии. Злосчастная формула, если и не в буквальном изложении, то по «духу» – уж точно, была позаимствована оттуда. Видеть что-то в ней плохое не приходилось, поскольку её употребление говорило о признании Россией западноевропейского правового образца и в целом образа тамошней жизни, а заявить об этом признании всем так хотелось…
Разработчики нормы основного закона также не устояли перед соблазном выказать здесь усердие. Она, эта норма, представлялась им и нужной, и привлекательной. И ответственный шаг был ими сделан. Не учли только того, что массовая информация в её трактовке в законе о СМИ имела целый ряд присущих ей конкретных признаков. В частности, ей предписано проходить все необходимые стадии производства, получения и распространения.
В таком виде она, хотя, как и в случае с обычной информацией, – без опции «потребления», – обладала своей «вещественностью» и своим особым значением.
Каким?
Подвоха, наверное, никто даже предполагать не мог. В России в девяностые годы века, предшествующего нынешнему, разговоры о свободе и общая эйфория не способствовали тому, чтобы избежать худшего. Однако оно не заставило себя ждать.
На медийном конвейере массовая информация приобретала черты и свойства товара!
Этого законодатели предпочли не заметить. Причин же такого отстранения было две, и обе они весьма существенны. Первая: дремучее незнание сути вопроса, связанного с пониманием термина и предмета свободы; вторая: слово о товарности мгновенно отсылало бы и законодателей, и всё население страны к пониманию свободы в обыденном, практичном смысле.
Нужна ли она товарам? Движению товаров – да. Но не им самим!
Иначе надо было бы освобождать оконные рамы, домашние тапочки, танки, бронежилеты, мины, корабли, музыкальные инструменты, книги, сковородки, столовые вилки и ножи, чипы и гаджеты, ночные – извините – горшки, извините ещё – купленных и продаваемых спортивными клубами атлетов и тысячи других товаров, что стало бы праздником абсурда.
Ввиду неумеренных парламентских амбиций, а также, что совершенно не исключено, – отраслевого или иного, в том числе, скажем прямо: зарубежного лоббирования правовой нормы, российскому обществу преподнесён наглядный урок того, как можно по-чиновничьи, «просто», не считаясь ни с чем, взять да и на полную, «до конца» «освободить» предмет, как бы имея в виду сверхнеобыкновенную государственную важность этого «прогрессивного» юридического актинга у себя в стране, а также, разумеется, в глазах мирового сообщества.
Живём по законам свободы!
Вникая в процессы сотворения и в содержание названных здесь законов, нам, как представляется, удалось установить, что и в конституции РФ, в ч.5 её ст.29, и в ст.1 закона о СМИ освобождённая массовая информация взята как бы сама по себе; – она как будто вовсе не относится к товарам. Иллюзию этой странной «игры» теперь можно, полагаем, считать устранённой, по крайней мере – в дискуссионном порядке, и в связи с этим уже определённо говорить о том, что свобода массовой информации как свобода товара провозглашена скрытно. Бесспорно и то, что она лоббировалась, – как показало время, в угоду чужим, не вполне благовидным интересам.
Если вспомнить о событиях первой половины девяностых ХХ столетия, когда президент России Ельцин измарал себя верноподданичеством и лебезой перед Америкой (США), а в его окружении и в правительстве РФ того срока работала не одна сотня иностранных советников, экспертов и консультантов «по развитию новой России» из ведущих западных стран, то становится понятным, откуда лоббирование могло идти основным «потоком» и шло на самом деле.
История, однако, всё расставляет по местам. Нынешняя американская гегемония на земном шаре, стремление США и их союзников сотворить из России, а также ряда других государств нечто вроде сырьевых колоний, территории без устойчивого государственного суверенитета, стремительно заканчивается. Вместе с нею должны угасать и принципы ложной западной демократии, её превосходства над миром.
Такое угасание нетрудно увидеть по эффективности правовых манипуляций с массовой информацией, на которую лоббисты могли рассчитывать. Их воззрения и соответственно консультации и предложения несли прозападную трактовку свободы этого предмета и термина и свободы в целом, но случилось то, что и должно было случиться.
Фальшивое не может быть подтверждено фактическим, реальным! Как не может и стыковаться, уравниваться с ними по смыслу.
Массовую информацию как товар хотя и возвысили бескрайней свободой, но тем самым только подтверждалось полное банкротство неуклюжих прозападных правовых представлений на этот счёт. Они, оказалось, годны лишь для произвольного манипулирования свободой где угодно, где что кому вздумается освободить.
Перед фактом очевидной фальши ещё не дошло до освобождения кем-то, скажем, луны или планеты Марс, но что опыт к тому у западной демократии накапливался, а она стоически мирилась, принимая рабовладение в США аж до второй половины ХIХ века, в этом сомневаться не приходится.
В её посрамление о многом должен был говорить хотя бы статус раба в древних племенах и государствах, в том числе в Древней Греции и Римской империи. Там превращённый в раба человек мог быть продан или куплен, стало быть, он служил товаром. Свобода для него исключалась.
Замечал ли кто такую неумолимость раньше, до нынешних дней? Конечно. Тут ведь аксиома. Но демократия Старого и Нового Света с этим считаться не пожелала, как и её недальновидные сторонники в других пределах земного шара.
В первой трети ХIХ века, на закате крепостного права в Российской империи, когда на её просторах ещё вовсю шла торговля принадлежавшими дворянам, чиновничеству и духовенству крепостными крестьянами, не иначе как на неё, на демократию западной Европы и США, опирался уже упоминавшийся нами Чаадаев, известный почитанием всего тамошнего. Он писал:
Посмотрите на свободного человека в России! Между ним и крепостным нет никакой видимой разницы.
И ещё он же:
…хотя русский крепостной – раб в полном смысле слова, он, однако, с внешней стороны не несёт на себе отпечатка рабства. Ни по правам своим, ни в общественном мнении, ни по расовым отличиям он не выделяется из других классов общества; в доме своего господина он разделяет труд человека свободного, в деревне он живёт вперемежку с крестьянами свободных общин; всюду он смешивается со свободными подданными империи…
(П. Я. Чаадаев. «Статьи и письма». Москва, «Современник», 1989 г., в переводе с франц. Д. Шаховского и Б. Тарасова, стр. 202, 203.)
Никакие отговорки здесь не помогли бы: чёрное называлось белым. Эту устремлённость к фальши, повергающую логику и здравый смысл, не смущаясь, можно именовать как родимое пятно захвалённой западной демократии, пятно, неимоверно разросшееся по её «телу» и охватившее её всю – как историческое явление.
Читатели вправе поинтересоваться: ну а что же с эффективностью? Не с той, на которую рассчитывали лоббисты, а – действительной, фактической, настоящей?
Скажем на это так: «одёжка» по «ихнему» образцу попросту не подошла к «фигуре».
Товарностью массовой информации её свобода отторжена́!
Товарность остаётся с нею и продолжает быть. Никуда не подевались нормы, которыми в законе РФ о СМИ регламентировано «поведение» средств массовой информации и обращение ими с массовой информацией как товаром.
Провозглашённой же свободы нет, как нет и гарантии, установленной конституционально. Они числятся, но их нет фактически.
И вроде бы ничего. Никакого урона ни для государства, ни для общества и народа из-за их отсутствия не случилось и ожидать не приходится. При условии их устранения из текстов правовых актов, они, акты, будьте уверены, продолжали бы работать! Не лучше, но и не хуже нынешних.
При тщательном редактировании законов не осталось бы также места подозрениям насчёт схожести массовой информации и обычной информации. Да, они схожи. А основное их различие в том, что обычная информация хотя и не всегда обладает товарностью, но в ряде случаев товаром, как уже говорилось, может быть, в то время как массовая информация представляет собою товар всегда.
Также не может остаться незамеченным то, что нигде, никогда и никем не делалось попыток дать свободу обычной информации, объявить её освобождённой. Это бы надо ценить особо. – Промашки с массовой информацией должны стать поучительными.
Незнание элементарных истин, касающихся манипулирования свободой, как видим, соседствует со здравомыслием, хотя в целом остаётся пока неустранённым досадное «проседание» официальной, государственной юриспруденции.
Вот тому пример: В ст.47 уже хорошо усвоенного нами закона РФ о СМИ о правах журналиста, сказано, в частности, вот такое:
Журналист имеет право:
искать, запрашивать, получать и распространять информацию…
(Статья приводится в сокращении.)
Невинное сходство с ч.4 ст.29 конституции РФ, не правда ли? Не сказано только того, что журналист имеет право свободно осуществлять перечисленные действия.
Здесь речь, конечно, – о его работе – с целью выполнить требование редакции средства массовой информации, где журналист состоит в штате или по её поручению как нештатник, – о предоставлении ей нужного «сырья».
В данном случае право исходит из наличия производственного оборота, в котором журналист участвует, то есть из его служебных обязанностей. Какая же тут свобода? Он, разумеется, не лишён и права конституционального, которым наделяется каждый гражданин страны.
Смешивая оба вида права, законодатель допускает ошибку, и она легко обнаруживается: явно неуместным в тексте закона о СМИ является право журналиста распространять обычную, немассовую информацию…
Таких натяжек в действующем правовом поле можно обнаружить множество.
Что касается опции или процесса потребления массовой информации, их отсутствия в наличном правовом пространстве, то в целом мы здесь предпочли бы исходить из тех же замечаний, которые сделаны в отношении обычной информации. Разница если и открылась бы, то совсем небольшая.
Нельзя, наконец, оставлять нераскрытым и вопроса о количественном соотношении двух видов информации – обычной и массовой. Которой из них больше? Ну, разумеется, – первой. Она существовала изначально, выражая собою в совокупности грани всего вокруг нас и в нас самих, всю структуру и многообразие известного нам мироздания.
Массовой информации, при её производстве (по меркам вечности начатом не так давно) хотя и нельзя обойтись без обычной информации как сырья, но претендовать на своё превосходство над нею по объёму она не может. Это вытекает из того, что очень многое просто не оказывается в зонах её освещения.
Так остаётся в залежах бо́льшая часть руды, потребляемой металлургией, и даже при заявленной (позволим себе такое предположение) полной её производственной выемке из разведанных недр там всё-таки некая немалая часть её всё же останется, а, кроме того, недра постоянно насыщаются ею, принимая новые поступления из глубин земли под воздействие сжатия пластов и других гигантских природных сил…
7. СВОБОДА ПРЕССЫ И ГЛАСНОСТЬ
Употребляемые в обиходе, оба эти понятия легко ассоциируются с понятием свободы слова.
Хотят что-то сказать о свободе слова, но не впрямую, а с целью при конструировании предложений в устных речах или в письменных текстах выразиться «поярче», вот и говорят по-иному, синонимично. Не всегда при этом точно передаётся то, о чём хотелось поведать, но это и неважно, поскольку ни к какой точности «перевода», как правило, никто и не стремится.
Ораторы или авторы записей, будь то простые участники уличных или площадных мероприятий или персоны во власти, а также – в культуре, в устных «вольных» дискуссиях обычно попросту щеголяют избытком своей лексической избирательности, сознавая, что кто-то подобное делал уже до них и их все пойму́т – «как надо». Семантика слов и понятий в таких ситуациях в расчёт не принимается, что вполне соответствует превратной значимости самой свободы слова, как исходной «величины», понимаемой опять же превратно.
Броское на вид словосочетание «свобода прессы» приобрело политизированный характер в связи с некоторыми препятствиями, которые чинились в отношении СМИ и журналистов за их воззренческие и творческие позиции, не совпадавшие с требованиями властей или в ряде случаев – с законами или нормативными правовыми актами. Могли быть и другие причины противостояния. Оно возникало ещё когда слово «пресса» употреблялось редко и обходились только словом «печать». В период до изобретения радио им широко манипулировала оппозиция разных толков. Например, отец марксизма, ещё когда он только отходил от гегельянцев, считал:
…призрачны все остальные свободы при отсутствии свободы печати.
(К. Маркс. «Дебаты шестого рейнского ландтага», 1842 г.)
Уже в ту пору выбранная терминология «хромала» – из-за полнейшей неосведомлённости учёных, беллетристов и наблюдателей в том, что такое подлинная свобода. «Соединённая» с «печатью», свобода, по нашим представлениям, обозначала размывание формы у предмета «печати». Форма исчезала. Но не только та, которою «охватывался» печатный станок – символизировавший выпуск периодических изданий. В совокупности «печатью» именовались ведь и издававшиеся средства массовой информации, а также всё обширное сообщество журналистов – творцов массовой информации!
Этим архиважным обстоятельствам, конечно, никто не придавал никакого значения. Почему и стал возможен вот такой броский аншлаг, позаимствованный из закона СССР «О печати и других средствах массовой информации» – последнего правопредшественника нынешнему закону о СМИ РФ:
Печать и другие средства массовой информации свободны.
Это при ещё действовавшей в государстве цензуре – не только в отношении СМИ, но и многих других сфер общественной и частной жизни!
В полной красе здесь являло себя то абсурдное, что было закономерным при безграмотном, «слепом» обращении со свободой.
Традицию «освобождения» всего и «до конца» «успешно», что считаем важным отметить, переняли и законотворцы в новой России, сразу увязшие в сраме из-за некомпетентных воззрений по части массовой информации – как товара.
Приведённая формула из закона СССР была ведь, надо признать, неплохой идеологической приманкой для доверчивых политиков и журналистов, и она сильно кружила им головы даже после того, как Советский Союз перестал существовать. Многие периодические печатные издания того срока в России цепляли её на свои логотипы и в таком ностальгизированном «украшении» ещё годы спустя выходили в свет уже и при действующем законе о СМИ Российской Федерации от 27.12.1991 г № 2124-1!
Термин «печать» вследствие столь неуклюжих манипуляций с ним стоило выбросить и забыть о нём. Так и сделали. Равняясь на запад, постепенно перешли к употреблению вместо него термина «пресса». В ХХ веке там наравне с термином «печать» его использовали несколько шире. Замена, однако, ничего не могла исправить, поскольку речь-то шла, собственно, не о нём самом, в его предметной семантике, а об его «освобождении», то есть – о свободе прессы.
Сюда, в это розовое пространство, перемещались те же превратные и слишком вольные взгляды на предмет свободы, когда её видели такой, какой кому хотелось видеть. До сих пор такая тенденция сохраняется, в связи с чем значимость понятия «свободы прессы» постоянно нивелируется, теряет саму себя.
Здесь было хорошим разве лишь то, что его, это понятие, остереглись употребить при сотворении государственных, публичных законов и установлений. Не из-за того, впрочем, что в новую степень возводились общие представления о природе и предмете свободы. Причина гораздо проще. Она состояла в нежелании правотворцев при манипулировании свободой слова быть уличёнными в элементарной тавтологии.
Свобода прессы – тот же суррогат естественного, данного человеку от рождения права на свободные суждения, разве что она соотносима главным образом с массовой информацией. Как и свобода слова, её заменитель остаётся понятием нечётким, расплывчатым, дезинформирующим.
Несколько иначе обстоит дело с гласностью. Она тоже воспринимается как понятие, равное свободе слова, но со странной и нелегко разбираемой статью в её определении и в приложении к публичному праву.
Парочку эту часто пакуют в один мешок, до того они, кажется, близки и схожи. Такое, в частности, просматривается в названии Общественного Российского фонда защиты гласности. У него полномочия – звонить во все колокола при ограничениях или нехватке свободы слова – там или там. Однако, можно ли всерьёз вести разговор о защите разбираемого нами термина как направленном действии, если его воплощаемость не выглядит отчётливо? Ведь, как увидим далее, у гласности вовсе нет никакой предметности.
Её защита в таком случае «держится» только на голом политизированном интересе и применении.
В Советском Союзе краткая эпоха перестройки или назревшего обновления жизненных целей была эпохой одобряемого обществом притворнополитического популизма, прочно увязанного с опорой на целесообразное, «первичное» «правовое» основание в виде широчайшей гласности. Её часто уравнивали с открытостью.
По-своему задачи понимались правозащитниками – «узниками совести», как их тогда называли. В их среде было по преимуществу в употреблении словосочетание «свобода слова», хотя подразумевалась та же гласность. А когда в империи возникло новое, демократическое движение, то повсюду уже и не стремились быть щепетильными: лишь бы шло на пользу.
Но – в самом ли деле всё то, что на практике бывает связано с понятием гласности, является её фактическим содержанием? В какой мере тут предполагается правовое и есть ли оно?
Вопросы подсказаны противоречивым, исходящим от привычного: гласность постоянно «берут» и используют вроде как штуку, данную в юриспруденции – с намерением обозначить её прикладной характер. Между тем уже в новой России родовое имя этой дамы поостереглись упомянуть разработчики и закона о СМИ, и – конституции РФ.
То есть это обозначало уже нечто принципиальное, а именно – непризнание за нею статуса, когда она увязывалась бы со свободой.
Каким-то корявым и далёким от обыденности воспринималось бы выражение «свобода гласности», в то время как гласность и без того есть ипостась, «наполненная» свободой. Той свободой, которая «предусматривалась» при возникновении естественного общечеловеческого права.
Её действие приобретает эффект оповещения или информирования, конкретно – оповещения или информирования «на слух», то есть – голосом, а также – изображением и записью. То, что оглашается или должно оглашаться, – востребовано – и кем-то одним, и многими, не исключено, что и – всеми на земле. В таком виде это понятие существует более на бытовом уровне, хотя его не прочь использовать и политики, что, как мы знаем, нередко становится участью отдельных элементов естественного права.
Возможность оглашения и реализация такой возможности есть, безусловно, фактор уже не только общественных отношений, но и – цивилизованности. Кажется значимой и любая помеха, за которой воспользование термином «гласность» и заключённой в нём сутью не представляется нам достаточно полным, каким, по нашим запросам, оно бы должно быть.
Как и «свобода слова», в её безмерной и безграничной информативности, чью функцию по нашим прихотям часто готова замещать гласность, она, гласность, будучи «выраженной» въяве (как уже выполненное «оглашение вслух», а ещё: «напечатание», «написание» и проч.), имеет строгую направленность в своём «движении» – в сторону получателя или потребителя.
В таком перемещении «от» и «до» она, разумеется, не вполне свободна. Однако в условиях жизни на началах гражданственности и использования естественных норм людям предоставляется право свободного получения или потребления того, что изрекается, показывается, печатается или пишется. Понятно, что право здесь ограничено содержанием той или иной информации – в зависимости от воли тех, кто её предоставляет.
Некто из числа индийских правителей, имя которого затерялось в дебрях древней истории, остался в памяти у поколений одним своим весьма оригинальным замечанием на этот счёт:
Каждое слово, вылетевшее из моих уст, уже не подвластно мне, – утверждал он, – а над тем, чего я не сказал, я властелин. Захочу – скажу, не захочу – и не скажу.
(Абдуррахман Джами. «Весенний сад»: «Заветы царей». переводе З. Хасановой. По изданию: «Антология мысли». «Суфии: восхождение к истине (собрание притч и афоризмов)». «Эксмо-пресс», Москва, 2001 г., стр. 233).
То есть – не могут исключаться положения частичной или даже полной закрытости того, что должно оглашаться, его ущемления через запреты, налагаемые от лица государства, разного рода инстанциями, руководителями или частными лицами, каждым, кто хотел бы о чём-нибудь сообщить другим.
Данное свойство к уменьшению или к свёртыванию действия оглашения широко известно главным образом как совершаемое отдельными людьми – в виде персональной внутренней цензуры или самоцензуры. Другие участники этого «процесса», корпоративные участники, упоминаются лишь изредка, и о них забывают – из-за предпочтений говорить уже не об оглашаемости чего-то, а о свободе слова.
В целом гласности, как ипостаси, впрямую обеспечивающей людское общение, оказывается, присущи признаки очень ходового и сугубо специфического товара. Кажется, предпочтительнее было бы сравнивать её, например, с массовой информацией, свобода которой исходит, как это легко уясняется, из свободы слова. Или даже – с обычной информацией, поскольку она также может быть товаром.
И там и тут понятия даются в их обширности и запредельных объёмах. Но, скажем, если информация, в том числе массовая, в приложении к её форме делима на множество видов и подвидов (ощущения, тексты, иллюстрации, фактаж и проч.) и пригодна к восприятию лишь в таких частных («долевых») проявлениях, то для гласности какого-либо деления нет. Она остаётся в неизменной «природной» цельности, своеобразной коммуникативной «вещью в себе» и не как предмет, а лишь как средство оповещения и влияния, что навсегда и целиком освобождает её от перспективы быть кем-либо употреблённой в правовом значении.
Как раз поэтому ей и не находится места в законах, а если иногда и находится, то – по безграмотности сочинителей права.
…Но именно своей легко угадываемой нами сутью она способна быть привлекательной, поскольку нельзя отрицать, что это для обществ и отдельных людей всё же определённое богатство, такая заключённая в естественном праве ценность, для обережения которой надо, как водится у рачительных хозяев, постоянно тратиться – и в силах, и в средствах. Хотя по отношению к гласности такая одомашенная заботливость и является необходимой, но правового аспекта здесь нет: товар, если он – фикция, не может ни с чем уравниваться по стоимости…
В таком случае как же бы им «пользоваться»? Здесь вряд ли найдётся ясный ответ. Неудача с наименованием Российского фонда гласности предосудительна не самим фактом, а спекулятивным подходом, когда одно с лёгкостью засчитывают за другое, схожее лишь в отсутствии конкретики и в неотчётливости, но разнящееся по существу. Спекуляций пока немало, они, можно сказать, преобладают. Вот пример:
…для нас, современников, особенно для журналистов, наступила всего лишь гласность, а не свобода слова.
(Интервью газете «Московский комсомолец» в Саранске», № от 09 августа 2001 г.)
Здесь обе ипостаси подразумеваются как бы «приставленными» к закону и как бы уравненными в их должном услужении на благо кому-то. Вроде бы резонно. Нельзя ни одною пренебречь как очень важными, хотя и навязанными субстанциями общественного правосознания: без них на современном этапе не могло бы «состояться» то искривлённое фактическое правовое пространство, которое мы имеем.
Но как же тогда понимать утверждение, что свобода слова ещё не наступила (будто её и нет)? Содержанием права, то есть показателем «размещения» слова в правовом пространстве, является примыкающий к нему термин «свобода». Именно благодаря ему слово не остаётся нейтральным по отношению к пространству права, как это происходит с табуреткой, ложкой или подоконником.
Отрицанием «наличия» свободы слова затушёвано сожаление прагматика об её отсутствии в виде фактической выражаемости слова – в его начертании, в звуке и проч. Тем самым из правового процесс переводится в чисто физический. Где слово может быть «полновесным», «громким», «отчётливым», «еле слышным» и т. д.
Надо полагать, вовсе не в этом, уже совершенно другом смысле, отрезано, будто свобода слова ещё не наступила. Но даже такой суетливой оговоркой исправить отрезанное было бы уже нельзя: свобода слова в её «правовой» семантике остаётся непонятой и «употреблённой» не в соответствии с тем, что она есть на самом деле.


