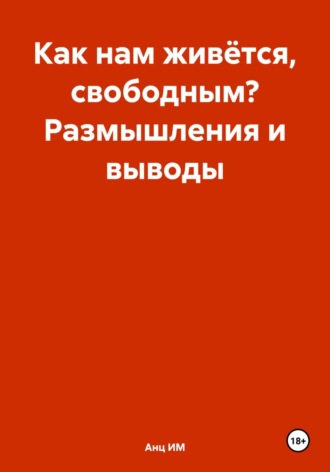
Анц ИМ
Как нам живётся, свободным? Размышления и выводы
Ни в официальных заявлениях, ни в аналитике тревожных событий, происходящих на Украине, термин «фашизм» ими не используется. Взамен как из рога изобилия сыплются коммюнике, заявления и разглагольствования, где по поводу их собственных деяний сделан акцент на справедливость, гуманность, человечность и другие атрибуты общемировой этики.
Проверенный, взятый ещё из кодекса чести приём лукавого и бесстыдного осветления, облагорожения самих себя посредством апелляций к нетленным ценностям, заключённым в общечеловеческих идеалах!
В этом случае есть все основания говорить о таком заимствовании худшего в естественном праве, когда оно прямиком устремлено в абсурд. Ну а смущены ли этим сами подстрекатели? Нет, нисколько.
Объясняя свои корыстные намерения, они неустанно твердят о своей правоте, о желании повергнуть Россию ниц, причём военным способом, с тем, чтобы добиться установления нового мирового порядка – при их исключительном верховенстве над слабыми в экономическом и оборонном отношениях народами и государствами.
Останавливаясь на этом тревожном положении вещей, надо заметить, что и со стороны России также наблюдается некая неровность в её политической линии.
Объявленная денацификация Украины невнятна. Меры по её достижению пока что ограничены: в освобождаемых районах и поселениях Донбасса и на ближайших к нему территориях, кроме территорий, вошедших в состав России, создаются местные военно-гражданские администрации, полномочия которых не приведены в соответствие с необходимостью устранения устоев преступного украинского режима. Там не устранена и сохраняется возможность нового всплеска фашизации.
Что же касается территорий, опекаемых киевским режимом, то и здесь перспектива воспрепятствования этому опасному процессу также остаётся недостаточно ясной.
Что может означать установление нейтрального статуса государства, на условии которого Россия готова прекратить там свою военную операцию? При проведении голосования по этой части что-то может пойти не так. До конца ли удастся вытравить в обществе национализм, на протяжении долгих лет перераставший в его недопустимую, крайнюю форму?
Положение с упорством украинского сопротивления обязывает не медлить и с вопросом о справедливом наказании лиц и групп лиц, повинных в злодейских деяниях, имевших место как на Донбассе, так собственно и на Украине, деяниях, несовместимых с нормами международного права и человечности.
Дойдёт ли дело до создания специальных трибуналов – по аналогии с теми, какие проводились уже в ходе Великой Отечественной войны и по её завершении? Или о них одни разговоры? И почему, раз речь о киевском режиме заходит как о прямом выразителе и проводнике неонацизма, а ещё и – терроризма, Москва не ставит вопроса о судебном преследовании вожаков этой «верхушки» – включая президента Владимира Зеленского? Потому ли, что они избраны в процессе общего голосования? Но Гитлер ведь тоже избирался и у немецкой нации был даже любимцем.
В Советском Союзе, погнавшем его армии и фронты на запад, ни в правительстве, ни в народе с самого начала Великой Отечественной никто не скрывал желания низложить вооружённого врага силой и уничтожить самого фюрера в его логове…
В пределах тематики, которой мы здесь придерживаемся, возникшие насущные вопросы такой направленности, как представляется, не должны восприниматься как неуместные, выходящие «за пределы».
Мы с вами исследуем проблемы, связанные с понятием и различным пониманием свободы. Где больше всего о ней распространяются – к делу и не к делу? Не в странах ли НАТО? Не на Украине ли? И не в том ли нескрываемом, определённом смысле, когда защиту приятной ими во всех отношениях свободы вообще они совершенно легко переводят в защиту свободы фашизма?
Зная об основаниях для такой бесцеремонной и напористой интерпретации, нельзя не согласиться: она – в русле той закономерности, которую мы здесь пытаемся раскрыть и постичь. В своих хулящих речах и «мстящих» поступках ярые приверженцы провозглашённой ими или позаимствованной у них узколобой либеральной демократии демонстрируют полнейшую неосведомлённость в зыбком предмете свободы. Бесконечные с их стороны упования на неё вряд ли сто́ят выеденного яйца.
Негоже и нам уподобляться в том же старании. Освобождение «до конца», как процесс немыслимого угождения раскованным, «летучим» страстям, требует поэтому повышенного к себе внимания. Разбирая примеры с его превратным пониманием, мы, полагаю, в полной мере можем осознать особую его актуальность для настоящего беспокойного времени. Здесь не обойтись без рассуждений о вещах, нами, как правило, всегда оставляемых на потом или и вовсе забытых.
Я здесь предлагаю опять вернуться к вопросу о том, где и в чём мы способны замечать самое крайнее освобождение. Кому и чему оно служит или может служить, что является отправной «точкой» для него?
Для пояснений обратимся к таким понятиям, как абсолютное материальное и абсолютное духовное. Вскользь о них нами уже упоминалось. Необходимо основательнее заняться ими с целью выявить «динамику» их «выроста» и объяснить, как этот процесс сопряжён с реальной действительностью.
Что здесь примечательного?
Как таковые эти двухсловные термины исходят из конкретных вещей и понятий. Однако данное утверждение принимать в лоб и сразу соглашаться с ним – не следует.
Абсолютное материальное – это не что-то вещественное, которое взяли и увеличили, произведя некое механистическое действие, начав с какой-то понятной нам величины. Суть в другом: берётся не сам материальный предмет, а понятие о нём. Как возникшее в сознании, оно становится пригодным для обобщения.
В степени запредельного обобщения оно нисколько не претендует на выражение собою чего-то материального, вещественного. Если же его обращение в конкретную, осязаемую вещь или в предмет иногда допускается, то лишь – условно.
В этом случае используется термин материя. В космосе, например, ею обозначают то, что можно представить как материальное: тела звёзд, планет, астероидов, частицы и проч. Не упускают возможности поговорить о ней философы, когда под нею понимается опять же материальное, будто бы ощутимое, но взятое вне его конкретной, индивидуальной формы, объёма и состояния.
Достаточно широко употребляемое слово «материя» есть лишь то неосязаемое и нематериальное, с чем плотно увязано уже знакомое нам понятие вообще. Одновременно это и ничто, с которым мы также имели встречи, и в нём нет и совершенно исключено вещественное, конкретное.
Абсолютное духовное «образуется» по аналогичной схеме. Только ему нет пока дублирующего названия, а исходным для него становится производное от нашей мыслительной деятельности в самых разных сферах.
В учёных кругах не очень любят подступаться к этим двум отвлечённым понятиям, как нет и особого желания по возможности глубоко исследовать их. Думается, напрасно.
Уже в их сопоставлении по отношению друг к другу можно обнаружить немало любопытного. Дотошный ум способен усмотреть в них нечто сходное, даже одинаковое.
Правильнее будет говорить здесь о том понятийном, откуда они «вырастают» на стадиях обобщения, отрываясь от реальности и «застревая» в абсолюте.
Понятийное, как получающее «вырост», ещё не есть полностью отвлечённое; в нём каждое единичное имеет свои признаки, свою форму и содержание. Сходство же в том, что материальное и духовное не могут не иметь совершенно одинаковой составляющей в их наполнении: это то, что именуется информативностью, информативным. Когда его нет совсем, нет и знания о чём-либо, знания хотя бы крохотного. А без него нет и понятийного, в том числе абсолютного – как материального, так и духовного.
Свобода в её состоянии и «предметности», интересующая нас как явление не только социумной значимости, осознаётся нами и умещается только в тех пределах, где властвует понятийное, равно как и наше знание о нём. Каждому понятию здесь открыт путь в сторону бесконечности, абсолютного. Однако в этом движении, если оно обусловлено фактором освобождения, до точки «кипения» ничему из материального «добраться» не суждено.
Есть два ответа, почему этого не может произойти. Первый: движение по какой-либо причине приостанавливается или возвращается вспять, не войдя в закрай.
Второй: движение «в самый последний момент» перед «заходом» в абсолютное должно быть лишено своей моторности, однако ему, если оно вещественно, стать абсолютным, не связанным ни с каким конкретным предметом или понятием, нельзя; в этом случае необоримая энергия устремленности к «цели» в неуловимом отрезке времени должна затрачиваться на превращение объекта в совершенно новое состояние; в преддверии этого кратчайшего цикла вещественное будто бы исчезает из бытия, являя, как нам уже доводилось об этом говорить, образец великой и непостижимой тайны всего сущего, разумеется, в том мире, который мы имеем.
Что же касается реального или наличного духовного, то его продвижение в закрай имеет принципиальное отличие.
Дело тут сводится к обобщению, когда «единица» духовного, взятая на любом этапе её существования, мгновенно «выпархивает» из реальности, перемещаясь в область абсолютного. В новом «месте» она обычно обретает черты идеи-фикс и в таком виде укрепляется в сознании, становясь, к примеру, символом того или иного божества. Людям свойственно поклоняться таким символам, верить в их действительное наличие, хотя не существует никакой возможности доказать, что это «действительное» – настоящее.
Думается, нетрудно заметить, как при постижении процессов движения материального и духовного к абсолютному, мы одновременно уяснили и движение, обусловленное свободою этих величин. Той свободою, которою обеспечивается развитие чего-либо, а если точнее: – всего, что существует и о чём мы знаем.
Говоря иначе, указанные процессы впрямую сопряжены с освобождением, когда материальное или духовное, будучи каждый раз в их «растекающейся» конкретной форме, приобретают новые состояния и форматы. Но – лишь до определённой черты. Дальше, за «нею» – абсолютное, где соблюдение формы невозможно; она разрушается, исчезает. Естественно – при этом разрушается и теряет себя также свобода, которую «туда» «помещают» по незнанию.
К изложенному добавим, что если в области абсолютного кто-то захотел бы поискать новую форму, приобретённую взамен оставляемых позади «оболочек» материального или духовного, то он её, конечно, найдёт, но абсолютно неосязаемую, выскальзывающую из его и нашего сознания, а притом ещё и – единственную и одинаковую для обоих прежних понятий. Ведь она, как несуществующая, будучи отвлечённой, совершенно обезличена и неразличима из-за отсутствия в ней хоть каких признаков.
Нет необходимости подчёркивать, что при таких обстоятельствах, там, в столь странной «среде» абсолюта, не находится места и информативному. Его там просто нет; оно – не появляется и не проявляется.
Также у сомневающегося может возникнуть вопрос: не остаётся ли чего-нибудь от материального или духовного в процессе их «перемола» при перемещении в область абсолютного? Ответ однозначен: ничего. Но – мало ограничиться этим ясным ответом.
Надо признать настоящую силу полного цикла освобождения – как фактора, сопровождающего развитие чего-либо: оно, полное освобождение, – «беспощадно» и позади себя не склонно оставлять ничего.
Чтобы данные пояснения не показались двусмысленными, будет полезно ещё раз повториться и добавить, что через посредство их мы разбирались в условном, – когда взятые нами во внимание предметы или объекты рассматривались не иначе как только предположительно. Об абсолютном мы можем сколько угодно судить, не видя его и не ощущая его наличия. Нереально и очутиться «там» хотя бы кому или чему-нибудь. Нет там, разумеется, и свободы.
В пределах разбираемой здесь темы абсолютное – это развал до основания и «вещественного», материального, и фактического, реального духовного. Или ещё иначе: как и материя, так и абсолютное духовное есть полностью «реализованная» свободность.
Интерес же к нему, к абсолютному, в том, что манипулирование с ним есть одна из важнейших функций нашего сознания и подсознания.
Негоже было бы отказываться от возможности изучения нашего внутреннего и окружающего нас мира с использованием условного, предположения – в качестве эффективного и нередко незаменимого средства.
О том, на что годятся приведённые рассуждения, мы покажем, обратившись к явлениям самым обыденным. Как в них могут протекать процессы развития-освобождения?
Например, в языке – обязательнейшем факторе общения между людьми.
В какое-то время в начале он бывает или языковым диалектом, или «выходцем» из прежнего, выпавшего из употребления лингвистического пласта, или – привнесённым извне (из другого государства, из объединения государств и т. д.), «готовым» инструментом общительности.
«Послестартовое» состояние у него может выражаться в двух этапах. На первом идёт бурное пополнение словаря за счёт новых и заимствуемых образований. Второй становится продолжением первого. Он – шире, но и спокойнее.
В целом развитие сводится к одному: удерживаться на месте (в одной, неизменной форме) язык не может; он обречён меняться до тех пор, пока ввиду изменений (в том числе из-за «порчи» неблагозвучными, «неудачными», «нелепыми» и другими «нежелательными» словами, при засорении сленговой и зарубежной массой и т. д.) «запас» его содержания или, если угодно: прочности, не окажется исчерпанным «до конца».
«Сигналом» или «знаком» тут является нежелание общаться на нём; или же возможность общения останется только номинальной.
Любые попытки его устопоривания (патриотические призывы беречь, «не засорять» и «не коверкать», введение новых для него правил, упование на мораль и правовые запреты) должны выглядеть в лучшем случае временной профессиональной или отраслевой заботливостью (учителей, литераторов, культурологов и т. д.), а на самом деле останутся показателем полной безнадёжности затрачиваемых усилий. Поскольку естественное состояние этого своеобразного «организма», как сущего, не предполагает остановки или неподвижности.
Освобождение от своей формы, от сплошной «затёртости» слов, вызванное «потребностью» нового, «следующего» языка, – вот то, чем только и может быть здесь само развитие как процесс.
И ради того, чтобы всё с ним происходило именно таким образом, а не иначе, оказываются неумышленно брошенными, оставленными как бы за ненадобностью в прошлых временных нишах целые россыпи, может быть, вовсе не плохих и даже просто отменных по качеству слов, идиом и словообразований (которые продолжают восхищать потомков, особенно лингвистов и любителей литературы), не говоря уже о том, что в жертву должна быть принесена (устаревание или полное «обветшание» языка) и его грамматическая структура.
Надо ли сожалеть о таком драматичном течении событий? Несомненно. Должно быть очень скверно на душе у человека, если он вдруг узнаёт, что завтра ему ни с кем не позволено общаться на родном для него языке, а другим он не владеет.
Неожиданное введение такого запрета стало бы несчастьем для школ, учреждений, семей, целого государства. Естественным развитием языка он, этот запрет, не «предусматривается».
Хотя могут появиться абсурдные исключения – по образцу того специального закона на Украине, согласно которому в стране из оборота практически изъят русский язык – как письменный, так и устный.
Что же до самого процесса, при котором из-за износа язык прекращается «в себе» и выпадает из употребления постепенно, то здесь нелишне помнить, что ни один народ и ни одно племя нигде и никогда в человеческой истории без языка не оставались. Будет обязательно усвоен новый – хотя бы на «обломках» исчезнувшего. Если, конечно, в нём возникает необходимость.
Данный пример связан с поведением объекта неодушевлённого. А как могут обстоять дела с освобождением человека, существа разумного и постоянно мыслящего?
Если понимать его в историческом плане, то уже с периода, когда он входил в роль homo sapiens, ему «полагались» права, в том их значении, какое мы им придаём сегодня, исследуя их. Поначалу речь могла идти, разумеется, только о естественных правах, не исключая негативных.
Взятый в его индивидуальном значении, как представитель биологического вида, человек тех времён мог быть настолько свободен, насколько допускали бы его инстинкты и безотчётный страх перед силами внешнего мира, в том числе – перед «наказанием» (в прямом смысле или – «по умолчанию») от себе подобных.
В совершенно диком обществе (племени, роде), где властвуют всего лишь начатки этического (в виде суровых обычаев), его свобода выражалась в том естественном правовом формате, реальном для определённого временно́го срока, которым совместно с ним обладало общество и куда частью должно было накладываться также совокупное естественное право предыдущих образований и поколений.
Ценности здесь далеки от цивилизованных, и человек, на свой лад воспринимая их, вынуждался руководствоваться пока не столько своей свободой, сколько её ограничениями. Ведь именно только их, а не саму свободу ему удавалось осознавать в тяжелых условиях жизни, когда его знания о ней и о себе могли находиться ещё на самом низком, примитивном уровне.
Используя естественные права, он, скажем, мог не бояться и не нести никакой ответственности перед сородичами за убийство чужака, а при некоторых обстоятельствах – и своего. За ним целым шлейфом тянулись и другие опасности.
Хотя существование человека в таком жёстком режиме определялось ещё в значительной мере инстинктами, негативное его поведение, как «ненормативное», всё же поддавалось несложному общественному объяснению и контролю. Его переход за «черту» дозволенного не предусматривался, а если это все же иногда и случалось, сородичи в отношении к виновному в порядке вещей могли вынести ему самое строгое и беспощадное наказание, вплоть до умерщвления.
Однако, если говорить исключительно об опасностях (прежде всего – для сородичей), то их от такого несчастного могло исходить всё-таки меньше, чем они, бывает, исходят от человека нашей современности, «настроенного» на освобождение «до конца» и движимого к этой призрачной цели.
В отличие от далёкого предка, у него, кроме естественных, есть права публичные, получаемые от государства. Он ими, что называется, зада́рен. Из-за чего же он может быть опасен?
Первое: из-за того, что его коснулась мощная цивилизация, и он почти напрочь лишён многих «прежних» инстинктов; они в нём утрачены или сильно приглушены. Вместо них он обходится знанием, привыкая не отдавать отчёта боязни чего-либо.
Второе: будучи свободным членом общества и вследствие этого считая возможным пренебречь многими обязанностями перед ним, он нередко, а то и системно «пробует» себя в поступках, не всегда адекватных общепринятым, «рассыпая» тем самым своё отчуждение по отношению к людям и становясь своеобразным заразительным примером для других.
Здесь конечный «результат» состоит в умалении, а то и в полном игнорировании всяческих правил. Воспринятое как абсолютное, право даёт ему право (да простится такая тавтология) не придерживаться ни публичного, ни нравственного.
Третье, и далеко не последнее: у него под рукой масса стимуляторов, с помощью которых он может в любой момент обеспечить себе новые вольности – дополнительное «освобождение», раскрепощение.
В своих поведенческих действиях такой человек движется даже не в сторону самого худшего в естественном праве, а – через него, минуя его, «перескакивая» через него, устремляясь в абсолютное, хотя и не достигая его.
Поощрение человека, усвоившего превратные принципы свободы и независимости, может дорого обходиться тем, на кого падает его влияние. Допускаемое официальными властями, такое поощрение способно быстро усложнить обстановку с нарушением существующих, традиционных норм поведения в обществах.
Не только отдельные индивидуумы, но и целые слои населения могут входить во вкус собственного крайнего освобождения, когда как замечал уже называвшийся нами классик философ, люди становятся одержимы первым налетевшим на них желанием и неприятием хоть какой зависимости.
Таким образом, уже в самих благах цивилизации возникают основы для отчуждения и «косых» представлений о сверхсвободе. В частности, в некоторых странах можно наблюдать, как при входе в салоны автобусов или иных средств массового передвижения люди избегают скученности, становясь друг за другом на приличном отстранении. Показатель только вежливости? Отнюдь. Отстранённость в таком виде вызвана отчуждением, которое в свою очередь исходит от степени свободности, усвоенной каждым.
Или взять расселение семей в жилых домах. Сейчас не принято приобретать квартиры в собственность с расчётом на проживание в них многих людей. Благоустроенных квартир строится достаточно, и они, хотя и не всем оказываются по цене, бывают заселены небольшими по составу семьями, а то и одиночками.
В семьях при этом идёт процесс отделения отпрысков, когда родители стремятся приобрести им квартиры в их собственность нередко ещё до их женитьбы или замужества или даже до получения профессионального образования и трудоустройства.
Да, в этом случае новые обычаи не должны осуждаться и пресекаться. Житейский комфорт необходим. Он один из показателей достойного человеческого существования. Мы здесь говорим о нём лишь как о динамике освобождения – «от» былого, устаревшего способа расселения, где очень многое оставалось следствием хилого экономического развития народов, бедности и нищеты. Устаревшее в жизнеустройстве просто плохо согласуется с темпами неумолимого процесса обновления.
Как велика наша зависимость от наших желаний быть как можно свободнее, мы в целом осознаём недостаточно чётко и действуем неразборчиво. Поэтому в порядке вещей для нас – не считаться с обстоятельствами конкретного бытия. Знания о нашем освобождении мы прилагаем часто не к тому и не туда, где от этого можем ожидать пользы.
Ориентация на крайние отдалённости в любых намерениях и в действиях всегда есть плохой признак нашей управляемости происходящим вокруг нас и с нами, включая управляемость каждого индивидуума самим собой.
Вследствие такого нашего мировосприятия неблагополучный «исход», можно сказать, гарантирован, например, в такой значимой сфере нашей непрерывной деятельности как эстетическое творчество.
Если взять живопись, как вид изобразительного искусства, то здесь дело с «неблагополучной» ориентацией на абсолютную свободу обычно заканчивается изобретением какой-нибудь «каши» или рисованной белиберды, которую, кстати, легко отмоделировать на компьютере…
Игра светом и красками хотя и бывает иногда превращена в виртуозное и в некотором смысле таинственное действие, но зрителя оно затронет мало или не затронет вовсе.
Целые ряды живописцев пытаются поразить наше воображение картинами или этюдами так называемого свободного жанра, нанося на холсты не связанные ни с чем в реальности прямые или неровные линии, полосы, углы и очертания. Иногда идут ещё дальше, и на вид выставляются творения, изготовленные путём размазывания смесей красок по холсту или по другой какой-то поверхности обыкновенной ветошью, а то и подошвой обувки лихого незатейливого «творца».
В особый раздел живописи включены даже «отметины» на материале диких или домашних животных – черепах, ослов, обезьян, попугаев, кошек, слонов и проч. Будто бы могут что-то обозначать следы их копыт, лап или хвостов, даже – их испражнения.
Стиль подобного вольного приобщения к искусству живописи уже прочно усвоен мастерами граффити. Недолго, видимо, ждать и очередного новшества в бурном покорении художественных высот – приобщения сюда металлических или полимерных роботов, с их искусственным интеллектом…
Вещью, произведением, спроецированными через призму «освобождения до конца», легко удивить простаков, но ими не дано по-настоящему взволновать нашу недоверчивую, насторожённую чувственность. Ведь именно ею в творении распознаётся художественный образ, о чём не пристало бы забывать тем живописцам, кто вознамеривается быть на «ты» со своей творческой свободой, на самом же деле изображая абсурдное.
По сходному образцу понимают абсолютное ваятели и архитекторы.
Здесь изыски устремлены к созданию не только мелких бесформенных поделок, но и произведений гигантских размеров. Например, талантливейший скульптор Степан Эрьзя вынашивал замысел воссоздать образ Ленина, «обработав» для этого настоящую целую гору, примеченную им на Урале.
А какой, скажем, необычный смысл выражали бы гигантские монументы «Рождение Нового Света» и «Рождение Нового Человека»?
С проектом возведения этих величественных композиций в своё время, с конца восьмидесятых – начала девяностых годов ХХ века, в избытке хозяйственной и творческой энергии поносились большие и маленькие политики, учёные, культурологи, конечно же, и ваятели в разного рода степеня́х лауреатства и званиях.
Установить монументы предполагалось напротив друг друга на противоположных берегах Атлантики, в Европе и в США, в ознаменование 500-летия открытия Америки. Уже начиналась и массированная подготовка к работам. К местам закладки объектов только из России было отправлено более семисот полновесных железнодорожных вагонов меди, стальной арматуры, цемента, стекла и других необходимых материалов. Задействованными в разных странах оказались структуры МИДов, банков, морских портов, железных дорог, автотранспортные предприятия, крупные фирмы, таможни, ведомства разведок, обороны, даже прокуратуры и суды.
Последних более всего интересовала возраставшая в объёмах пропажа значительной части груза и финансовых потоков. Следователи тогда заявили, что им не удалось выявить ни мест, откуда происходило умыкание, ни воров, ни стоимости украденного.
Под влиянием соответствующих скандалов проект зашатался. О нём замолчали. Будто ничего такого никогда и не было.
А ведь как витиевато объясняли необходимость возведения композиций! Приплетали сюда и международное сотрудничество, и дружбу народов, и всеобщее благоденствие с высокой мировой культурой. Выходило же, что подзабавились, и только.
Охотников подсовывать миру такие, с позволения сказать, плоды художественного творчества это нисколько не обескуражило. Церетелевский монумент российскому царю Петру I в Москве тому подтверждение.
Москвичи, да и не только они, воспринимали его более чем прохладно ещё, кажется, до открытия. И что же? Склонным к осторожности то и дело втолковывают, что памятник символизирует великую эпоху, начатую Петром, что в композиции выражена стабильность отечественной российской государственности, державность и проч. При этом забывают вспоминать лишь об эстетических достоинствах – непреложной и необходимейшей ценности, – есть ли она в фигуре царя и в какой мере или её – нет.
Позже, уже в ХХI веке, о той же ипостаси предпочли вовсе не распространяться при появлении статуи-памятника в Екатеринбурге первому президенту России Ельцину, одному из тройки известных бывших крупных партийных функционеров, по чьей вольной прихоти был подписан акт о развале СССР.
Будучи избран главой Российской Федерации, Ельцин навсегда запятнал себя постыдным плоским угодничеством и унижением перед Соединёнными Штатами Америки и Западом, какими те были во время его президентства и остаются до сих пор. Своей стране он тем самым прочил судьбу неоколониального придатка других держав.
Вследствие этого ни о каком эстетическом достоинстве памятника столь одиозной личности речь идти не могла.
Процедуру его открытия сопроводили неуместной пустой шумихой – только и всего.
Не из того же ли ряда архитектурные абстракции Гауди, оглушающие ритмы рок-музыки, игра на сцене преимущественно валянием по низам, то есть с опусканием на пол и вовсе немотивированным ползанием по нему в театральных и балетных спектаклях, загаженные матом романы, эссе и блоги, бесконечные криминальные кинофантазии Голливуда, демонстрации половых актов на театральных сценах?
Молодым я мечтал дожить до третьего тысячелетия, – рассказывал о себе гроссмейстер Смыслов, известный своим утончённым постижением прекрасного как в шахматах, так и в сфере искусства и вообще во всём окружающем, – Я полагал, что в новом веке нас ожидает нечто особенно красивое, высокое, что в нём будет найдена – нет, не истина, это чересчур громко, но, по крайней мере, гармония, которую я искал. Но новый век меня разочаровал. За исключением технического прогресса, пожалуй, никаких изменений к лучшему он не принёс. Уровень духовной культуры явно упал…
(Из периодики).
Если иметь в виду, как плотно мы сейчас «обставлены» свободами и правами на них, то как раз благодаря их вознесению к абсолюту, всё, что создаётся в пределах эстетики, тут же и портится. А что ещё хуже, мы стали нетерпимее к любым замечаниям относительно предметов искусства.
Любому несогласному, если он сунется сюда со своим непохожим мнением и попробует заговорить об искривлениях в сфере оценок, об обмане, останется лишь стушеваться под напором оценок профессионалов или политиков, почему-то слишком уж часто оказывающихся «правыми».
У современных скульпторов, – отмечалось в комментарии о содержательности одной из недавних ежегодных российских выставок ваяния, – невозможно выделить какую-то общую тенденцию. Царит свобода формы и темы, художник творит что хочет.
(Из периодики).
Обман такого порядка оставляет обычного зрителя или читателя в круглых дураках. Ведь тут (имея дело с «освобождением до конца») нет простых способов что-то оспорить, чего-то потребовать, чему-то возразить.
С этой задачей не справляются и специально подготовленные толкователи, искусствоведы. Роль их почти до основания истёрта и изувечена. Преобладает замшелая угодливость перед авторскими объяснениями самих себя и их творений, перед их творческими амбициями, какие б те странными ни были.
Создаются условия для постоянного воспроизводства искусства без искусства. В нём если и есть художественное начало, то лишь в самом простом, примитивном виде, когда произведения могут называться художественными, а на самом деле относимы лишь к областям декора и бесхитростного украшательства.
Широкий ход такому творчеству дан при оформлении производственной обстановки на промышленных предприятиях, разного рода витражей, выставок, сценического антуража в театрах, простого уличного благоустройства и проч.
Конечно, всё это связано с необходимостью создания окружающей нас комфортности, но что касается настоящей роли в этом художника, раскрытия им его потенциала или дарования, то говорить о них остаётся только в предположении, – что они́, разумеется, должны иметь место; выходит же так, что они обрекаются на исключение.


