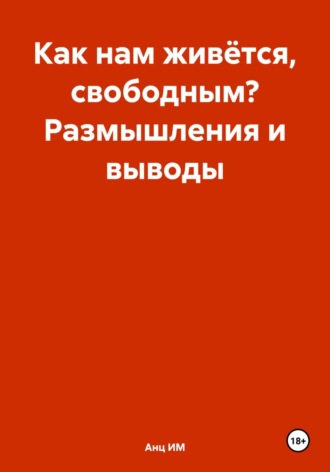
Анц ИМ
Как нам живётся, свободным? Размышления и выводы
10. СВОБОДА КАК ЗНАК ОТТОРЖЕНИЯ
«Пренебрежение к остальному», о чём сказано у Платона, не есть только пренебрежение как лёгкая форма отторгаемости. В условиях свободы оно разрастается вместе с её «увеличением» и приобретает черты уже не отторгаемости, а крайнего отчуждения. Или ещё дальше, – где чуждое – удаляется.
ак раз об удалении распространялся Бродский, известный оригинальный российский поэт советского периода, эмигрировавший в США и остававшийся там всю остальную часть своей жизни.
Из его воспоминаний можно понять, как он ещё до эмиграции постоянно впадал в депрессивные состояния из-за тех унылых накатов советского информативного, когда его реагирование было особенно острым и болезненным на что-нибудь самое обычное.
Угнетающе действовали на него «неотступная фотография домны в каждой утренней газете, неиссякаемый Чайковский по радио».
Ото всего этого, вещал он, «можно сойти с ума…»
Чертой бесконечной дроби, протянувшейся через всю страну, он называл горизонтальную «отбивку» синей краской понизовий внутренних стен в помещениях советских организаций и учреждений от их поверхностей повыше; также его не устраивал своей нескончаемой суммарной протяжённостью покрашенный в зелёное штакетник в сельских и городских поселениях.
Воспринятое в такой манере не могло, конечно, не простираться ещё дальше, переходя в неприятие и в отрицание. Для этого поэтом было сконструировано кредо:
Всё, что пахло повторяемостью, компрометировало себя и подлежало удалению.
(См. его эссе «Меньше единицы». По изданию: Иосиф Бродский. «Сочинения». «У-Фактория», Екатеринбург, 2002 г., стр. 699, 719).
В художественном творчестве такая постановка вопроса не лишена своих плюсов и просто необходима – как метод отбора и компоновки сравнений, образов и проч. Правовое здесь неразличимо: оно «растворено» и облагорожено в устоявшемся нравственном, – когда поэт или писатель считает делом своей совести создавать произведения с отличным качеством и в отменной форме.
Без умелого отбора знаний и впечатлений об окружающем и учёта фактов исторического процесса творчество несостоятельно, ввиду чего «лишнему» приходится объявлять настоящую и беспощадную «войну». Оно удаляется – выводится из пределов создаваемого романа, стихотворения или рассказа.
Может ли оно быть или стать ненужным?
Будто бы нет, потому как хотя и допустимо некое действие, в результате которого имеющиеся мысли отдельного человека удерживаются, «запираются» в его головном аппарате; но ведь такие «предметы» общего пользования как язык и другие средства художественной выразительности и наполнения никак не перестают быть нужными и полезными для других.
Они и существуют-то как раз в их служебной повторяемости. – Пожелавший не иметь с ними дела волен, разумеется, поступать по-своему: начать излагать мысли на другом языке, использовать иной фактаж, изобрести сугубо личные выразительные средства, сменить район или страну проживания. В условиях даже совсем небольшой свободы это вполне приемлемо.
И всё равно то, чем названный мастер поэтического слова пользовался раньше или с чем часто сталкивался, оставалось для других. А чем же повторяемое могло не нравиться до такой степени, что его следовало бы именовать скомпрометированным?
Пусть тут – «принадлежности» художественного, «особого» ремесла. Но ведь не их же только имел в виду неравнодушный поэт из XX-го века?
Закрепление, «фиксирование» крайнего неприятия, которое как бы само собой «перетекало» у него в эмиграцию и позже ею закончилось, он описывал так:
…я усвоил первый урок в искусстве отключаться, сделал первый шаг по пути отчуждения. Последовали дальнейшие: в сущности, всю мою жизнь можно рассматривать как беспрерывное старание избегать наиболее назойливых её проявлений. …по этой дороге я зашёл весьма далеко, может быть, слишком далеко. …Это относилось к фразам, деревьям, людям определённого типа… …Всё тиражное я сразу воспринимал как некую пропаганду.
…
…Хорошо было покинуть этот… космос, хотя… уже я знал, – так мне кажется, – что меняю шило на мыло. …Но я чувствовал, что должен уйти.
…
…то… было, судя по всему, моим… свободным поступком. Это был инстинктивный поступок, отвал.
(Иосиф Бродский. Эссе «Меньше единицы». По изданию: Иосиф Бродский. «Сочинения». «У-Фактория», Екатеринбург, 2002 г., стр. 699, 705, 706. – Фрагменты текста приводятся с сокращениями).
Для профессионального психолога или следователя такие публичные откровения «удобны» возможностью прямого обоснования какой-то важной особенности в характере человека – как опоры, став на которую, легче понять мотивированность его поведенческих движений и в прошедшем, и в предстоящем; один тут будет исходить из аспекта социального, другой – из необходимости разработать наиболее точную доказательственную версию.
Профессионалы иных направлений, при условии какого-то их интереса, также использовали бы эти «данные» каждый в определённой специфичной трактовке.
Но в такой «зауженности» обычно до рассмотрения проблемы воздействия свободности дело раньше никогда не доходило и пока не доходит сейчас. «Упираются» где-нибудь на «психической неустойчивости» субъекта (или субъектов), на «среде», на «больном обществе» и т. д.
Между тем именно в отчуждаемости отчётливо видно в первую очередь свободное – как элемент безжалостного и методичного, неостановимого разрушения всего что вокруг, включая самого «носителя».
Скажем здесь так: представление о какой-то желательной сверхсвободе ставит человека в положение вечно раздевающегося. Нужно с себя (в том числе – в себе) снять всё, до последнего. Одежду, какие-то постулаты обязательного, чувственного, зависимого. Компрометация здесь – лучший способ. Но лучший не в смысле хорошего, а – по негативному результату.
Компрометирование идёт в обнимку с идеей, укреплённой в сознании от «ощущения» достижимости абсолютного. И уже нет разницы, что попадает в поле зрения и внимания «свободного» человека, – оно компрометируется и должно быть отчуждено, отторгнуто, удалено.
Если, например, массовая информация, как продукция СМИ, компрометируется в сознании едва ли всех пользователей ею – затёртыми словами и фразами, назойливым повторением подходов к событиям, плоской формой и содержанием в её цельности и фрагментах и т. п., то некоторые другие явления, факты и обстоятельства воспринимаются с «индивидуальных» «позиций».
Кому-то может не нравиться однообразие звуков музыкального инструмента при разучивании пьесы живущим по соседству. Кому-то – повторяемое изо дня в день: «Мой руки!». Во всех таких случаях речь идёт о неприятии и отторжении в связи с представлением о какой-то мере свободы, «принадлежащей» тому, кто настроен на отторжение – «сам по себе» или – вынужденно.
Спокойное, уравновешенное и ни к чему далеко не ведущее восприятие «лишнего» здесь возможно только ввиду нечёткости, недостаточной осознаваемости свободного, и часто такое реагирование действительно зависит от самого человека как индивидуума или – от многих людей, – через посредство усвоенного ими нравственного, имеющегося в обществе.
Маяковский, известный своей тупой провластной (пробольшевистской) поэтической ориентацией, иногда позволял себе, перелистывая чужую, только что изданную и вручённую ему книгу, даже в присутствии её автора, демонстративно вырывать из неё листы и тут же по-хулигански расшвыривать их, подбрасывая, вокруг себя, если там могло что-нибудь ему не понравиться «с ходу».
Конечно, это был всего лишь наглый эпатаж, исходивший из недостаточной воспитанности и культуры общения «пролетарского» поэта, на что ещё в пору его нараставшего творческого «взлёта» с негодованием обращал внимание Бунин.
(См.: Иван Бунин. «Окаянные дни». «Эксмо-пресс», Москва, 1999 г., стр.101, 102).
В данном конкретном случае «лишнее», как нежелательное и неустраивающее, отторгалось, можно сказать, «просто так» – ничего правового тут не наблюдалось. В том числе – правового свободного.
Вряд ли оно даже «витало» перед поэтом – современником «освобождения» по манифесту российского царя Николая II в начале ХХ века и по декретам диктаторской советской власти позже – с 1917 года.
А не осознавая свободы в праве, поэт был и вообще лишён знания, для чего он свободен, если даже считал себя таковым. В каком-то смысле это облегчало ему быть тем, кем он, собственно, и был. Просто поэтом. Не имевшим чётких осознанных представлений ни о диктатурах и государственной политике, ни о характере своих связей с людьми, в том числе – связей интимных.
Здесь даже в неосознаваемости свобода приносила ущерб, так как будь иначе, виднее становились бы грозные взаимозависимости в окружавшем. Которые поэта «втягивали» и в конце концов погубили.
Недостаточное осознание и понимание свободы в праве «сопровождало» и Бродского. Будучи с размахом «разглашена» прежде всего в западном мире, свобода перед ним и в нём «витала», это бесспорно. Без этого не было бы и особенностей его отчуждаемости – «видения» бесконечной горизонтальной линии на стенах учреждений и протяжённых штакетных изгородей в жилых массивах, неприятия всей советской пропаганды, осуждения преследований в СССР по идеологическим мотивам и проч. И процесс отторжения, «выношенный» как специфичный акт оценки происходящему в связи с работой над образами, опять же не мог не сказываться благотворно на его творениях, пронизанных метафоричным и честным.
Также нельзя в связи с этим не упомянуть об использовании им матерного в его сти- хах. Вне всякого сомнения, это было уползание в пошлое и в общем-то сама пошлость. Которая, хотя и бывает «извинительна» в видах таланта и «обосновывает» манеру «вопреки» кому-то, но в целом есть не осознаваемая в праве свободность – точно то же самое, что выражалось в пошлой развязности Маяковского.
Бродский, однако, всё же, видимо, лукавил со своим «компроматом». Разве с уездом за границу исчезало для него и повторяемое, однообразное, а также и напрямую чуждое, и разве оно могло исчезнуть вообще, по чьему-то лёгкому желанию? Он такого (невозможности) не исключал и сам («шило на мыло»).
Не могут ведь, в самом деле, куда-то деться по чьей-то досужей прихоти параллельность расположения рельсовых путей на железных дорогах – вещь сама по себе не такая уж и «отрицательная», чтобы ею раздражаться и не принимать её; повторяемость ночи и дня, заход и восход солнца в течение каждых новых суток; повторяемость формы одежды на каждом другом военнослужащем или полицейском; утомляющее однообразие молитвенных текстов, произносимых по многу раз на одних и тех же богослужениях.
Великолепный пример того, как однообразное, повторяющееся может быть и полезным, и даже нужным, преподал Наполеон Бонапарт, который, найдя в романе Гёте «Страдания молодого Вертера» увлекательные смысловые глубины, перечитал это «захватившее» сразу при его издании многие европейские страны произведение, по его словам, «от корки до корки» восемь раз.
Аналогичное имело место у Льва Толстого: известно, что отдельные свои прозаические шедевры он переделывал (заново переписывал) не то что по нескольку раз, а – по нескольку десятков раз.
Да, разумеется, не исключается и иное.
В Нью-Йорке, например, любого способно вогнать в тоску уже одно только номерное название улиц. Если вернуться опять же к личности Бродского, то, между прочим, у него нигде в эмиграции «боязнь» (или – «болезненность» восприятия) повторяемого «не отмечена» – ни в творчестве, ни в публичных откровениях, чего нельзя сказать об его отношении к стране, которую он вынужден был покинуть.
Рассуждая в «Нобелевской лекции» о бегстве «от общего знаменателя», Бродский, похоже, не придавал значения сходству этого «понятия» с формулой Баратынского о «лица необщем выраженьи»* и просто не мог отказать себе в удовольствии лишний раз побыть на виду оскорблённым собственным изгнанием
*(Е. Баратынский. «Муза». По изданию: «Библиотека поэта». Е. А. Баратынский. «Полное собрание стихотворений»: «Советский писатель», Ленинград, 1957 г.; стр. 142).
Бегство и в самом деле давало ему кой-какое «преимущество» при освещении темы СССР, что видно по стихотворению «Ответ на анкету» от 1993 года, где, в частности, сказано:
Но нестерпимее всего филёнка с плинтусом,
коричневость, прямоугольность с привкусом
образования; рельеф овса, пшеницы ли,
и очертания державы типа шницеля.
(Иосиф Бродский. «Сочинения». «У-Фактория», Екатеринбург, 2002 г.; стр. 681).
Это могло говорить только о своеобразном смирении перед реальностью, но в таком виде, когда личность ещё не успела набрать необходимой устремлённости к свободе в её правовом и притом очень расширенном значении, исключающем остановку или хотя бы оглядку на предыдущее.
То, что всё происходило именно таким образом, доказывается неисполнением «компромата», о котором заявлялось, или точнее – не очень активным участием в таком действе. – Однако это лишь редкий случай «мягкой» «развязки» со свободой.
Самостоятельно выставить ей преграды подавляющему большинству людей попросту, видимо, не дано.
Как мы не могли уже не заметить, обстоятельства нередко принимают совершенно нелепый оттенок, когда свобода «витает» перед людьми и в их сознании как выражение государственного, публичного права. Лишнее теперь отторгается по закону. И, безусловно, отторжение должно иметь предельно крайнюю форму при апелляции права к абсолютному.
Здесь компрометирование нередко «выходит» из опошлённого. Или также – из абсурдного. При этом играет роль обуздание свободного, «предназначенного» для выражения в сущем, существенном: оно как бы увлекает это существенное за собой и как бы его испытывает, что, кажется, нисколько не противоречит общепринятой логике. В том же случае, когда в существенном выявлялась бы алогичность, оно, существенное, должно бы «прекращаться», растворяясь в исходящем на нет, склонном к саморазрушению свободном.
Собственно, это – путь в абсолютное, и ради того, чтобы в сущем не происходило принудительного искривления или игнорирования логичного, его, сущее, и надо бы «испытывать», предоставляя ему возможность развиваться свободно.
Вся беда в том, что практика всегда имеет дело с приблизительным. Сущее в практике, особенно в управлении, есть и требуется на каждом шагу. Но многое не в состоянии сохраниться, будучи отдано свободе. Гармония нарушается. И тогда предпочтение отдаётся уже несущественному, но – якобы существенному.
Именно его «приспосабливают» к действию разрушающего свободного. Через идею, освящённую правом. Тот же путь к абсолютному. Но теперь всё то, что существенно, должно регулироваться принудительно, с «поправкой» (насильственной) на идею. Тем самым также должно быть искажено или выхолощено право. И поскольку принуждённое всегда претендует на свободу, она в нём – подозрительна.
Приходит пора игнорирования сущего, его отчуждения и удаления там, где только это удаётся, конечно, на основе обмана – обманной апелляции к добру через что-нибудь «возвышенное», «патриотичное» и проч.
Образ государства, где управление устроено по такому сценарию, не может не рисоваться исключительно в сумрачных, закатных красках. В искажённом свободном здесь видят именно возвышенное, патриотичное, национальное или уж и националистическое и проч. Остальное становится как бы «лишним»: им можно пренебречь, можно его «забыть», даже растоптать или изничтожить.
Тут как тут и пропаганда с обманным лицом – омытым в источнике верховной (или абсолютной) идеи. Найти компромат ей не составляет никакого труда.
Мы постоянно это наблюдаем сейчас, узнавая позиции США, Евросоюза, Англии и подчиняющихся их политике других государственных образований к действиям и заявлениям России, когда что бы с её стороны ни предпринималось, объявляется кознями Кремля и игнорируется в сопровождении быстро готовящейся лжи, исходящей из любых возможных официальных или неофициальных источников, не говоря уже о средствах массовой информации, где всесветская ложь в отношении России стала показателем их противоестественного шального идеологического единства в угоду своим хозяевам, а одновременно и – их тотальной продажности, – того, что легко допускается при любимой ими, туманной и дезориентирующей свободе слова.
К этому прибавим, что если при общей неполноценной идее «дозволяется» полная свобода, то абсурдное становится очень быстро очевидным для всех. Кому в наши дни не знакомы мотивы безудержного развития алкогольной промышленности и тотального разлагающего воздействия такого развития для населения в том или ином обществе. Но при решении вопроса «как тут всё-таки быть?» абсурдное здесь «обходят».
В управленческие умы, кажется, навеки вбито целесообразное, состоящее в том, что доходы от выручки за алкоголь идут на пополнение бюджетов. И всегда, возвращаясь к этой болезненной общественно-социальной проблеме, управленцы, а заодно с ними уже и законодатели видят свою задачу только в урегулировании сбора доходов от продажи алкоголя – путём установления государствами акцизов, монопольных прав и проч.
Все знают, что проблема «загоняется внутрь». Но никто слова не скажет, что здесь тупик сооружён из представлений, не предусматривающих предела для развития алкогольной промышленности. Это – табу.
Которое «удерживает» в себе, не выпуская, только одну, но действительно целесообразную необходимость – свёртывание промышленности, причём если и не полное, то хотя бы до тех пределов, когда производство и потребление алкоголя сохранялись бы, скажем, лишь в медицинских (оздоровительных) целях (по назначениям врачей? А – что?).
Таким-то образом отчуждается сущее в явлении. Здесь явление возобладает ещё на какое-то, может быть, даже продолжительное время. Но – как обусловленное свободой, оно будет нести и нести всё более мощное разложение вокруг себя – в данном случае
разложение и отдельного человека и обществ, – всего в них социального, и – не только.
Возбуждаемые от случая к случаю «авторитетные» мнения о пользе вина, водки и других крепких спиртных напитков, а также пива вроде как закрывают спонтанный спор о нецелесообразности производства алкоголя. И понятно, в чём тут главное. «Судьба» или «доля» сущего в таком виде (с предположением о запрете) должна быть уже, конечно, «смешной» и должна быть взнуздана, поскольку противоречит идее-фикс, оберегаемой с помощью табу…
Это при его «влиянии» на сущее беспомощно признаётся полная и как бы на все времена неспособность урегулирования его свободности с помощью публичного права. Взамен чего должно «работать» уже только право естественное, причём та его худшая «часть», которая, всё отчуждая, в конечном счёте также должна всё отрицать, – до полного удаления, то есть – до уничтожения всего.
Естественное в данном случае выбирается «по-удобности», то есть исходя всё из той же замшелой целесообразности.
Скажем, вас просветят тем, что, мол, народы меньше пить не станут, уйдут в самогоноварение, в контрабанду и т. д. Как раз это и является следствием сохранения табу. Уже на протяжении веков. С одобрения всех существовавших властей. Показать, что «эстафета» «не принимается», современная демократия, как и режимы предыдущих веков, не может в принципе. Даже больше того – явлению придаются новые энергичные импульсы, усиливающие «целесообразное» отчуждение сущего.
Например, по закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (принят в 1995-м г. в РФ) не допускалась розничная продажа водки, вин и проч. вблизи детских, учебных, культурных и лечебно-профилактических учреждений и на прилегающих к ним территориях. Но, поскольку в разумном порядке по этому акту права оказалось невозможным определиться в длине пути «до» тех самых учреждений, то ничего не нашли лучше, как переложить функции в таком «нормировании» на власти нижнего яруса, – как бы над ними надсмеявшись! И там, «внизу», действительно так всё тогда и «поняли», – мало что понимая и нагораживая одни нелепости на другие.
Не без «пользы», видимо, читали законодатели «Пошехонскую старину» Салтыкова-Щедрина, где писатель рассказывает о деспоте крепостнике «старого образца», который, не будучи ограничен во власти (в дворянской вольности) на территории своего имения, назвал двух своих близнецов-сыновей одним именем – Захарами, будучи Захаром также и сам; но особенно он напроказил с разделом его собственности, поделив, например, крестьянские дворы «через один» (один двор одному сыну, другой – рядом с первым – другому и т. д.), обойдясь так же с землёй, господским домом и т. п.; – то-то было хлопот разбираться в этой оригинальной издёвке самодура его затюканным отпрыскам, поскольку за небольшим отрезком времени каждому из них и жить приходилось постоянно тут же, никуда из имения не выезжая!
(См. об этом: «Библиотека «Огонёк». М. Е. Салтыков-Щедрин. Собрание сочинений в десяти томах. Издательство «Правда», Москва, 1988 г.; том десятый, стр. 511, 512).
В целом, когда говорится о разрушении через увеличенную свободу, при оценке нежелательных результатов, наступающих в чём-то одном, обычные, простые люди, за редкими исключениями – снисходительны и терпеливы. Индивидуальную вину, к примеру, за отдельный бытовой проступок или за «оплошное» ненормативное поведение на обществе, если за ними не возникало ответственности по суду или – значительных материальных потерь, они часто склонны прощать, хотя бы эта мера могла кое-кому казаться слишком мягкой.
В обоснование используются доводы, что если тут была развязность, то вполне извинительная – как «лёгкая»; также «в зачёт» могут приводиться объяснения «молодостью», «талантом», «характером», «склонностью к шутке», что тут просто «мелочь» и т. д. Провинившемуся в этом случае предоставляется возможность всего лишь извлечь необходимый нравственный урок – чтобы «не повторяться».
Как правило, «претензии» «без последствий» выражаются в пределах обычаев, народных традиций. Здесь мы имеем дело с тем сущим, которое, будучи в «свободном движении», так или иначе получает общественную «поддержку», а обвинения, если даже причинён некий вред, быстро «стираются» и сходят на нет.
Однако свободность в «частном» качестве может быть и другого рода. «Может быть» – потому что даже в единственном, как, скажем, в бомбёжках Соединёнными Штатами Америки городов с их гражданским населением то в одной то в другой стране («за отсутствие демократии» и в соответствии со своими гегемонистскими интересами) свободное «индивидуальное» поведение, исходящее из «целесообразного» или идеи-фикс, что называется, уже давно стало ощутимо для всех.
Самое лучшее как поступить с таким частным или «оригинальным» – устранить его или, по крайней мере, желать, чтобы оно не превратилось в массовое. Ведь будучи выражены многими (в данном случае многими государствами), проявления слишком свободного рассматривать как безобидные было бы и опрометчиво, и опасно, причём – даже в мелочах.
Касаясь же индивидуумов, отдельных людей, всех нас, есть необходимость напомнить, что наше поведение всегда конкретизируется в поступках – при любой степени свободности. Если есть и даёт о себе знать мода или пример, неважно какие они – «хорошие» или «плохие», на них многие равняются. Если нет ни того ни другого, – идут «своим путём», как бы изобретая индивидуальное, иногда останавливаясь, но всё же постоянно двигаясь дальше.
В условиях либеральной демократии к этому каждого увлекает верховная правовая «ценность» – «освобождение» «до конца».
Однако правовое в таком крайнем виде на каждом шагу входит в противоречие с конкретным правом, которое в теоретическом плане уже давно воспринимается не иначе как обобщённое насилие.
(Об этом см.: Владимир Соловьёв. «Духовные основы жизни», глава II. По изданию: «Выдающиеся мыслители». Владимир Соловьёв. «Избранные произведения». «Феникс», Ростов-на-Дону, 1998 г.; стр.173).
Одно правовое, выходит, «борется» с другим. – Конечно, проиграть и «сдаться» обречено право конкретное, действующее в обществах. Поскольку обладающее разрушительным верховное негласное право тоже есть насилие, но только более мощное, не имеющее предела.
Проявлений отторгаемости у каждого из нас могут набраться, как видим, десятки, если не сотни за сравнительно небольшие отрезки времени. Это, если выражаться образно, есть та нежелательная цена, в которую обходится нам наша свободность. Не всегда умеющие управлять собой, мы, в порядке вещей, многое из этого «ассортимента» попросту упускаем из виду, не замечаем.
Снисходительно можно относиться, например, к тому, что, войдя в тесноватый проулок, вы вдруг ощущаете, как вам мешают идти редкие встречные. Многие идут прямо на вас, как бы не намереваясь разминуться. – Здесь незначительное раскованное, взятое от права на освобождение «до конца» и будучи массовым, мало различимо; далеко не каждый придаст ему хоть какое-то значение.
Разрушающую силу свободного в человеке невозможно оставить незамеченной, когда оно ещё и стимулируется – физически, физиологически, что бывает при употреблении алкоголя, наркотиков и проч., чего мы уже касались выше.
Становясь массовым, «индивидуальное» многократно увеличивается в его разрушающей мощи. – И причина тут очевидна: уже в самой свободности, которою обусловлено отчуждение, развиваются элементы силы, насилия; – их накапливание где-то обязательно должно переходить в доминирование, в «захват», распространяемый на весь процесс…
Свою негативную роль может играть здесь и выбор. Он теперь, безусловно, очень широк, поскольку человек или корпорации (а также, разумеется, и – государства), будучи «вправе» и «теряя» при «освобождении» многие «прежние» свои обязанности и обязательства, не намерены отказываться от их возрастающих, как правило, не всегда – лучших, даже одиозных, новых запросов и интересов.
Теперь интересы могут варьироваться в значительно большей степени, чем в «обычных» условиях – «до того».
А это значит, что могут иметь место и более выраженные формы отчуждаемости, вплоть до крайних, когда, скажем, среди конкурирующих наступает момент обоснования права сильного и на смену отчуждаемости приходит необходимость удаления или даже – уничтожения.
На такое «право» обычно претендует сначала не кто-то один из многих, а именно – многие или, по крайней мере, немалая их часть. При этом отход от существующих норм может всецело отразиться на выборе манеры поведения уже в тех случаях, когда ещё требуется учитывать позицию находящихся рядом или – общественное мнение.
Здесь оглядка на конкретные обстоятельства пока что способна сдерживать устремлённость на более скоростное освобождение. Но, поскольку пример уже подан, сам собой процесс движения вперёд остановлен или ограничен быть не может. Или же, если это должно быть сделано, то лишь с невероятными трудностями (в том числе – связанными с огромными расходами), из-за чего принятие контрмер уже окажется вне рамок целесообразного с точки зрения здравого смысла.
Для всех участников процесса, если он наблюдается даже в условиях «лучшей» цивилизованности, предстоят тяжёлые времена разборок и упований на толерантность, которой постоянно не хватает.
Солидарность и согласие нужны как воздух, ведь участники процесса, развивая свободное, во многом поначалу имели одинаковые или почти одинаковые интересы, что вело к сотрудничеству, к обрастанию взаимосвязями. Свобода же «требует» оборвать их, выйти из них, чтобы оказаться «впереди».
Выросшее количество взаимосвязей теперь должно этому препятствовать; в результате неизбежна дестабилизация в отношениях, которая быстро захватывает все поры общественной жизни и все общества, где проблемы с «освобождением» заходят за края; там ревизуются, пересматриваются непосредственные предметы, по которым устанавливались или укреплялись различные связи.
В пределах контактов межгосударственных это могут быть этнос, культура, товарообмен, традиции, вера – что угодно, – если к тому находятся хоть малейшие поводы или амбициозные притязания.
Та же система разборок, а значит и соответствующих потерь на уровне корпораций и предпринимательства.
Здесь обогащение становится единственным «правовым» средством оставить всех позади; оно не может заканчиваться ни на какой величине приобретённого, пусть это была бы даже бесконечная величина, на что устами Афинянина (Сократа) из уже цитированной нами работы «Государство» указывал ещё Платон:
…хотя, – говорил он, имея в виду тех, кто был занят выполнением работ и услуг по заказам частных лиц и полисов Древней Греции, – возможно извлекать умеренную прибыль, они предпочитают быть несчастными.
(Платон. «Государство. Законы. Политик». «Мысль». Москва, 1998 г., стр. 666).
Во имя свободы, как видим, не может идти и речи об ограничениях в желании обогатиться. Это одно из «корневых» табу нынешней демократии.
А довольствуются при таких устремлениях лишь законами в виде правил «игры» (приватизация и проч.), в которой привольнее всего тем, кто обладает властью делить или просто по натуре мошенник. Как раз в таких обстоятельствах в обществах и в государствах возникают адовы круги неудержимой коррупции.
Подверженный накатам «освобождения», испытывает соответствующие деформации и сектор личностного, индивидуального.
Достаточно указать на ошеломляющие подвижки в разрушении семейного уклада, что в последние времена выражается в росте числа разводов и соответствующего же роста брошенных детей, всё чаще обрекаемых на беспризорность и беспросветное нищенство, на болезни, преступления и проч.
И если когда-нибудь это скажется полнейшим развалом концептуальности всей современной либеральной демократии, как очередной формы цивилизации, то при этом, собственно, и упрекать и винить будет некого. Поскольку, избрав метод «освобождения» «до конца» в качестве своих правовых стратегий, и власти и общества должны чем далее, тем становиться всё свободнее от обязанностей за чьё-то последующее будущее, оставаясь буквально во всём ни при чём.
Если манкуртизация была плоха как состояние тотальной забывчивости о прошлом, то чем же она лучше в ипостаси, связанной с неудержимым слепым уклонением от ответственности за будущее?
Надобность в более глубоком осознании реального и возможного заставляет обратить наше внимание также на то, каким образом освобождение трансформируется в жизненный стиль, при котором люди могли бы не быть ущемлены негативными последствиями от своей свободности.
Итог здесь, как нам представляется, всегда надо принимать таким как он сформировался – «вылепился»; то есть речь должна идти о согласии многих, а со временем и – всех «освобождающихся» на такое абсурдное или скомпрометированное, которое ранее казалось резко непривлекательным, но – необоримо. Тут, хотя и к большому сожалению, не остаётся ничего другого как принять его таким, как оно есть.


