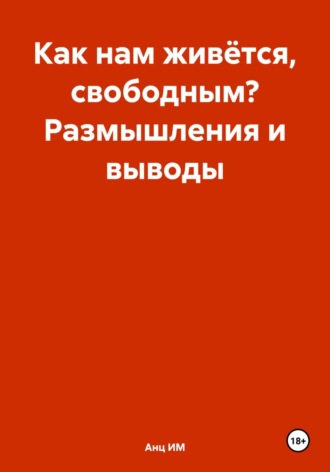
Анц ИМ
Как нам живётся, свободным? Размышления и выводы
Это обозначает «утверждение» освободительного этапа с переходом к новой, уже легальной «норме», имеется ли в виду этический постулат или регламент права. – Если хотят избежать слишком быстрого перетекания свободного в таковые нормы, должны действовать жёсткие факторы его сдерживания. Но всё равно «природа», как говорится, берёт своё…
Как сказано у классика:
…те перемены, которые как будто наступают с ходом времени, по сути никакие не перемены…
(Франц Кафка. «Голодарь» (четыре истории): «Маленькая женщина». В переводе М. Абезгауз. По изданию: «Классики ХХ века». Франц Кафка. «Феникс», Ростов-на-Дону – «Фолио», Харьков, 1999 г.; стр. 263).
И ещё несколько замечаний по теме настоящего раздела.
То освобождение, которое происходит вне осознания его последствий, не менее губительно чем революции. Ведь оно по своей содержательности и есть не что иное как действие именно революционное, взрывающее.
Очень часто процесс движения к свободе выражается будто бы в небольшом – в желании возврата к состоянию изначально естественного. По той причине, что в представлениях кого-либо (не обязательно только одного) оно может ошибочно признаваться неким прошлым положительным опытом, – где больше раскрепощения, раскованности.
Но как раз на этом пути движение оказывается наиболее драматичным. Поскольку ограничители в виде обычаев или элементов публичного права предназначены в обществах по преимуществу только для отхода от первоначального, не оправдавшего себя естественного, – для разрыва с ним, ухода от него.
Сами же по себе они тоже приобретают признаки естественного, хотя уже и другого по содержанию, «отдельного», самостоятельного, этапного – «нормы».
И теперь, чтобы войти в «начало», нужно всё, что было предназначено для отхода от него, сокрушить или, в крайнем случае, обойти.
Но опасность тут не в одном этом условии.
В изначально естественном очень много такого «порочного», от чего уходили, изобретая ограничения и считая, что оставаться в нём дальше чревато. – Что можно получить, возвращаясь к худшему?
Когда в естественных условиях родового строя или даже дородового человеческого жизнеустройства замкнутое в себе полигамное кровосмешение между родственниками стало прямой угрозой для существования и выживания, то был только один способ избежать всеобщей погибели из-за вырождения – в переводе репродуктирования на начала свободы.
Поскольку же отрицательный результат от такой перемены мог тут же свести на нет всё «мероприятие», то вскоре в виде ограничителя был, как метод спасения, «выделен» институт семьи.
Но – чтобы функциональность этого института могла в те времена рассматриваться именно в его спасительном качестве, он, конечно, должен был хотя бы в зачатках или в общих чертах существовать и много раньше, представляя собою предмет наглядный и очевидный, пусть даже и на «низшем», инстинктивном или каком-то ещё другом подобном уровне.
В нашей популяции, в её очень далёком от нас и ещё диком состоянии элементы института семьи уже могли быть чётко обозначенными и проявляться такими, какие мы можем наблюдать в нынешнее время у животных, в частности, у ближайших к нам по физиологии – у приматов.
Здесь вопрос лишь в том, когда и при каких условиях наши предки выходили из дикого состояния и оказывались в состоянии homo sapiens – с его великолепными умственными возможностями, многократно превосходившими то, чем должны были довольствоваться предыдущие им поколения.
Логика подсказывает, что семейный брак (парный или гаремный), как ограничитель благ «не принятой» предками полной (бескрайней) свободности, непременно должен был поначалу рассматриваться по большей части в его «естественном» виде, то есть как рассчитанный прежде всего на воспроизводство ячеек; в таком содержании он долгое время позволял более-менее удерживать общества (в виде родов, племён, государств и проч.) от разлагающих последствий «ненормативного» процесса взаимоотношений полов, становившегося необратимым.
«Первые» люди, как это нетрудно представить, уже по-своему обустраивались в их мире, и им просто нельзя было не призвать к себе в помощники так высоко поднявшее их интеллект «освобождение».
Роль разрушителей старины, с её кондовыми обычаями и ограничениями, часто ещё – кровавыми, в значительной степени, вполне вероятно, могли выполнять «изгои» или «шатуны» – те молодые представители мужского пола, каких по их взрослении вынуждены были отторгать от себя в самостоятельную жизнь семьи или кланы, – как лишних (едоков, самцов и проч.)
В сочетании с открывавшейся перспективой активного мигрирования и смешения рас этот «инструмент» раскрепощения должен был впрямую служить ускоренному «развитию» половых отношений. Развитие здесь приводило к тому, что жёстко повергались прежние кондовые ограничения, и они заменялись закрайней свободой, что, должно быть, расценивалось соплеменниками не иначе как величайшее достижение, но – уже грозило институту семьи. Здесь плюс выходил разве лишь в том, что резко отодвигались угрозы вырождения, о которых сказано выше.
О том, что в далёкие прошлые времена при возникновении института семьи был достаточно продолжительный период такого серьёзного пересмотра жизненных принципов и соответствующих «приобретений», подтверждают учёные из университета Аделаиды, Австралийского национального университета (Австралия) и университета Пенн Стейт (США), рассказавшие о результатах своих специальных исследований в журнале Nature Ecology & Evolution.
На основе данных об останках людей, живших в Европе и Азии в последние 45 тысяч лет, а также климатических изменений авторы публикации утверждают, что всего 10 тысяч лет назад генетическое разнообразие в людских анклавах было намного богаче, чем у людей нынешней современности. Иными словами, энергичнее шло их размножение и передавался лучший генетический фонд потомкам.
Мы можем уверенно утверждать, что выявленные учёными закономерности указывают одновременно и на ту заметную степень «освобождения», которую довелось испытать в своей истории многим народам и по которой их новые поколения могут до сих пор ностальгировать – как о естественном праве, с отчуждением воспринимая трудные обстоятельства нынешней жизни на земле. Где не может быть полной, исключительной, абсолютной свободы ни для кого – ввиду необходимости укорачивать её ограничениями.
Былая великая свобода тех давних сроков представляла из себя, как приходится её понимать сейчас и нам, обусловленное природой «приобретение» огромной исторической важности не только по части убережений общинных способов существования и гарантирования полноценной физиологичности, генного.
У человека при более высокой в нём развитости, в том числе – чувственного, эмоционального, с появлением избыточного и более комфортного досуга, более сытного пищевого достатка неизбежно должны были возрастать и возможности удовлетворяться чувственностью.
На этом этапе могла происходить стремительная переориентация в сущности полового спаривания. Поскольку репродуктивное обеспечивало в нём самую высшую меру чувственного, «выходившего» из либидо и непосредственно спаривания (секса), то здесь и следовало быть тому, в чём удовлетворённость чувственным могла достигать наибольшего.
То, чем удерживалось раньше репродуктивное, становилось теперь довлеющим, выходящим «за рамки», тем более что «освобождение» не обходилось без тех самых «изгоев» и нового ритма передвижения людей по материкам земли.
А главный результат состоял в том, что репродуктивное уже «использовалось» по преимуществу как нечто «вторичное»; – оно отодвигалось в сторону, уступая место удовольствиям, чувственному.
Это «новое» и до настоящего времени существует только благодаря «старому» – репродуктивному. Но так сложилось, что «отрыв» отсюда оказался настолько мощным, что репродуктивное всё чаще как бы игнорируется, не признаётся; – оно оказалось приглушенным даже в области этики и существовавших традиций.
Также, думается, не лишено смысла предположение о постоянном многократном «экспериментировании» с институтом семьи ещё с доисторических упований на свободу, прежде всего – личностную, поскольку не могло стоять на месте развитие «мощи» удовлетворения чувственным.
Ведь востребование всё более частых сближений (спаривания) вряд ли «умещалось» в рамки какого-то одного вида семейности; нельзя исключать, что их, таких видов или «ступеней» должно было быть достаточно для «закрепления» успеха «освобождения», которое проходило от одной меры («нормы») насыщаемости к следующей и т. д., – пока оно не достигло этапной «величины», сопоставимой с нынешней или уже близкой к ней.
Можно, видимо, говорить даже о том, что в отдельные исторические периоды такие процессы бывали, что называется, повальными, касавшимися всех, и часто они искусственно возводились в разряд повальных под влиянием силовых традиций.
Именно так, в частности, мог возникнуть обычай обрезания, который получил широчайшее распространение в коленах древнего народа Израиля и в сопряжённых с ним племенах.
Обрезание, как то подтверждают нынешние мусульмане и евреи, обеспечивает, кроме повышенной гигиеничности (что было очень важно для условий кочевого образа жизни, часто – в пустынных, безводных местах), бо́льшую продолжительность акта совокупления, а также – дополнительные «нюансы» в самом акте.
Эта «норма» признавалась настолько значительной, что никакие меры по её запрету в рамках борьбы с очевидными половыми извращениями уже ни к чему привести не могли.
Сегодня институт семьи, прежде всего в составе двух супругов (мужчины и женщины), обветшал преимущественно из-за того, что в его рамках стало невозможным полноценное репродуктирование; – оно размыто под воздействием тотального «освобождения».
Поражающее действие отрицательного итога достаточно ощутимо здесь в виде бурного распространения инфекционных заболеваний и в мутациях (рождение уродов), в основе чего находится извращённое, а также – нарушения экосистем, которые в свою очередь исходят от «освобождения» в других сферах современной жизни человеческого сообщества или отдельных стран.
Даже образование семей на основе брачных контрактов уже не в состоянии исправить ситуацию, так как в целом семейным правом урегулируются только чисто имущественные, вещные, «материальные» отношения. – От репродуктирования в его природном значении всё это далеко в стороне.
Надо полагать, напрасны были бы также упования на то, что освобождённые ото всего (почти в рамках изначальной свободности, в данном случае взятой, конечно, «от» абсолютного) и, стало быть, уже основательно «размытые» и роняющие перспективу отношения между полами имеют якобы нескончаемый «резерв» устойчивого равновесия (баланса) на фоне смешения миллиардных людских масс (свобода перемещения).
Медицинская наука и практика в этих условиях не в состоянии угнаться за новыми напастями – последствиями «освобождения», – как бы ни были велики на данном участке масштабы финансирования или развития оздоровительной и профилактической работы. Поэтому несомненно то, что резкое генное ускудение человечества, как производное от свободности, уже, может быть, надо считать фактом сегодняшнего дня, и, если это действительно так, то и ещё большее ухудшение ситуации – не за дальними горами…
И ещё к вопросу об отторжении и отчуждаемости как «средствах» неостановимой, методичной устремлённости к новым разливам свободы и существенно её портящих и перерождающих.
Движение к изначально естественному, в ту сторону, где в лучшем случае имели место лишь инстинкты или начатки обычаев, следовало бы рассматривать в его полнейшей реакционности. Ведь речь при этом идёт об устранении громадного материализованного опыта, в том числе в формах поведения и принятия решений. Повторимся: выбор тут устремляется «через голову» «нажитого» веками или в обход его. Но – всегда он стремительно скор (особенно в этом месте!) и содержит апелляции к естественному, как некоей благости, принимать которую нужно будто бы за неоспоримую данность.
Отсюда особая нетерпеливая притязательность и агрессивность в актах «освобождения», если оно протекает в обществах и тем более, если оно – правовое: ему нужно представляться важным, «осмысленным» и как бы даже «красивым» уже на этапе движения к естественному – как таковому, безотносительно к содержанию последнего.
В обычных условиях гражданского социума это не может не выражаться обилием демагогии, словоблудия и сопутствующей им сословной мимикрии. – Того, чем постоянно довольствуется любой в статусе новейшего прагматика.
При наличии отчуждаемости становится очень важным и аспект недоверия в людской среде.
Где, на какой «площадке доверия» люди могли бы чувствовать себя более-менее уверенными в настоящем и в будущем, – умиротворёнными?
Ведь уже ни для кого не является секретом, что такие «вечные» понятия, как честность, порядочность, доброта и т. д. с течением времени всё больше «стираются», нивелируются, сходят на нет и нет им замены, по крайней мере, такого не приходится ожидать в условиях нынешней цивилизации. А что ещё хуже – они сплошь и рядом совмещаются с противоположными и не только в одной личности, а и в коллективах, группах, других образованиях, временных или постоянных.
Люди часто уже никак не могут доверять – друг другу, субъектам деловой активности, отдельным ведомствам, правительствам, партиям, нередко и самим себе. Этого нельзя не заметить по огромности управленческого административного аппарата, в котором как будто хотят видеть удобство и некую эффективность экономических, бытовых и прочих начал, а по сути тут решается вопрос о внутриобщественном, присутствующем во всех и в каждом недоверии уже едва ли не крайнего масштаба, требующем всё новых и новых мер его умягчения и снятия социумных перенапряжений.
Увеличение численности судей, полицейских, офисных работников и проч. – лишь прямое следствие извращённостей в человеке (убийства, кражи, взятки, мошенничество и т. д.), – когда их нельзя предотвратить меньшими усилиями.
В этом отношении в одном ряду среди новейших «средств» и мер против «порчи» человеческого сообщества можно рассматривать и фактор востребованной повышенной опрозраченности нашего бытия – медийную отрасль. Появление СМИ связано и в целом с накатом прогресса (востребованием новых знаний и впечатлений) и вместе с тем – с недостаточным воздействием этики и публичных установлений: их каждому бывает легко обходить, «не выставляясь» и не будучи на виду.
Впрочем, как и всё, что вызвано прогрессом, и СМИ тоже оказались не в состоянии надолго оставаться вне абсурдного и опошления. Мы этого просто не могли не коснуться, указывая на причины проявления всесветской лжи в средствах массовой информации стран так называемого демократического Запада.
Состояние умиротворённости в целом есть, конечно, иллюзия, но оно возможно как желательное конкретное – через устопоривание абсурдного. По части же того, как тут свести концы с концами, тяжело всегда не только пророкам; вдесятеро тяжелее должно быть тем, кто взялся бы за это уже непосредственно…
«Освобождение», как мы убеждаемся, проходит своими этапами, постепенно «разгоняясь» и выходя за рамки необходимого, а часто и – «дозволенного».
В наши дни ему нет преград. И оно пронизывает буквально все грани общественного бытия, до самих его основ, до мелочей.
Нет ему и приемлемой, говоря без обиняков, – «целесообразной» замены, альтернативы. – Если не считать одной и последней возможности – перейти от витания в облаках к решительным осмысленным ограничениям.
Но – поскольку здесь речь должна идти о свёртывании свобод, то, вероятно, вкусившие их окажутся пока на тяжелейшем распутье, не допуская перспектив своего неизбежного реального и широчайшего уграничения.
11. ОГРАНИЧЕНИЯ КАК МЕРИЛО СВОБОДЫ
Любому из нас всегда не мешает проявлять особую осторожность там, где неизбежным и до́лжным ограничениям при допускаемой свободе по разным причинам не придают сколько-нибудь серьёзного значения.
Для большинства людей интерес к ограничениям если и возникает, то преимущественно в том их содержании, когда они вводятся в публичном правовом пространстве. То есть – в тех нормах, какие при декларировании гражданских свобод и прав устанавливаются государствами или от лица государств – одного или их союзов.
Сюда, само собой, входят и ограничения, помещаемые в тех шатких и часто не соответствующих ухарским декларациям нормах, которые становятся государственными, будучи в частях или полностью заимствуемы, – из кладези естественного общечеловеческого права.
Также хотя и безотчётно каждый из нас устанавливает их уже лично для себя, находясь в положении субъекта, соблюдающего нормы и государственные, какие ему известны, а также и неизвестные, и те естественно-правовые, неписаные, какие он уяснял и уяснил со своего рождения
Поэтому оправданно рассматривать ограничения в большей части характера социумного, в строгом их соотношении как с публичными актами права, так и с этическими, оставляя в стороне аспекты их бытования, впрямую не связанные с государственными или персонифицированными интересами, – те из них, которые в изобилии имеют место в мире физическом, в самых разных процессах, например, при свободном падении или перемещении тел.
О том, что в неподконтрольной государствам сфере ограничения есть и даже – обязательны, кажется, никому в голову ещё не приходило спорить, поскольку факт их наличия никогда не отвергался ни философией, ни практикой.
В свете такого понимания вещей тем очевиднее должно представляться нам то правовое невежество, которое пока ещё царит в массе граждан, упрямо не желающих считаться с необходимостью увеличения своих свобод непременно в ограничениях, «сопровождающих» или умаляющих каждую из этих свобод.
Здесь надо уяснить прежде всего то, что ограничения, как важнейшая «наполняющая» любого закона или его отдельных норм, представляют собою прямую альтернативу свободе, и, занимая в законах своё «положенное» место, они перечёркивают её в тех сравнимых пропорциональных объёмах, в каких бывают представляемы сами.
Допускать урона свободе при таком подходе никому не хотелось бы, – это совершенно ясно. Ведь речь в этом случае шла бы о её существенном ущемлении – как «вещи» неизменно высокой общественной ценности и как своеобразном показателе не только общественного прогресса, но и – цивилизованности.
И тем не менее нашим бытовым практицизмом (и той же цивилизованностью) нам диктуется жёсткая необходимость иметь в хорошо осмысленном раскладе оба указанных «наполнителя».
Представлениям о них при этом не грозит превратиться в оторванные и ни в чём не зависимые друг от друга обособленности; наоборот – оба «наполнителя» могут проявляться более отчётливо, как бы отражаясь один в другом.
Польза тут несомненная, и она в том, что свобода, каким бы почитанием к ней ни проникаться, никого бы не уводила в заблуждение насчёт своего «размаха». Он у неё ровно такой, каким его делают ограничения. Не более того, но и не меньше.
Соответственно в полном виде «поведение» или значимость каждой из названных выше составляющих публичного, государственного права легко умещает в себе вот это простое уравнение:
Закон (равно как и отдельные его нормы) = ограничения + свобода.
Здесь было бы ошибкой поменять слагаемые местами, поскольку ими представлены не чистые цифровые величины, а строго правовые понятия. Каждое из них по отношению к закону занимает только своё место – ближе или дальше от его внутренней, «центровой» «точки». Безусловно, ограничения примыкают к ней плотнее. В чём не трудно убедиться, если понимать закон как необходимость, «направленную» к установке и «удержанию» запретов – на излишки свободы.
Без ограничений он собою ничего представлять не может. Хотя в условиях демократии его, закона, нет и при отсутствии в нём свободы; – но расценивать её роль надо здесь по-другому.
Ведь она «была» и раньше – «до закона». Собою он урегулировал определённые отношения в обществе, к примеру, деятельность СМИ. Эта деятельность какое-то предыдущее время специальным законом не управлялась и была свободной. «Рамками» ей служили в совокупности правовые установления в государстве, а также усто́енные обычаи в виде морали и нравственности. Взяли эту наличную часть и «поместили» в закон, наделив «обязанностью» помогать ему.
Стало быть, слагаемые отличны одно от другого в том, что ограничения являются плотью от плоти закона, а свобода в нём – гостья. И не сказать, что она приятна во всех отношениях.
Наделённая функциями, укороченная, неразборчивая к похвалам, – уже только по этим очевидным признакам юридической неполноты она соотносима с ограничениями. Поскольку же в закон могут входить новые и дополнительные запреты, свобода вынуждена оберегаться от соперников на своей «территории» по методу ящерицы: при любом посягательстве часть её сама собой отпадает.
Из-за такой постоянной «оглядки» на убыль ей, собственно, и нужно то более для неё подходящее место, которое указано в уравнении.
Из приведённых пояснений вытекает следующее: не могут оправдываться никакие и ничьи «целесообразные» понимания свободы, – когда ей никто, мол, не может ставить никаких препон.
Чего скрывать, устойчивое, нередко почти болезненное пристрастие к ней в её как бы абсолютном качестве и «размахе» в наши дни есть пока фактор преобладающий. И что ещё хуже – о нём, как факторе негативном, на обществе не принято ни говорить, ни писать, ни слушать.
Вот почему лукавство посредством недовнимания к ограничениям, небрежного сталкивания их в некий побочный, почти как «срамный» резервуар нашего бытования не может не вызывать обеспокоенности и тревоги.
Ведь здесь приходится говорить уже не о чём ином как о стерилизации свободы, её отрыве от правовой основы и истолковании в том «представляемом» только высшем значении, которого за нею никогда не случалось и нет сейчас.
Если взять даже лучшие законы о СМИ в разных странах, то, к сожалению, толкование ограничениям даётся в них именно в таком тоне. Они представлены как бы в виде исключений – по хорошо всем известному «остаточному» принципу. И говорится о них в целом сдержанно и скупо, хотя их набирается много.
Существенные объёмные ограничения можно увидеть почти в каждом из дополнений в законодательные акты, какие по необходимости вносятся в такие акты после введения их в действие. Что, конечно, представляет собою фактическое урезание поля свободы уже в дополнение к тому, что было урезано раньше.
Выталкивание ограничений на обочину часто имеет результатом уже не стерилизацию свободы, а нечто более каверзное, в виде обтрёпок, только отдалённо схожих с ограничениями. Им суждено играть по сути новую роль, а точнее – уже не играть никакой роли, так как из под них на свет появляется их антипод – свобода, но вовсе не та, которая желанна и полезна обществам. Помните: – которая сродни беспардонной вольности?
Почему же нас как магнитом тянет поступать «наоборот»? Знаем ли, что нам надо? Готовы ли были бы мы соблюдать запреты, если они ко благу? Пожалуй, лишь изредка. И там, где сказано «нельзя», но не висит дубина, перенимая друг перед другом худшее, удовлетворяясь безнаказанностью, протаскивается «можно».
У России по этой части, как выразился поэт Тютчев, «особенная стать». С нею очень просто обойти любые существующие запреты, в том числе – закреплённые в государственных законах и подзаконных правовых актах.
В наибольшей степени в нашей стране попустительство нарушениям законов имеет место, пожалуй, в той их части, где сосредоточены требования корректного и уважительного обережения прав и человеческого достоинства в области межнациональных отношений.
О том, какие здесь бывают «уклоны, далеко за примерами отправляться не надо.
Откровенным шовинизмом пропитаны многие телевизионные юморины Задорнова («Я – не понимаю!»). По всяким неосновательным поводам, а то и вовсе без них пользуемся такими словесными значками превосходства русских надо всеми «остальными» в своём отечестве, как «русская душа», «русский характер», «русский дух», «русская тройка», «русский лес», «русская берёзка», «русское поле», «Волга – русская река», «исконно русская земля», «любить по-русски», «новые русские» и т. д. и т. п.
Нельзя в связи с этим не отметить, что высокомерие или даже враждебность по отношению к «иным» входили в России в традицию при участии не в последнюю очередь «высшего» или образованного сословия.
Гоголь, этот вдохновенный певец православия, был, разумеется, не первым, кто поставил на поток широкое бездумное употребление оскорбляющего слова «жид» – как средства художественной выразительности. В том же замечены и не один раз Пушкин (чего мы уже касались), Тургенев, Горький и другие писатели.
«Традиция» въелась так глубоко, что становилась как бы частью национальной русской культуры: за последние двести с лишним лет никто ни разу так и не упрекнул в назывном оскорблении еврейства ни сам себя, ни кого-либо другого…
Вы разве с этим не сталкивались?
Из лукавства, а вовсе не из соображений большой культуры «иные», а это прежде всего народы или народности нашей федерации, оставляются, конечно, не названными – вслух или в письменах. Но и на слуху, в речах и докладах, как соответственно и в письменности (в литературе, учебниках, на витринах и проч.) указанные выше значки, выражающие «высший» статус одной нации, присутствуют в невероятных количествах, и время, к большому сожалению, оказывается не властно поставить серьёзную преграду этому хулительному «припасу».
И разве хоть кто-нибудь из очень многих, кому позволено совершенно беспрепятственно употреблять приведённые здесь выспренние обозначения, задумывался или задумывается, в какой мере они оскорбительны для «иных»?
Разве не должна никого беспокоить ситуация, когда при явном игнорировании правовых запретов резко понижается уровень действенности законов, то есть, говоря проще, – их цена?
Для изощрений в бытующем сейчас «русском» национализме, о котором из того же лукавства ни словом стараются не обмолвиться, кажется, нигде, ни на каких общественных и государственных этажах, даже в бытовом общении, изобретено и быстро пошло в ход словечко «русскость», аналоги которому в языках остальных народов и народностей федерации, а равно и зарубежья выглядели бы простым чудачеством и нелепостью одновременно: балкарскость, гольдскость, чувашскость, татарскость, комичность(?), голландскость…
Не менее изобретательны по части возвеличивания нациями себя и всяческого третирования других в зарубежье – ближнем и дальнем.
Достаточно вспомнить, как на протяжении веков устраивались гонения на евреев, в чём наряду с европейскими странами и Оттоманской империей замечена и Россия.
Все виды неприятия этой многострадальной нации, а заодно и всех, кто становился на пути людоедских амбиций фашистов, казалось бы успела продемонстрировать миру Германия в годы, когда она управлялась Гитлером и его приспешниками, в частности в годы Второй мировой войны. Но нет же.
Новый, нынешний век, несмотря на провозглашение общемировых юридических норм, направленных на соблюдение принципов гуманности и суверенных прав в отношениях между государствами, дал образцы невиданного доселе всплеска агрессивного тупого национализма и соответствующей ненависти к «иным». Это стало очевидным на фоне проводимой Россией специальной военной операции на Украине, где путём госпереворота власть узурпировали неонацисты.
«Демократический» Запад в лице главным образом Соединённых Штатов Америки и Евросоюза поддержал их в защите ими своих «ценностей». То, что провозглашаемые ими «ценности» легко умещаются в понятии «фашизм», не смущает ни украинских неонацистов, ни их покровителей.
В результате предприняты огромные поставки современных вооружений Украине и развёрнута по-настоящему лютая, патологическая русофобия – как в этой бывшей советской республике, так и в поддержавшей её фаланге стран, похваляющихся своей «демократией». Похоже, маски с «физиономии» её радетелей окончательно сброшены и даже – за ненадобностью – отброшены прочь.
Таковы лишь отдельные интерпретации свободных, а по сути вольных, волюнтаристских действий в защиту квазисвобод и тех искривлённых пониманий своего места на земле и в общей истории народов поборниками «демократии», когда ими нарушаются установленные законами ограничения, призванные не допустить посягательств на достоинство наций и рас, каждого их сочлена.
Но если, как мы видели и видим, права наций и рас так бесцеремонно попираются во внешнем и в наглядном, то не лучше обстоят дела и на уровне подсознания.
Для ряда медийных программ законами о средствах массовой информации запрещается использование скрытых вставок, воздействующих на подсознание или оказывающих вредное влияние на здоровье. Однако сказать хотя бы о том, каким образом и кому надлежит определять нарушения такого запрета, просто пока абсолютно нечего – ни законодателям, ни тем, кто исполняет и охраняет законы.
Эта важная сфера на протяжении долгого времени обречена оставаться вне интересов обществ и государств – «нераспакованной».
Всем хорошо известно, в чём тут дело.
Над тем, как реально обеспечить ограничения и усилить их действенную мощь, никому не хочется утруждаться. А сторонникам очень большой свободы несть числа.
Если же бы существовала возможность измерить её в конкретном, а не в сравнительном объёме, то не исключено, что в наличии, согласно содержанию целого ряда законодательных актов или их статей, нисколько её не больше, а то, может, и на много меньше установленных ограничений.
Тех, которые часто позарез нужны во здравие перво-наперво ей же – свободе. Предусмотренных, скажем, для средств массовой информации в федеральных конституционных законах России № 3-ФКЗ от 30 мая 2001 г. «О чрезвычайном положении» и № 1-ФКЗ от 30 января 2002 г. «О военном положении».
И у нас от стыда за такую выхолощенную свободу хватило бы решимости это признать?
Сделать это пора бы. Если медлить и стараться ничего не замечать, то, как было и раньше, останется только изображать святочное, «благородное» недоумение насчёт того, откуда берутся скинхеды, экстремисты, другие разного рода политиканствующие или до времени аполитичные «бузотёры», фанаты, террористы, фашисты и их прямые последователи наконец.
Прочь лицемерие! Они появляются прямо из нас. Из наших ущербных общих пониманий свободы, порою никак не соотносимых с обилием узаконенных обязанностей и ограничений…


