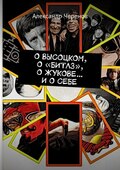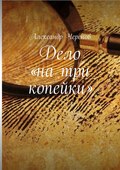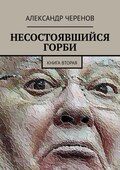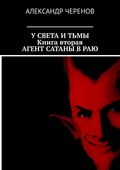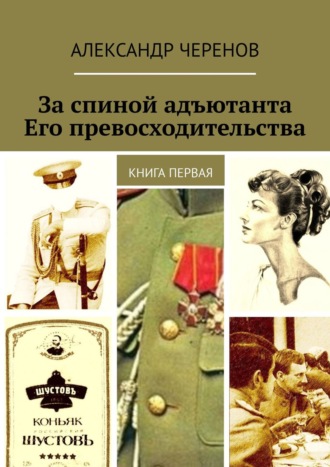
Александр Черенов
За спиной адъютанта Его превосходительства. Книга первая
Глава шестая
Председатель ВУЧека глаз не смыкал: всё думал, как разоблачить шпиона. А тут ещё приспело время засылать к «белым» своего человека.
Зондируя, одного за другим, подчинённых, оказавшихся под подозрением, он не слишком лукавил: действительно намечалась засылка боевика. Именно боевика – для диверсионной работы в тылу «белых».
При мысли об этом Председатель облегчённо вздыхал: хорошо ещё, что не Мату Хари. Её бы он и среди мужиков не нашёл.
Но при мысли о другом хорошее настроение сразу же пропадало: даже в поисках боевика придётся скрести по сусекам. Посылать надо – а кого пошлёшь? Нет, послать, конечно, можно – но только не к белым: «значительно дальше».
Да и до «белых» ещё доехать надо. Скольких он кандидатов перебрал – а только один и мог доехать. Но он уже доехал. Пришлось заново перебирать. И не только списки потенциальных героев, но и горячительного. Он перебрал – и нашёл, таки. Найденное даже не пришлось выдавать за находку: оно нею и было.
Тот, кого он выбрал, был – как на заказ: физиономия такая лощёная, что хоть немедля ставь к стенке! А ведь кандидат был из кухаркиных детей. И это – не метафора: так и было. Мать его действительно служила кухаркой в господском доме. Со временем она «сделала карьеру» – и «поднялась» до горничной. Папа отсутствовал. Нет, конечно, он должен был быть и был – но присутствовал лишь однажды: при зачатии сына. По этой причине сынок мог сказать о папе совсем немного плохого: отсутствовал не только объект, но и материал для критики.
Мама давала больше поводов для замечаний. Потому что присутствие её в жизни сына было символическим – да и то случалось эпизодически. В горничные-то мама попала не за красивые глазки. Нет, пожалуй, именно за красивые глазки она туда и попала. За красивые глазки, за красивые ножки, за красивые сиськи и за прочие красивости. И, если до своего «производства в чин» она уделяла воспитанию сына минимум внимания, то после не уделяла его вовсе. Потому что некогда было: надо было закреплять успех. И она закрепляла его во всех постелях господского дома.
Подвергая маму нелицеприятной, но заслуженной критике, сынок был всё же благодарен ей за одно доброе дело: мама ввела его в свет. Ну, как ввела? Вращаясь среди господ, она позволила сделать это и сыну. Иносказательно, конечно: сын не нуждался в её позволении. Маменькин статус давал ему возможность иногда покидать людскую и постигать хотя бы внешнюю сторону жизни господ.
Мальчик оказался на удивление восприимчив к словам и к манерам. Спустя некоторое время «новобранцы господских приёмов» уже соло и хором принимали его за гостящего здесь родственника хозяев: настолько талантливым учеником оказался малец. Жизнь научила его куда более полезным вещам, нежели церковно-приходская школа, четыре класса которой он всё же осилил. Существенную помощь жизни оказала его форма, столь контрастирующая с содержанием. Природа словно насмеялась над его родословной и наделила его породистой, даже изысканно-благородной внешностью. Уже в силу одной этой причины он, будучи хамом по происхождению, выглядел в глазах окружающих, минимум, потомственным дворянином.
Поскольку мама была всего лишь привлекательной холопкой, будущий агент имел все основания относить своё внешнее благородство на счёт неизвестного папеньки. Возможно, в том числе и по этой причине количество бранных слов, отпускаемых по его адресу, было значительно меньше того, что адресовалось маменьке.
Заслуженно или нет – но юноша благодарил оставшегося неизвестным родителя и за иные достоинства, зарекомендовавшие себя несомненными в процессе жизни. Ведь, помимо благородной наружности, этот человек обладал, пусть и немногочисленными, но очень полезными качествами: феноменальным самомнением, обычно переходящим в наглость, и не менее феноменальной памятью.
А как эффективно и с каким эффектом он научился подавать свой минимум! Несколько десятков подслушанных слов и выражений он так мастерски выдавал за свободное владение языками, что даже у выпускниц Института благородных девиц не появлялось и тени сомнений на этот счёт. Что уж тут говорить за манеры! Никто из его визави ни разу не усомнился в наличии у него в детстве гувернёра-француза. Ну, того самого, который «не докучал моралью строгой, слегка за шалости бранил, и в Летний сад гулять водил». Полученные же от приходского дьячка «верхушечные» знания, в любой благородной компании легко сходили за энциклопедический ум. Господа ведь, по большей части, специализировались в иных знаниях: марки вин, породы лошадей плюс искусство обольщения.
Но со временем они утратили и это преимущество. И в этих «отраслях знаний» молодой инкогнито стал вне конкуренции. Особенно – в третьей их составляющей. Здесь он достиг такого уровня квалификации и такого успеха у дам, что нередко уже вынужден был не завлекать, а спасаться бегством. Домогательства многочисленных девиц света и полусвета иногда становились попросту невыносимыми.
Словом, если благородством физиономии этот человек был обязан природе в лице папы-инкогнито, то манеры и внешний лоск были исключительно его заслугой. Когда другие «тратили время» на постижение академических наук, он постигал главную науку: науку жизни. И постиг её! Как минимум, немало преуспел в этом. Отсутствие воспитания – кому воспитывать-то?! – ему заместили поразительное нахальство, невероятная природная сметка и личное знакомство с изнанками жизни. Смятение и нерешительность были неведомы этому человеку, зато наглость его была бесподобной. Она очаровывала и обезоруживала. Перед ней пасовали и высокородство, и интеллект. Звали этого человека Павел Андреич Концов.
За благородные «реквизиты» Павел Андреич должен был благодарить приходского священника. Ну, и отчасти соблазнительницу-маменьку, «доводы» которой показались сластолюбивому попу убедительными. В противном случае Павлу Андреичу реально грозило быть окрещённым Павлином Андронычем. Что же до фамилии, то здесь он был признателен исключительно мамаше. Нет, к старинному роду потомственных дворян Концовых она имела опосредствованное, так сказать, отношение: её предкам всего лишь «посчастливилось» быть крепостными помещиков Концовых. Ну, так, как в своё время «посчастливилось» многочисленным Гагариным, Шереметьевым и прочей «дворянской черни».
В силу невыгодных обстоятельств рождения Павел Андреич самой судьбой был предназначен в трактирные половые в каких-нибудь Грязях. Но он сумел переломить судьбу – а тут ещё и война помогла. Та самая, кому она – всего лишь война, а кому – мать родна. Для Павла Андреича она стала последней. Близкой родственницей, то есть. Она круто изменила жизнь этого человека. И если раньше он ходил вокруг «света», как кот вокруг миски с недоступной сметаной, то сейчас у него появился шанс уесть продукт.
Если бы не метрики – быть бы Павлу Андреичу офицером уже в августе четырнадцатого. А так пришлось немного подождать. По совокупности данных: «неполное высшее образование», благородная внешность, очаровательное нахальство – он был сразу зачислен в учебную команду. Там он без труда обаял отцов-командиров – и вскоре, единственный из всей команды получив чин унтер-офицера, с маршевым батальоном был направлен в действующую армию.
Вот, уж, где Павел Андреич развернулся! Правда, не на полях сражений. Но его заметили и отметили. Это случилось, когда в войска с благотворительными миссиями зачастили представительницы титулованных фамилий – и даже царствующей династии. Выглядевший, как образчик дворянского генотипа, обладатель несомненных достоинств, выпиравших из галифе, Павел Андреич не мог остаться незамеченным.
А по части обращения с женщинами он мог бы дать фору самому Гришке Распутину! И пошли награды! Не за ратные подвиги – за постельные. А уж когда на него обратили свой благосклонный взгляд Их Высочество Великая княгиня – тут фортуна и вовсе перестала экономить на благосклонности в адрес Павла Андреича. После непродолжительного, но энергичного знакомства с молодым красавцем, Их Высочество уже не могли без него обходиться. Томясь душой, а больше телом, Они досаждали бесчисленной свите одним и тем же вопросом: «Ну, где же наш бравый поручик?!» С чего Они произвели унтера в офицеры, история умалчивает. Может, этот чин был единственным, известным титулованной особе. А, может, с ним у Них были связаны другие памятные эпизоды аналогичного содержания. Кто знает?
Во избежание осложнений со стороны Их Высочества командование благоразумно произвело унтер-офицера сразу в поручики. Во внеочередном, так сказать, порядке. Даже сочинило заслуги для обоснования производства. Благородства это Павлу Андреичу не прибавило, но наглости и высокомерия – все всяких сомнений.
Февральские события положили конец истории взаимоотношений поручика Концова и Их Высочества. Но они же решительно поспособствовали росту его карьеры. Настоящие их благородия были распределены, кто куда: кто – по стенкам, кто – по камерам, а Павла Андреича солдатский комитет избрал помощником командира полка. Внутреннее родство оказалось сильнее внешних различий. Хотя «помощнику командира» самому впору было просить себе помощника: Его благородие, а теперь гражданин поручик, ничем, кроме баб, не командовал – да и то в постели. Постельный же опыт, несмотря на всё своё богатство, не мог заменить опыта командирского, окопного. И кресты, даже с мечами и бантами, не могли тут помочь ничем.
Всегда тонко чувствующий опасность, Павел Андреич благоразумно отказался от такой чести, чтобы тут же быть выдвинутым в председатели полкового комитета, в каковые и прошёл «на ура!». Здесь он оказался в своей стихии. Здесь он развернулся во всей красе: безответственное краснобайство вкупе с заискиванием оставшихся офицеров пришлись ему вполне по вкусу.
Правда, «разворачиваться» довелось недолго: дезертирство с фронта приняло такие масштабы, что в скором времени от полка остались одни только члены полкового комитета. Но полковые большевики, давно заприметившие перспективного красавца, не бросили его на произвол судьбы, и бравый поручик с шиком «проподпольничал» до самого Октября.
После октябрьского переворота Павел Андреич заведовал каким-то столом в Смольном от наркомата внутренних дел. Однако его кипучая авантюристическая натура не могла примириться с кабинетным прокисанием. Он желал ходить в кожаной тужурке с маузером в огромной деревянной кобуре, и одним лишь видом наводить ужас на питерского обывателя.
Но тут, как назло, немец двинул на Петроград. И какой-то партийный кадровик – а поручик уже «записался» в партию – к явному неудовольствию Павла Андреича вспомнил о его «славном боевом прошлом», о его крестах и офицерских погонах. И пришлось «ветерану «германской» отправиться не в устрашающий променад по улицам столицы, а в район Пулковских высот, где ему надлежало принять под своё начало батальон из питерских рабочих.
На его счастье, народ подобрался сознательный, боевой, готовый в точном соответствии с рефреном известной песни пойти в бой за власть Советов, и там умереть, все, как один.
Подобный расклад вполне устраивал Павла Андреича. Ему оставалось только подать соответствующую команду да выказать готовность также не щадить живота своего, распоряжаясь, однако, животами других.
И тут случилось невероятное. О некоторых людях говорят: храбр до безрассудности. С Павлом Андреичем дело обстояло с точностью до наоборот: в безрассудности своей он иногда доходил до храбрости, по пути даже ненароком совершая незначительные подвиги!
Случайным разрывом немецкой шрапнели был уничтожен батальонный запас реквизированного спирта, который Павел Андреич сберегал лично для себя. Понимающий человек понимает: это горе словами не выразить. Ну, то есть, выразить-то можно – и Павел Андреич, конечно, выразил. И очень убедительно и доходчиво. Но этого было мало. Слова никак не замещали утраченного спирта.
И вот, желая немедленно восстановить статус кво: по данным разведки, немцам с утра завезли шнапс – комбат в приступе ярости выхватил «трёхлинейку» из рук ближайшего пролетария. Громыхая «трёхэтажным» матом, с примкнутым штыком, он рванул из окопа на врага. Расценив этот порыв души, как сигнал к атаке, красногвардейцы дружно последовали за командиром. Не ожидавший такого нахальства, противник рванул в тыл, на бегу позоря численное превосходство. Высота была отбита. Подвиг был совершён.
«Слух пройдет обо мне по всей Руси великой». Ну, по Руси, не по Руси – а слух о героизме Павла Андреича пошёл. Обрастая по пути всевозможными легендами, он дошёл аж до самого «железного Фили». Как результат: «герою обороны Пулковских высот» были, наконец, выданы заветные кожанка и маузер.
Уже в качестве чекиста, вместе с народными комиссарами Павел Андреич перебрался в Москву. Работая отныне в центральном аппарате ВЧК, он систематически преумножал славу «беззаветного борца за дело революции», учиняя налёты на всевозможные злачные места. Словно капитан – тонущий корабль, он оставлял их всегда последним. В такой борьбе с «контрой» он совершенно не жалел себя. Иногда он даже претерпевал от собственного героизма, и по этой причине нередко покидал «гнёзда разврата» на руках товарищей. Идти ногами он уже был не в состоянии – по причине «контузии».
Именно этого человека Председатель ВУЧека приглядел ещё в Москве, в бытностью свою Членом Коллегии Всероссийской Чека. Теперь же, когда гипотетический прежде вопрос о диверсиях в тылу «белых» стал актуальным, он вспомнил о Концове. «Железный Филя» недолго сопротивлялся домогательствам Председателя ВУЧека – и благословил Павла Андреича на подвиг. На прощание он лишь попросил коллегу из Киева «поберечь ценного работника». Так он поступал всегда, когда отправлял товарища в предпоследний путь.
Именно такой человек и был нужен Председателю ВУЧека. Такой, который мог, шутя, сыграть роль «их благородия» в диапазоне от дворянина в первом колене до Рюриковича включительно. Осталось лишь снабдить его в дорогу подходящей биографией. Личные реквизиты вполне монтировались с физиономией – требовалось лишь придать форме содержание.
После непродолжительных раздумий Председатель решил не рисковать – и остановился на скромном варианте обычного потомственного дворянина из провинции, из самой её глубинки, куда бы ещё не скоро мог ступить сапог русской контрреволюции. Нашлись и «родители» -однофамильцы – из числа уже успевших отбыть в «мир иной». В качестве последнего штриха решено было повысить Павла Андреича в чине до капитана: уж больно несолидно выглядел бы поручик в компании старших офицеров.
И стал кухаркин сын Павел Андреич Концов потомственным дворянином, сыном Его превосходительства действительного статского советника Концова – бывшего начальника Заречно-Приозёрской железной дороги, и по совместительству предводителя тамошнего дворянства.
Учитывая полезную при данных обстоятельствах склонность Концова к авантюре, Председатель ВУЧека поставил ему задачу проникнуть в расположение штаба Главнокомандующего Волонтёрскими Силами Юга России, и совершить грандиозный теракт, чтобы одним ударом обезглавить «гидру контрреволюции». Однако, учитывая отрицательную сторону данной склонности, он категорически запретил Концову вступать в контакты с местным подпольем, а также подходить к товарным станциям, а равно железнодорожным мостам ближе, чем на версту.
Вечером, на конспиративной квартире, Председатель ВУЧека разглядывал Концова, сидящего перед ним в новеньком, английского сукна, ладно сшитом мундире с капитанскими погонами, и не мог скрыть удовольствия.
«Хорош! – открытым текстом ликовал его взгляд. – Морда – породистая, откормленная, сытая! Взгляд – нахальный, решительный, властный! В этом типе сразу чувствуется склонность больше к поступкам, чем к размышлениям: то, что и нужно!»
– Так вот, товарищ Концов…
Председатель сразу же, без лирических вступлений, «взял быка за рога».
– Никакой связи, никаких личных контактов с нашими людьми у Вас «там» не будет. Работать будете соло. Я понятен?
Концов лишь снисходительно ухмыльнулся в ответ: он и сам мог поучить «учителя» буржуйским словам.
– Очень хорошо. В условленном месте – вот оно на схеме – Вы найдёте закладку. Это – мина с часовым механизмом. Ну, а дальше, как говорится – «дело техники». И никаких «дополнений от автора»: заложил, установил время – и «в бега»!
– Вопрос можно?
В отличие от тех, кто поднимает руку – как школьник на уроке – Концов поднял наглые глаза.
– Можно.
– А тот… ну, кто сделал закладку?
– Рожей не вышел! Ещё вопросы?
– Пока нет.
Председатель закурил сам и предложил Концову.
– Настоящая «Гавана»! Привыкайте!.. Впрочем, о чём это я!
Он вспомнил о фронтовых «подвигах» агента, и устыдился неуместных рекомендаций.
– Скорее уж, это Вы можете мне давать подобные советы!
Концов ещё раз прошёлся по лицу Председателя снисходительной усмешкой. Даже устыдившийся ляпа, Председатель не мог не отдать должное и этому взгляду, и его носителю. «Нет, этот тип – просто находка!»
– Как Вы уже знаете, у нас в Чека обосновался вражеский агент. Поэтому Вашей подготовкой я занимался лично сам, без помощников. Никто ни Вас, ни о Вас не знает – и знать не должен. Никакой связи у нас не будет. Выполните задание – и немедленно уходите. По возвращении – орден Красного Знамени и кресло моего заместителя. Понятно?
– Готовьте указ и кресло! – дёрнул подбородком Концов.
«Что за наглец!» – восхитился Председатель. «Ай, да я: такого сукина сына отхватил!»
– Вопросы?
– Один: должность – первого зама?
– Единственного!
Вопрос агента был с намёком и даже подтекстом – как бы не подсидел?! – но, если Председатель и дрогнул голосом, то сделал это с предельным мужеством.
– Больше вопросов нет!
Концов рывком встал на ноги и элегантным движением одёрнул китель.
– В Ростове Вы должны быть шестого! Желаю успеха!
…Заканчивался май девятнадцатого года…
Глава седьмая
Михаилу Николаевичу решительно везло: в штабе Волонтёрской армии, куда его определил «благодетель» Вадим Зиновьич, он опять нашёл верных товарищей – бабников и собутыльников. И опять среди них оказалось немало его знакомцев по «германской» – и даже по училищу! Реноме Михаила Николаевича было столь прочным, а доказательства его подлинности – столь убедительными, что к исходу традиционных вторых суток он уже и на новом месте был «своим» для всех без исключения!
Загруженность по службе, даже с точки зрения не утруждавшего себя Михаила Николаевича, была минимальной – и опять закружила его нескончаемая карусель внештабных дел. Ни на что иное уже не оставалось времени. Даже с исполнением шпионских обязанностей Михаил Николаевич особо не торопился: «Нумизмат» ещё не подъехал. Поэтому вино, карты и женщины заполнили даже ту небольшую нишу во времени, которую до сих пор занимали подглядывание и подслушивание.
Далёкая от фронта жизнь била ключом. Правда, некоторые обитатели штаба и здесь умудрялись своим неумеренным энтузиазмом на ниве служебной деятельности являть резкий контраст со «здоровыми слоями русского офицерства», не вылезающими из ресторанов и публичных домов. Наиболее ярким представителем таких «энтузиастов дела» был начальник контрразведки армии полковник Чуркин Николай Гаврилыч.
Михаил Николаевич в бытность свою «для связи при Ставке» несколько раз имел неудовольствие встречаться с этим «сухарём в мундире» – как за глаза именовали Чуркина даже его подчинённые. Полковник и в самом деле был редким педантом и занудой, чем вызывал законную неприязнь у жизнерадостного и сластолюбивого Михаила Николаевича.
Но дело своё Чуркин знал отменно, и «грязную работу» свою очень любил – несмотря на всю её непопулярность во всё тех же широких слоях русского офицерства. Эти два качества и побудили Кобылевского, знавшего о нём только понаслышке, при формировании штаба просить Главнокомандующего Иван Антоныча откомандировать полковника в его распоряжение.
И Чуркин поставил дело контрразведки не только на должную высоту, но и гораздо выше всех остальных служб – к немалому неудовольствию их начальников. Особенно негодовал начальник штаба полковник Иванов, с нетерпением ожидавший штанов с генеральскими лампасами ещё и потому, чтобы, наконец, поставить на место этого нахала и выскочку Чуркина! Так как Иванов был начальником штаба, который уже по определению должен быть вторым человеком в этом здании, ему «доставалось» от Чуркина больше других. Точнее, не доставалось ничего – в смысле аудиенций Вадим Зиновьича. Чуркин занимал всё время, отведённое Кобылевским для приёма начальников ведомств и служб.
И ладно бы, только своими делами! Так нет: он умудрялся представлять командующему дела всех служб так, что в глазах последнего они начинали выглядеть неотъемлемой частью контрразведывательной работы!
После такой «свиньи» шефам этих служб делать в кабинете Кобылевского было решительно нечего. Вначале они толпились в приёмной, недовольно жужжали, но вскоре, не встретив заступничества со стороны командующего, пали духом и перестали мозолить глаза Его Превосходительству.
Один только начальник штаба не cдавался: ведь он, чёрт возьми – начальник штаба! И ему по должности положено бегать к командующему с картами, докладывать оперативную обстановку, разрабатывать планы операций, вносить предложения, давать советы! А тут – никакого авторитета! Да что – авторитета: никакого внимания ни к человеку, ни к должности!
В конце концов, полковник Иванов осознал бесперспективность своего пребывания в этом здании: конкурент тихой сапой прибрал к рукам и его дела. Совершая проникновение в кабинет Кобылевского после долгих уговоров последнего, начальник штаба всегда теперь обнаруживал там Чуркина. Тот невозмутимо водил пальцем по оперативным картам, наглядно демонстрируя командующему подвиги своей агентуры! После этого Его Превосходительство, как всегда, изрядно «подшофе» или с глубокого похмелья, решительно отказывался вторично «разглядывать одни и те же бумажки», и не желал слушать начальника штаба!
Все попытки Иванова восстановить не то, что реноме – хотя бы уставный статус-кво службы – оказывались попытками с негодными средствами. Кобылевский в упор не замечал начальника штаба. Запершись в кабинете, он всё время проводил с начальником контрразведки, решая, в числе прочих, и штабные вопросы – в нарушение всех уставов и элементарного здравого смысла.
Такой благосклонности Его превосходительства к контрразведке сопутствовало одно немаловажное – а точнее, решающее обстоятельство: полковник Иванов по причине своей давно загубленной печени совершенно не пил. А Чуркин пил! И как пил: всё, что ни наливали – и сколько ни наливали! При этом он держался до последнего, проявляя за столом – и даже под ним – чудеса стойкости, не раз приводившие в изумление самого Кобылевского – лучшего пьяницу Волонтёрских Сил Юга России!
Поэтому все попытки трезвенника Иванова, не говоря уже о начальниках других, менее значимых служб, обратить на себя внимание командующего были заранее обречены на провал. Даже с Михаилом Николаевичем – всего лишь штабс-капитаном, но задействованным для выполнения «особо щекотливых» поручений, Его превосходительство проводил времени куда больше, чем со всеми полковниками своей армии, вместе взятыми. Исключая, разумеется, завсегдатая его покоев Чуркина.
Это обстоятельство пошло на пользу и отношениям штабс-капитана с начальником контрразведки. Чуркин, и прежде знавший Михаила Николаевича, как изрядного лоботряса и ловеласа, быстро оставил свою подозрительность в отношении последнего. Более того, после нескольких совместных попоек у Кобылевского, когда им вдвоём удалось перепить «самих Его превосходительство», Чуркин не только отменил все прежние распоряжения о проверке штабс-капитана, но и как-то даже пригласил его «поужинать» в ресторан! А уж приглашение на «узкий» приём у себя дома окончательно растопило лёд отчуждения во взаимоотношениях полковника и штабс-капитана!
Но беззаботное времяпровождение не могло продолжаться для Михаила Николаевича вечно. И когда в обживаемый «белыми» провинциальный Харьков прибыл «Нумизмат», штабс-капитан хлопнул по пустым карманам аглицких галифе, вздохнул – и возобновил деятельность по добыванию «средств на пропитание» из штабных и полусветских слухов.
Этот источник продолжал оставаться куда более полноводным, нежели скучная, на бухгалтерский лад, макулатура казённой документации.
Ко дню встречи с «благодетелем Платон Иванычем» у Михаила Николаевича подобралась уже целая вязанка отфильтрованных слухов, переставших быть таковыми после подтверждения лично Вадим Зиновьичем за совместным распитием коньяка.
Теперь Центр, даже в самые безрадостные для него дни, не мог нарадоваться на своего агента: информация была сущим кладом. «Невозможность Центра нарадоваться» приобретала для Михаила Николаевича столь конкретные формы, что, в конце концов, он и сам вошёл во вкус разведывательной деятельности. А со временем, окончательно утратив возможность повторной ренегации, незаметно для себя он стал «служить» пусть ещё и не идее, но уже и не только кошельку. Сам для себя он деликатно определял эту трансформацию «спортивным интересом».
Естественно, получая «оттуда» благодарности для последующей их передачи «отважному разведчику», жадноватый Платон Иваныч уже не мог отказать «герою» в возобновлении кредитной линии на льготных условиях.
…Занималось малороссийское лето девятнадцатого года…