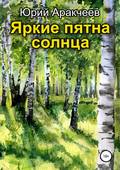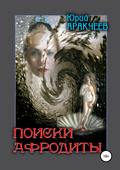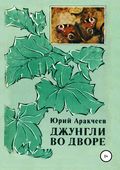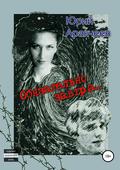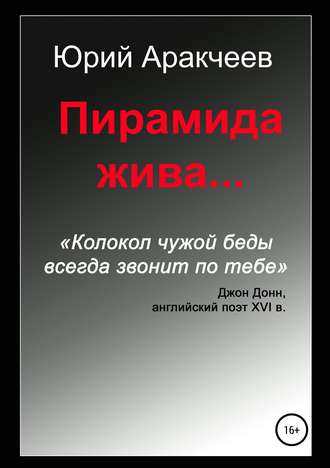
Юрий Сергеевич Аракчеев
Пирамида жива…
Удар с тыла
Еще перед моим отъездом во Францию в журнале решено было давать повесть не в трех номерах, а в двух. Правда, без ущерба для ее размера. «Подготовили» мы с редактором только первую половину. Теперь нужно было «готовить» вторую. Что мы и начали. Выяснилось, что первая половина пойдет не в шестом номере, а в седьмом или даже в восьмом.
Несмотря на суровую работу с редактором, я был почти что на седьмом небе. Хотя и понимал, что пока номер не вышел из печати, радоваться нельзя.
Но вот первая половина пошла в набор. Естественно, что все эти месяцы я был в угаре. Настоящего не было – было только будущее. Пришла верстка. Но и тут еще не было полной уверенности. В набор пошла вторая половина, которую мы с редактором сократили безжалостно, сохранив однако главное. В конечном варианте из 475 машинописных страниц в повести осталось что-то около 350. И все же я не считал, что повесть пострадала сильно, она, может быть, стала даже более динамичной и резкой. И несмотря ни на что я был искренне благодарен Эмме. Мы с ней вычитали первую верстку, и она уехала в отпуск, посчитав свою миссию выполненной и перепоручив вторую верстку другому редактору, тоже женщине.
До выхода восьмого номера журнала осталось чуть больше месяца.
Пришла вторая верстка, о чем мне сообщила по телефону новый редактор. Мы договорились о встрече после того, как она прочитает верстку. Я заехал в редакцию, взял свой экземпляр, прочитал сам, дал прочитать своим. Всем понравилось. Мне тоже. Я опять чувствовал благодарность Эмме и торжествовал победу. Прорвались! Сокращения не убили повесть, а по мнению некоторых моих читателей даже пошли ей на пользу. Может быть, правда, эффект был в том, что читали теперь не машинописный текст, а типографский.
Тут позвонила второй редактор, Виктория, и сказала, что ей очень понравилась повесть и что, читая вторую верстку, она плакала.
Я, пожалуй, мог расслабиться, тем более, что узнал: цензуру первая половина прошла. Ничто, кажется, не могло теперь помешать публикации.
И буквально через несколько часов после звонка Виктории раздался еще один телефонный звонок. Звонила замзав отделом.
– Вы знаете, нужно срочно сократить вторую половину на десять журнальных полос. Это приказ Главного.
– Что, что? – не понял я.
– Нужно сократить верстку на десять журнальных полос. Это не для обсуждения, а для исполнения. Распоряжение Главного редактора.
– Этого не может быть, – сказал я, холодея.
– Объясняйтесь с Первым замом.
– А где Главный?
– На даче. Но это приказ его.
Десять журнальных полос – это больше двадцати машинописных страниц. Авторский лист. А мы с редактором и так выдавили из повести все, что только можно было.
– Этого не может быть, – машинально повторил я. – Мы и так…
– Объясняйтесь с Первым замом, мне было велено передать.
Вот и все. Думаю, не стоит описывать мои «интеллигентские переживания». Увы, я не знал, что это только начало.
Начало этой повести – «Пирамида-2»…
Что делать?
Да, опять встал передо мной вопрос. Воздевать руки в негодовании было бессмысленно. Но что же действительно делать, как быть. И редакторши в Москве не было. И завотделом.
Неужели замышлялось убийство? Но почему, зачем? Вторая половина важнее первой. И сокращена она была до предела.
Вот тут, пожалуй, впервые я начал догадываться, что я лишь пешка в какой-то странной игре. Об уважении моего писательского, человеческого достоинства говорить было, конечно, нелепо. Но им-то зачем? Публиковать кастрированную повесть имеет ли смысл? Но тогда – зачем?…
Позвонила Виктория и убитым голосом подтвердила, что да, таково распоряжение Главного.
– Скажите, – спросил я, – вот вы только что прочитали верстку. Можно ее сократить на десять полос без ущерба?
– Думаю, десять полос – это много… Может быть, вы съездите к Главному на дачу?
– Может быть. Но боюсь, что дело не в Главном, – сказал я. – Боюсь, что это Первый зам.
– Да, – оживилась она, – он говорил, что раньше не читал верстку, а теперь посмотрел, и там много лишнего…
– Ясно, – сказал я. – Мы ведь с вами договорились о встрече в пятницу, так? Вот и давайте встретимся в пятницу, хорошо? А сейчас я еду к сестре на дачу.
– А вы позвоните Первому заму, – предложила она. – Может, удастся уговорить? Хотя настрой у них, по-моему, железный. Там, вроде бы, какая-то статья неожиданно пришла, и им нужно обязательно вставить ее в этот номер. Что-то они даже сняли, но все равно не хватает места. Вам просто не повезло.
– Подумаю, – сказал я.
До какой-то степени понять их можно. Журнал не такой уж большой, а напечатать нужно многое. Но ведь всему есть пределы. Ничего себе: «не повезло». Повесть – это, что, палка колбасы, что ли? Хочу столько отрежу, хочу – столько… По-моему, они все же совсем спятили. Особенно, конечно, Первый зам. Но и Главный хорош.
Я не знаю, в состоянии ли читатели меня понять. Тот, кто не сталкивался с этим, вряд ли осознает, что это такое. Конечно, можно писать так, как сейчас, в начале двадцать первого века, в нашей стране многими принято. Сто страниц больше, сто страниц меньше – какая разница. Тем более, если на сумму гонорара это не влияет. Но читателю понятно, думаю, мое отношение к повести «Высшая мера» и к самой «Пирамиде». Это не то, что принято называть «беллетристикой», не литература для заработка или для развлечения. Это – боль. Даже те 475, которые были вначале, – итог долгой работы, когда многие страницы переписываются по нескольку раз. Ведь одно дело сочинять, выдумывать что-то. Совсем другое – пытаться честно описать то, что было, проанализировать и передать другим. Добиться того, чтобы поняли! Над «Высшей мерой» я сидел несколько месяцев. Потом бился над ее опубликованием годами. «Пирамида» – это уже моя кровавая исповедь. Исповедь человека, который живет в России, в высшей степени уважает ее народ и литературу, считает себя обязанным продолжать ее традиции, готов отвечать за каждое написанное им слово, понимает, судьбы скольких людей затрагивает его документальная повесть. Я сказал, что «Пирамида» была написана «быстро». Но это совсем не то «быстро» – роман в месяц, – как пишут сейчас. Это – другая работа. Мое «быстро» было не меньше года. Да еще переделки… Ведь это – документ. И весьма-весьма «острый». Надо, чтобы все было точно и чтобы поняли. Главное – чтобы поняли! Поняли, что нельзя хамить и не уважать друг друга. Что суд должен быть справедливым – и над другими, и над собой. Главное – над собой! О чем и было на тех страницах, которые так пренебрежительно называли в редакции журнала «личной линией», на которую в первую очередь поднимал руку Первый зам еще на первом обсуждении и которые потребовали теперь так безжалостно сократить.
То, что сделали мы с Эммой – вынужденная и в какой-то мере оправданная, очевидно, «экзекуция», – было и так на пределе возможного. А теперь требовали усекновений еще. И не потому, что от этого повесть должна была стать лучше. А потому, что «пришла какая-то статья, которую нужно дать в этом же номере».
А «Пирамида» – об уважении, о внимании к человеку, о том, что «чужой колокол звонит всегда по тебе», о губительности насилия и хамства. Закон должен быть… Но один для всех. И для властей тоже…
Я понимаю, почему хорошие люди кончают с собой. Им становится противно жить в окружающем их дерьме.
Но что же все-таки делать? Я чувствовал себя, как в бреду. Победы, оказывается, никакой нет. Самым угнетающим, конечно, было даже не то, что делалось, а – КАК. Холодно, жестко, безжалостно – в стиле Первого зама. И в стиле самой Пирамиды. Не государственной, нет. Кюстиновской. Какой же тогда во всем смысл? Если нет ощущения справедливости, то зачем все?
И опять приказ передан по «субординации»… Приказ. Очевидно, должен последовать звонок Первого зама. Первая часть на выходе, а что если они сами, без меня, вырежут десять полос из второй?…
Нет! Не соглашусь ни за что. Подам в суд… Первая часть на выходе, а если они сами, без меня, вырежут десять полос из второй, я подниму такой скандал, что все узнают, кто они на самом деле, как относятся к людям, что для них самих человечность и нравственные принципы, которые они проповедуют… Настоящий фашизм, хотя скажи им это – возмутятся и смертельно обидятся. (Но я и теперь убежден: это – фашизм).
В смятении я думал так, но понимал в то же самое время, что скандал поднять мне вряд ли удастся, что силы неравны – кто я? Кто они? Я всего-навсего автор каких-то полузабытых книг, а они – редакция, официальный орган, да еще одного из самых передовых сегодня журналов. Где я подниму скандал? Каким образом? Кто мне поверит и кто поможет? Мы в своей стране хорошо знаем, чем кончается тяжба с официальным органом, пусть даже орган этот из самых «левых». «Какой суд, вы что?!»
Я вспомнил, что еще перед моим отъездом во Францию редактор предупредила: Первый зам намерен изменить название моей повести.
– Не может быть, – сказал я тогда, крайне ошеломленный в очередной раз.
– Пойди сам и спроси, – спокойно ответила Эмма. – Он обожает менять названия, это его хобби. По-моему, еще со времен «Нового мира».
– А какое он хочет? – спросил я.
– «Оценочное дело». Вообще-то название подходит. Оно точное.
– В каком-то смысле да, – согласился я. – Но в другом. Ведь оно сводит все к чистому криминалу. А главное-то не это. «Пирамида» – образ, причина всего, а тут… Нет, ни за что!
– Но ты все-таки сходи и скажи. А то мало ли. Могут ведь и без тебя изменить.
Да, могут. Я это понимал. Они могут все. Пришлось идти и напоминать Первому заму, что название у повести уже есть, и я не хочу другого.
– Напрасно, – ответил он тогда. – «Оценочное дело»! Прекрасно. И точно. Зря вы не соглашаетесь.
– Точно, да не совсем, – возразил я. – Но я подумаю, – добавил дипломатично. – Если же не соглашусь, прошу вас все же оставить мое название.
– Ну, что ж, это ваше право, – сухо ответил Первый зам.
Я понял, что мы разошлись окончательно. Он мне и этого не простит. Но ведь не в оценках дело, размышлял я про себя. Дело в том, чтобы найти правду – убил или не убил. А мешала поиску правды именно оценка положения следователя и судей на этажах пирамиды власти. Похоже, что для Первого зама тоже главным было это.
Теперь это тем более вспомнилось. Да, скорее всего, он мне позвонит сам, на этот раз даже нарушив «субординацию». Надо скорее ехать на дачу, чтобы…
И тут телефон зазвонил. Сначала я не хотел брать трубку, но потом все же решил взять. Звонил ответственный секретарь. Он сказал, что очень просит меня «пойти на эту уступку журналу» и что, мол, они «в долгу не останутся», учтут в будущем – «ведь вы печатаетесь у нас не в последний раз»… «Вы потом, в отдельном издании все восстановите». И странно было слушать об этой «уступке журналу» с МОЕЙ стороны, как будто дело было во мне, в моих каких-то амбициях, а не в том, что ущерб будет нанесен в первую очередь ДЕЛУ. «Вы потом восстановите…» – в который раз слышу я отвратительные эти слова.
Именно это я и попытался выразить ответственному секретарю и еще добавил:
– Знаете, если вы так относитесь, лучше не печатайте повесть совсем. Это же издевательство, вы не находите?
– Что вы, мне очень понравилась ваша повесть, она меня очень тронула. Я сам когда-то хотел написать нечто подобное – я имею в виду вторую часть, ваши мытарства по редакциям…
– Так ведь о второй части сейчас и речь! Зачем же вы хотите ее обкорнать?
– Да, понимаю вас, но у нас нет другого выхода. Может быть вы Первому заму позвоните?
– Нет, – сказал я. – Вряд ли. Пусть снимают совсем.
И повесил трубку.
Совсем уже собрался ехать – надел рюкзак и уже выходил. Но тут раздался еще звонок. Я взял трубку. Звонил Первый зам.
Приветливым, чуть ли не ласковым голосом он сказал, что нужно, просто необходимо сократить верстку то ли на шесть, то ли на десять полос. Тем более, что она «очень рыхлая», что мы с редактором мало поработали над сокращением второй части. «Ласковость» его была отвратительной.
– Если вам так ненавистна моя повесть, вынимайте ее из номера совсем, – сказал я как мог спокойно. – Я ждал девять лет, подожду еще.
На это он ответил:
– Ну, вы же сами понимаете, что это невозможно, первая часть вот-вот выйдет… Вы ставите меня в ультимативные условия.
Вот как, оказывается, это я ставлю их, а не они меня.
Дальше тон его опять был мягким, ласковым. Он сказал, что «так сложились обстоятельства, нужно немедленно дать один материал» и что он якобы уже вытащил какие-то статьи и стихи из номера.
– Если не можете десять, то хотя бы шесть полос, – сказал он. – Я тогда еще одну статью вытащу.
– Боюсь, что ничего не получится, – ответил я. – Мы и так сократили слишком много.
– Давайте так, – предложил он в конце концов. – Если не сможете, ну, значит, ничего не поделаешь, что-то еще придется вынимать из номера. Но вы все-таки попробуйте, там очень много длиннот. Потом, в отдельном издании вы все восстановите, а сейчас я очень прошу вас пойти нам навстречу.
Какое-то странное было у меня состояние. Я чувствовал, что он, вполне возможно, действительно не понимает, что происходит. С моей точки зрения это было бандитское нападение. С его – убедительная и логично аргументированная просьба вполне доброжелательного ко мне, но попавшего в трудные обстоятельства человека. Он хотел как лучше. А я самолюбиво упрямился.
Я просто смертельно устал. Я чувствовал, что мне все равно. Жить не хотелось.
Договорились: еду на дачу и там, на природе, обдумываю все, что он сказал, и внимательно читаю верстку. Встречаемся в пятницу. А в понедельник они должны отослать все материалы в типографию.
«…Действие противозаконной системы развратило не только должностных лиц, в число которых следует включить и работников исполкомов и райкомов. Части населения все это достаточно хорошо известно, причем, чем менее развит человек, тем лучше он понимает, какую выгоду может принести ему самому в его личных целях действие этой системы. Ведь достаточно иной раз просто ПОЖАЛОВАТЬСЯ в психиатрические инстанции, и жертву тут же заберут.
Вот в этом Вы, пожалуй, можете усомниться. У меня, повторяю, нет времени описывать все подробно и рассматривать, как формировалась в течение этого времени психология массово искаженных ценностей. Приведу только главное.
«Мы сидели и пили чай, – рассказывала художник по шрифтам. – Я, мама, дочка и сестра. Звонок в дверь. Мы открываем. Входят трое в белых халатах. Говорят: у нас направление на госпитализацию, выданное районным диспансером… по просьбе родственников. Вы ошиблись этажом, говорю я. Нет, говорят, собирайтесь».
Ей сорок лет, год не работала, так как не могла найти работу – это главное основание для госпитализации. Недостаточно по теперешним временам раскована, не накрашена… Постепенно выясняю, что соседи по даче – ее однофамильцы и что у них давно уже существует спор из-за забора. Дальнейшее можно представить: эти однофамильцы, хорошо и совершенно точно зная механизм системы, пошли с паспортом в диспансер или нашли знакомство, написали заявление, и врач, не глядя подписал бумагу, равноценную ОРДЕРУ НА АРЕСТ в юридической системе.
«С первой страницы по четырехсотую» – так констатировала ее психическое «состояние» врач нашего отделения, имея в виду учебник психиатрии. «Паранойяльное состояние» – это было ее любимое определение, независимо от того, к кому оно относилось. «Я бы сейчас собачек лучше лечила, чем вас, но что теперь поделаешь,» – признавалась она мне потом. «А тебе зачем ЭТО НУЖНО?» – она имела в виду мои обращения в правовые органы, на что я ей ответила, что у всякого развитого человека есть ЧУВСТВО СОБСТВЕННОГО ДОСТОИНСТВА.
Она отклонилась, задумчиво на меня посмотрела и произнесла: «Поколю-ка я тебя галоперидолом…» Ту женщину она положила на инсулиновые шоки.
Вот так, Юрий Сергеевич, та отправная точка в человеческом сознании, на которую Вы так уповаете, является предметом НАКАЗАНИЯ и именуется ПАРАНОЙЯЛЬНЫМ СОСТОЯНИЕМ, возникающим в данном случае в результате неизбежного конфликта между притязаниями СУПЕРЭСТЕТИЧЕСКОЙ (запомните это!) личности и реалиями обыденной жизни.
Чувство собственного достоинства – это суперэстетичность. Может быть, Вы думаете, что все это пройденный этап, и сейчас что-то медленно, но поворачивается? Я тоже думала, что руководству неудобно объявлять на весь мир, что советская система и после 1956 г., после откровенного признания в политических ошибках, двадцать шесть лет существует на репрессиях, и что действие Инструкции спустят на тормозах постепенно при помощи каких-нибудь отдельных постановлений вроде «Приведения в соответствие»… Но этого не произошло. Государство по-прежнему заинтересовано в существовании репрессивного аппарата. И вот Вам доказательство.
1987 г. Меня взяли опять…»
(Продолжение анонимного письма женщины).
Противостояние
Конечно, я могу понять человека, который не на словах пытается делать дело. Пока идут разговоры, а дела нет, легко быть справедливым. Решительным, принципиальным, учитывать все «за» и «против», принимать верные, сбалансированные решения авансом. Но как только начинается дело, реальность переворачивает многие представления, включаются непредусмотренные обстоятельства, действуют непредвиденные влияния – множество людей, вовлеченных твоими действиями в орбиту пытаются воздействовать на твои решения в своих, часто весьма корыстных интересах. Как быть? Не слушать их и не считаться с другими всевозможными обстоятельствами нельзя – рискуешь совсем уйти от реальности. Но и поддаваться нельзя, ибо ты превратишься в игрушку других, выразителя не своих идей, а чужих интересов.
Наверное, тут самое главное – выбор. И твердое следование собственным принципам в этом выборе. И еще: не забыть первоначальной идеи, тех идеалов, которые ты исповедовал на пути к делу! Вечный вопрос: цель и средства! Путь к цели, если цель на самом деле значительна, может быть тернистым и долгим, не исключено, что ты попадешь в такие рытвины, вынужден будешь делать такие крюки и объезды, что на какое-то время просто-напросто потеряешь из виду ту заветную сверкающую вершину, к которой стремишься. И тут очень важна память о ней, вера в нее, упорство в стремлении именно к ней, а не к какой-нибудь другой, попутной, более близкой и в какой-то момент, может быть, более соблазнительной.
Это «географическое» рассуждение, по-моему, вполне подходит и к пути более сложному – духовному, психологическому, – но только с одним непременным условием: понятия должны быть соответствующими. Духовный путь – это путь твоего совершенствования, рытвины, крюки, объезды тут могут быть тоже, задержки, сомнения, компромиссы, возможны, однако совершенно исключено нравственное падение, этакая «потеря компаса», ибо тогда ты уже никогда из рытвины не выберешься, а если даже и выберешься, то обязательно пойдешь не в ту сторону. Ибо потеряешь из виду вершину. Ну, а если проще, то потеря компаса – это потеря нравственного слуха и зрения.
И чем выше ты поднимаешься в обществе себе подобных, чем больше людей от тебя зависит, тем ценнее для тебя твой камертон, ибо только он может указать правильный путь в дремучих дебрях чужих страстей и мнений. А их – чем выше, тем, естественно, больше.
Знает ли нужное направление Первый зам? Знает ли его Главный редактор? Больше того: знает ли его сам «инициатор перестройки» М.С.Горбачев? Так уж создано государство наше, что погода в стране назначается «сверху». Громовержец-Зевс у нас персонифицирован человеком смертным. От «Короля-Солнца» Генсека зависит все – ведь он сегодня занимает острие пирамиды. Каков же его, «инициатора», камертон?
Что же удивительного в том, что именно в этом журнале, который сам взял на себя роль этакого знамени перестройки (то есть верх журналистской, писательской пирамиды) – знамени, за которым готов идти народ, жаждущий выбраться из болота, – именно в этом журнале ожидал я увидеть особенную, ЧИСТУЮ атмосферу? И что же удивительного, что холодное, жесткое излучение Первого зама так с самого начала насторожило меня? Ведь оно свидетельствовало об АТМОСФЕРЕ. Я хорошо помнил, что в «Новом мире» Твардовского атмосфера была все же другой, хотя тогда с высоких трибун не говорилось столь решительных слов о «крутом переломе», «революционных изменениях», «перестройке Административно-командной системы». Твардовский исповедовал советские идеалы, он вовсе не шел против советской власти, но те, кто олицетворял тогда советскую власть, его боялись и всячески его травили, вынудили в конце концов уйти с поста главного редактора «Нового мира» и довели до преждевременной смерти. Люди, олицетворявшие советскую власть, были на самом деле – наоборот! – против советской власти! Но теперь-то в стране атмосфера другая! Теперь фактически разрешено все. Почему же Первый зам…
И вот тут, в этом месте моих размышлений меня осенила вдруг простейшая мысль. Она и раньше приходила, но как-то по касательной, а тут именно осенила. Отказаться! Зачем нужны все эти лукавые размышления, доводы, контрдоводы, нападения, отступления? Дело просто: понимания нет, уважения нет. Повесть в том виде, как я ее написал, им не нужна – точнее, не нужно то, РАДИ ЧЕГО я ее написал. Не понять ее смысла они не могли – люди опытные, не одну собаку наверняка съели на этом деле, – но если поняли, а все равно безжалостно кроят, усекают самое главное – «личную линию», – значит, не разделяют со мной главного: неприятия насилия, хамства, бесчеловечности, противостояния «кюстиновской» пирамиде рабства. Слепок с повести, выжимка, которая может стать картой в их азартной игре, им очень нужна – чего и не скрывал перед редактором Эммой Первый зам. Удивительно! Он ведь так и сказал, не скрываясь: «Нам нужна именно такая – острая, современная вещь». Конкуренция журналов идет – кто острее! Вот им и хочется победить в конкурентной борьбе. А я-то, наивный…
Отказаться – и все! Как хорошо, чисто…
Я запомнил даже «географическое» место, где осенила меня эта простая мысль – между соседним домом и забором, на пути к метро, – я шел с рюкзаком, намереваясь ехать к сестре на дачу. Ну и что, если они пойдут даже на то, что выбросят всю повесть в самый последний момент? Да черт с ними. Такое ведь уже бывало – с моим «Переполохом» в «Новом мире», когда именно цензура ЦК… Не Твардовский, учтите, а цензура ЦК! А тут, выходит, САМИ. Парадокс, не правда ли? Ну и пусть копошатся в своем дерьме. Пусть считают меня упрямцем, гордецом, дураком, да чем угодно! Какая разница.
У меня уже бывало такое, именно такой момент описан, кстати, в романе, который до сих пор так и не опубликован – это его концовка, она давно найдена, время было, чтобы оценить, я и сейчас считаю, что она удачна. Там, в конце, голодный мальчик отказывается от еды, которую ему предлагает отец. Потому что еда – ворованная. Удачная концовка, спасительная… Только крайне нежелательно такое, конечно, для наших монстров. Для Пирамиды опасно. Она ведь немедленно рухнет, если мы все будем поступать именно так. Она и держится-то на нашем страхе, на слабости нашей, на том, что мы поддаемся их доводам, их рассуждениям о «пользе дела». «Нашего общего дела»! – так любят витийствовать они. Дерьмо. Дерьмо и слизь. Ну, не напечатают. Черт с ними. Отказ! Вот спасение.
Я даже головой машинально тряхнул. Ведь словно пелена какая-то спала. Деревья, оказывается, рядом растут, листья зеленые. Ветерок ласковый, тепло. Лето. Жизнь! На черта мне все эти жалкие игры?