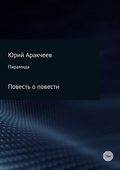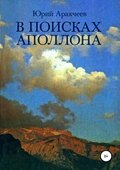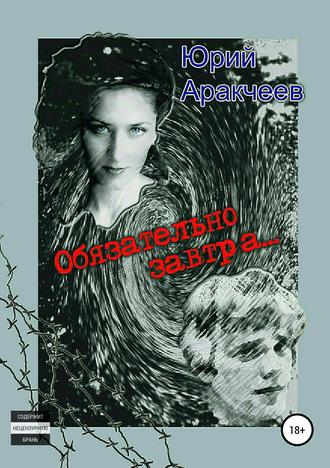
Юрий Сергеевич Аракчеев
Обязательно завтра
Соседка моя, по-видимому, так ничего и не записала в свой блокнот. Я тоже держал в руках тетрадь и карандаш, а потому она повернулась ко мне, как к сообщнику, и спросила вежливо:
– Вы не знаете, Штейнберг не приходил?
Я ответил, что не знаю, что сам опоздал и что понятия не имею, как выглядит Штейнберг в лицо. Хотя мне он тоже вообще-то нужен – вспомнил тотчас о том, что говорил о Штейнберге Алик Амелин.
Собрание стало совсем скучным. Выступал теперь комендант общежития: фальцетом выкрикивал отрывистые фразы, лицо его по-прежнему ничего не выражало, кроме ненависти.
Дверь в зале опять отворилась, за ней показалась высокая фигура в темном пальто, с длинным белым шарфом. По тому, как соседка рванулась к этой фигуре, я понял, что это Штейнберг. Девушка со Штейнбергом скрылись за дверью. Спрятав в карман записную книжку и карандаш, я встал и вышел вслед за ними.
Девушка оказалась корреспонденткой телевидения. Дожидаясь, пока они со Штейнбергом поговорят, я рассматривал блеклые плакаты на стенах.
Штейнберг, наконец, освободился, и я подошел к нему. На вид Штейнбергу было лет сорок пять – высокий, худой, с наметившейся лысиной, грубоватый. Договорились на послезавтра, на десять утра.
Приехав домой, я тотчас же лег и быстро уснул. И снилось, будто мы с Лорой сидим на моей тахте, а она опять жалобно спрашивает: «Только за апрель?» И я все стараюсь ее успокоить.
Среди ночи проснулся и долго не мог заснуть… Перебирал в памяти последнюю встречу… Что делать, как быть, что предпринять…
7
Утром не меньше получаса пролежал в кровати без сна. Да, нужно что-то немедленно решить, что-то обязательно предпринять – немедленно! – но никак не мог сообразить, что именно. Что сейчас самое важное? Голова разламывалась от неопределенности. Никакой ясности в мыслях!
Принялся вспоминать длинный вчерашний день. Утро, отъезд Лоры, потом съемка в детском саду. Алик Амелин, «Суд над равнодушием», стенограмма выступления Алика с цифрами ужасающими («Эти цифры ни в коем случае нельзя упоминать в очерке», предупредил Алик…). Наконец, собрание в СУ-91 – Кочин, девушки-работницы – «комсомольцы»! – выступавшая женщина, девушка с Телевидения и знакомство со Штейнбергом. Ну и денек!
А еще ведь повесть последняя, которую надо продолжать, а еще рассказ задуманный, но пока не начатый, а еще курсовая для института – сроки поджимают…
Ну и конечно опять Регина звонила. Она у меня третья по счету женщина, с ней все просто, кажется, но… Теперь, после Лоры, о ней как-то и вспоминать не хотелось. Да фактически мы ведь давно расстались…
Итак, что самое главное? – мучительно размышлял я, перебирая в памяти вчерашний день. Собрание в СУ-91? «Прецедент»? Да, да, кстати, один из снов, кажется, был как раз о нем. Да… Ну, конечно! Тоже собрание, только вместо той девушки с телевидения рядом сидела Лора в своей серой шубке с капюшоном… И на трибуне тоже Лора была! Неужели?… Да, да… Везде Лора, сон такой… Только та, что сидела рядом со мной в зале, над той, что говорила с трибуны как-то странно посмеивалась, улыбалась криво… А потом… Да, потом пили с Лорой вино, и ставшая почему-то маленькой, как ребенок, Лора жалобно повторяла: «Только за апрель? Только за апрель, да?» Глупость какая-то.
Съемка вчерашняя в детском саду… Вот же оно, самое главное сегодня! Как же главное-то забыл! Пленки надо проявлять, фотокарточки печатать – денег совсем нет, а когда-то еще их воспитатели с родителей соберут…
Рывком соскочил с кровати и принялся делать гимнастику. Взял гантели…
Умылся по пояс, опять, конечно, забрызгав нещадно общественный пол в передней. Но вытер, тряпка, слава Богу, лежала. Крепко, до красна растер кожу полотенцем…
Так. Что же дальше? Проблема: звонить ли сегодня Лоре? Конечно, ужасно хотелось хотя бы услышать голос ее, но именно потому я и подумал: лучше все-таки не звонить! Вот если бы она сама позвонила… Ведь у нее есть телефон… А так подумает, что навязываюсь… Тем более после того, что…
А, ладно. К черту! За работу скорее…
Пленки получились хорошо. Проявив, закрепив, залив в бачки чистую воду для промывки, принес бачки из кухни в комнату. Пока промываются, надо решить, что дальше.
Может быть, все-таки позвонить? – возвращалась и возвращалась мысль. Острое беспокойство возникло – ведь два дня не звонил! И – мало ли что… Нельзя упускать момент! И так она… Хотя…
Нет, глупости. Глупости! С ума схожу, что ли? Сама позвонит, если захочет. Не каждый же день. «КЛБ»!
За окнами солнце. Наконец-то! В нашем дворе среди двух белых снежных полей пролегла темная мокрая дорожка к подъезду. Снег тает… На карнизах, очевидно, сосульки, потому что мимо окон пролетают сверкающие на солнце капли. Апрель! Настоящая весна скоро…
Вывесил пленки для просушки, убрал все лишнее со стола. Сел на тахту. Она стоит далеко от окон, в темном углу комнаты, и машинально я пересел к окнам поближе. Вдруг? Ведь было когда-то. Вторая женщина моя, Рая, после того, как с ней впервые хорошо получилось, пришла без приглашения, на следующий же день! Понравилось ей, вот и…
Но не Лора. Да, не Лора. С ней пока что…
Встал, посмотрел, есть ли фотобумага в шкафчике. Есть. Достаточно. Химикалии для проявителя тоже. В магазин не нужно ехать, и то хорошо. Опять сел перед окном и вспомнил: сегодня среда! Значит, вчера был вторник и творческий семинар в институте, а я опять пропустил его! И даже не вспомнил! Впрочем, уважительная причина, даже две: съемка в детском саду и Амелин…
Но курсовую надо дописывать все равно. И в повести кое-что подправить. И начать рассказ не мешало бы..
Власть и искусство – вот о чем мой рассказ… Художник… или писатель… или музыкант… изобретатель… поэт… Все равно кто. Важно, что создал он этакий шедевр. Выложился, можно сказать, всю душу вложил. И не о деньгах, не о себе – о людях, о деле своем думал. Но он не мог предполагать, наивный, что тот, кто… От кого зависит дать ход этому шедевру или не дать – то есть Большое Лицо, – как раз в это время было не в духе. У него, допустим, фурункул назревал. Или насморк жестокий. Или понос хронический, мало ли… Или, наоборот запор… Или, допустим, ссора с женой на почве то ли «предметной», то ли «мировоззренческой»… «Предметная» – это значит, к примеру, вопрос: покупать или не покупать некий предмет – магнитофон, телевизор последнего выпуска, ковер, холодильник, сервиз, шубу, дачу, автомобиль… Мало ли! А «мировоззренческая» – это, допустим, книжка или передача по телику одному из супругов понравилась, а другому нет. Или статья в газете. Вот и ссорятся. Или, допустим, идти в гости к таким-то или не идти. Или – смотреть по телевизору либо хоккей-футбол, либо, наоборот, кино. Да мало ли причин может быть! Ну, хоть бы и просто не в духе – Лицо-то Большое, а значит имеет право! А тут, подумаешь, какой-то «шедевр», какого-то, понимаете ли, «творца»! Да пошел он со своим «шедевром» куда подальше, не до него! То есть когда еле живой, выдохшийся художник, вложивший в шедевр всю свою душу, принес его на утверждение Большому Лицу – ну, или кто-то ему, Большому Лицу, на утверждение передал… То вот тут-то и прозвучал Колокол Судьбы: «Нет! – сказало Б. Л. – Хватит у нас шедевров, нечего! Пошел вон!». Правда, у Булгакова на эту тему есть – «Театральный роман». У Гоголя – «Шинель». У Чехова тоже что-то на эту тему. У Островского… Но это не важно. Новое время – новые песни. Хотя на самом деле, конечно, песни все те же… Только называются они по-другому. Одни и те же песни, потому что опять решает все Большое Лицо. И тогда решало, и теперь.
Зазвонил телефон в коридоре, и опять я вздрогнул. Кто-то из соседей очень быстро снял трубку. Ну же… Ну… Нет, не меня.
Во двор с улицы зашла девушка в шубке с капюшоном. Нет, конечно же, не она, увы. Не Лора.. А сердце заколотилось, бедное… Ну и зря.
Пленки скоро высохнут… Но сначала надо все же в столовую сходить, пообедать. Чтобы не отвлекаться потом.
Шагал по улице словно во сне. Солнце скрылось, пошел мелкий дождь со снегом. Хмурое, совсем хмурое небо опять, как будто солнца и не было.
Наша столовая называлась почему-то «Закусочная». Готовили плохо, невкусно, в зале всегда грязь и чад. Настроение паршивое, я шел и думал в который уж раз: ну что, спрашивается, мешает им в столовой делать свое дело по-человечески? Воруют – да, без этого у нас никак, это ясно. Но из того, что остается, все-таки можно же приготовить хотя бы чисто и аккуратно! И в помещении иногда убирать. Так почему же?
И первой реакцией, когда вошел, было – уйти немедленно. Есть то, что здесь дают и в таких условиях – унижение человеческого достоинства, как минимум. «Вторичный продукт», как написал потом, позже, писатель Владимир Войнович. Многократное унижение, потому что ты видишь одновременно, как унижают не только тебя, но и других рядом с тобой. А мы терпим. Жуем покорно.
Несколько раз я давал себе слово написать куда-нибудь жалобу. В газету какую-нибудь, что ли. И написал таки однажды аж чуть ли не в «Правду». Не в центральную, а в Московскую. Оттуда письмо переслали в районный трест, и – вот событие! – была комиссия! Мне даже официально ответили на фирменном бланке! Интересно, что на некоторое время действительно стало лучше и чище, хотя цены остались прежние. Но это длилось недолго. Тогда я написал снова. Потом еще раз и еще. Уже не помогало, и никаких ответов на письма не приходило. Как выразился один мой приятель: в «Закусочной» поняли, КОМУ нужно давать и СКОЛЬКО…
Но деваться некуда. Поблизости нет других столовых, а если и есть где-то на расстоянии, то такие же…
Я давился вонючим жидким борщом и с тихой грустью размышлял о том, на что мы в большинстве своем тратим силы и время. А воров наших, между прочим, даже воровство не спасает. Воруют – а все равно живут в дерьме и ненависти ко всем и друг к другу. Неужели так трудно осознать, что если ты к другим относишься хамски, то и другие будут относиться к тебе точно так же. Дважды два – четыре…
В половине третьего, когда я уже мучился изжогой дома, пришел Антон со своим братом Гришей. Они зашли мимоходом: собирались второй раз смотреть новый американский фильм. Взяли билеты в кинотеатр, который поблизости, но до сеанса осталось какое-то время, вот и решили зайти ко мне – Антону нужно было позвонить.
– Тебе тоже фильм понравился? – спросил я Гришу, когда Антон вышел в коридор.
– Да, Олег, отличный фильм. Образы просто великолепные!
Это был популярный ковбойский фильм «Великолепная семерка». Вместо обычной постной жвачки мы, советские труженики, увидели решительных и благородных людей – мужчин, а не бесполых передовиков производства. Мне фильм очень нравился, как и Антону.
Не в первый раз я заметил, что стоило нам с Гришей остаться вдвоем без Антона, как выражение лица и даже осанка Гриши тотчас менялись. Он расслаблялся и становился естественней без своего старшего брата… И у него проявлялось ценное, редкое качество, которое отличало его от Антона: в разговоре он слушал не только себя.
– Никак не дозвонюсь, – сказал Антон, входя.
– Кому ты звонишь? – спросил Гриша.
А у меня тотчас заныло сердце. У Антона, как всегда, был очень уверенный в себе вид, и я почему-то подумал, что…
– Одной девушке, – многозначительно ответил Антон и как-то странно взглянул на меня.
Неужели?…
Потом Антон с Гришей, продолжая, очевидно, начатый разговор, стали обсуждать очередной международный кризис – «Карибский». И, конечно же, затронули внутреннюю политику в стране… Ведь все мы тогда были в ожидании перемен. «Можно ли в газету завернуть слона? – спрашивалось в очередном анекдоте. – Можно. Если в газете печатается речь Хрущева». Действительно, новый Генсек многословно и темпераментно витийствовал на трибуне, и какие-то перемены уже наблюдались – выпущены были многие заключенные из лагерей; строилось гораздо больше, чем раньше, жилья; опубликован был «Иван Денисович» Солженицына; принимались некоторые вполне разумные постановления… Но хотелось больше, больше, быстрее…
Я, естественно, не сдержался, ввязался в разговор братьев. В последней речи Хрущева, кстати, было опять много о «тунеядцах».
– Охотятся за мелкими лентяями и жуликами вместо того, чтобы объявить настоящую войну крупным ворам, – в сердцах сказал я. – Вместо того, чтобы по-настоящему взяться за дело, суетятся по-мелочи!
Антон насмешливо взглянул на меня и сказал с кривой улыбкой:
– Олег, Олег, он ведь не имел в виду именно тебя!
Это была какая-то дикая нелепость, и я сначала даже не понял, почему Антон так сказал.
– Причем же тут я, Антон? Ты что, считаешь меня тунеядцем? Или думаешь, что я боюсь? Идиоты! То им «буржуи» мешали, «контра», потом и вовсе «враги народа», а теперь – «тунеядцы»? Нашли виновных! Неужели не ясно, что все эти «кампании» – чушь собачья?! Я статьи буду об этом писать!
– Ты думаешь, их будут печатать? – серьезно и тихо спросил Гриша.
– Должны же наконец. А то ведь…
– Да брось, Олег, ладно, – сказал Антон. – Я пошутил. Ты зря кипятишься. Сейчас таких, как ты, не сажают. Есть более важные проблемы.
Опять – ему про одно, а он про другое. Когда они ушли, я чувствовал себя скверно. Что ему надо? Почему он так зол на меня? Ведь он думает о многом так же, как я. А все хорохорится и хорохорится. Зачем?
Была, однако, уже половина четвертого. Пора занавешивать одеялами окна и печатать фотокарточки… Я завесил и принялся за печать.
А вечером поехал к сестре.
Улица и какая-то определенная цель, когда не нужно ничего решать, а можно просто идти по знакомому, привычному маршруту, потом ехать в метро, сделать одну пересадку, опять ехать, выйти, идти по улице… – затем подняться на пятый этаж в знакомую квартиру… Смотреть на их лица – ее и ее мужа, с которым мы дружим, – говорить, не напрягаясь, смотреть телевизор с ними, зная, что ни сестра, ни ее муж, о том, что сейчас происходит со мной, не знают… Как-то непроизвольно и легко я спросил у Веры, важно ли для женщины, сколько было у мужчины других до нее, она сказала, что важно не это, а совсем другое – отношение важно, вот что… Ну, разумеется… Потом еще говорили о чем-то, смотрели по телику фильм…
Когда пришел домой, ко мне забежал Сашка, друг с первого этажа – увидел в окнах свет. Предложил два билета на завтра во Дворец Съездов на балет «Лебединое озеро» – купил, а сам пойти не может, дела в институте.
Чайковского я считал лучшим композитором всех времен и народов, балет этот видел раза два – одно время работал в Большом театре рабочим сцены…
Взял у Сашки билеты, и сердце замерло: вот и предлог, чтобы с Лорой…
На полу комнаты на больших листах бумаги были разложены для сушки детские фотографии, они уже высохли, я стал собирать… Дети улыбались, они ведь так хорошо мне позировали, их лица были веселые, ласковые, безмятежные… Особенно мне понравилась кареглазая черноволосая девчушка с куклой в руках – добрый и вполне уже женский взгляд. Кажется, ее звали Марина…
8
Голос Лоры по телефону был напряженный, чужой – на работе, понятно. Она переспросила, на что именно во Дворец Съездов, я ответил.
– «Лебединое озеро»? – переспросила почему-то с усмешкой.
– Да, – сказал я. – «Лебединое озеро», Чайковский.
Громко вздохнув, она сказала, что недавно они как раз на этот балет ходили. Организованно, всем отделом. У них был «культпоход».
Странный был тон, странная реакция. Я не знал, что сказать.
– Ну, что ж. Тогда пока, до свиданья, – только и мог выдавить из себя.
– Пока, – ответила она и повесила трубку.
Звонил я из автомата, который был на лестничной клетке перед входом в помещение клуба «Романтик». Положил трубку – и тотчас же появился Штейнберг.
– Здравствуйте, – сказал я ему все еще в растерянности от звонка.
– Здравствуй, – бодро ответил Штейнберг. – Ты давно ждешь?
– Нет, – сказал я. – Недавно. Где будем с вами говорить?
Мы со Штейнбергом вошли в одну из комнат клуба, по-видимому, читальню, на столах лежали газеты, журналы, за одним из столов сидела какая-то женщина – жена Штейнберга, как оказалось, – она нас ждала. Но начать разговор не пришлось: явились двое с телевидения, и Штейнберг просил подождать. Жена Штейнберга спрашивала меня о чем-то, я автоматически отвечал.
«Ну да, ну да, я не показал себя лихим, боевым мужчиной, но ведь… Что же она так сразу? И голос чужой… Разве у нас не было ничего? И эта ирония дурацкая – «культпоход»! Что происходит? Господи, что происходит…»
Наконец, Штейнберг вернулся.
Жаль, что нету машинки, сказал он, а то можно было бы сразу печатать, начисто. Он обдумал то, что хочет сказать, и можно за ним все записывать.
Я сказал, что пишу быстро, а уж обработать потом смогу, все будет в порядке. И раскрыл тетрадь.
Штейнберг походил, покашлял, потер руки – кисти у него были большие и красные, поросшие редкими длинными волосами… И начал:
– Надо научиться не ранить людей, а лечить. Воспитатели должны быть художниками. Как хирурги – рука крепкая, а пальцы нежные. Как сказал Хрущев. А то ведь бросил кто-то снежок на улице, а на него сразу кричат: «Хулиган!»
Штейнберг говорил медленно, следя за тем, чтобы я успевал записывать, и я писал слово в слово. И вскоре уже начал осознавать что пишу и опять – как в кабинете Амелина в первый вечер, – ощутил волнение.
Речь шла о парне, вернувшемся из колонии.
Парень этот, Витя Иванов, попал в колонию на несколько лет по чистой случайности, как сказал Штейнберг. Кто-то с кем-то подрался, что-то не поделили, все убежали, когда появилась милиция, а этот парнишка не убежал. На него и шишки. Отсидел год, вышел, а на работу нигде не берут – клеймо. Ходил, ходил неприкаянный, выпивать в какой-то компании начал, еще чуть-чуть и произошло бы непоправимое. Но однажды встретился случайно со Штейнбергом – зашел в Красный уголок ЖЭКа, где Штейнберг тогда воспитателем работал. «Все разговорчиками душеспасительными занимаетесь, ля-ля разводите, а толку? – так сказал Витя Иванов. – Нам не разговорчики нужны, а дело. Нам бы куда вечером пойти». Штейнбергу парень понравился, разговорились.
– Ты знаешь, – увлеченно продолжал Штейнберг теперь, – оказалось, что этот парень, Витя Иванов, много стихотворений наизусть знает, даже сам пишет! В колонии начал… Но только мрачные все стихотворения, пессимистические… Потом мы в другой раз с ним встретились. Вот тогда Витька и подал идею клуба. Такого клуба, куда каждый в любое время мог бы прийти без всяких пригласительных билетов, не на «мероприятие», а просто так – посидеть, в шахматы поиграть, с ребятами потолковать, стихотворения почитать. Понимаешь?
– Еще бы! – с растущим волнением отвечал я.
У Штейнберга было знакомство в Горкоме, и, в конце концов, удалось клуб «пробить». Дали помещение в новом доме, Штейнберг стал директором клуба, а Витя Иванов членом правления. Удалось Виктора и на работу устроить. Стихи писать продолжает.
– Но теперь стихи у него светлые стали, оптимистические! – заключил Штейнберг свой рассказ и с улыбкой посмотрел на меня.
– Приходи к нам как-нибудь, – добавил он, энергично потирая свои волосатые руки, и лицо его сияло. – У нас очень интересно бывает. Дни рождения справляем, приглашаем интересных людей. Турниры проводим по шахматам, по пинг-понгу. К нам каждый может прийти!
Очерк! – думал я уже радостно. Вот же она, великолепная тема для очерка! Такой клуб не устоит долго, если он будет случайным явлением, но если повсюду! Если – в каждом районе и микрорайоне! Тут и поможет мой очерк. Вот настоящая тема! «Суд над равнодушием» тоже, конечно. Но и это! Поддержать, поддержать Штейнберга! Обязательно!
– Ты представляешь, как много мы могли бы сделать! – говорил Штейнберг тем временем, махая красными своими большими руками, и лицо его сияло. – Сколько таких неприкаянных парней и девчонок! Потому и преступления, верно? Ведь податься людям некуда, заняться по сути нечем, особенно молодым! Где пообщаться? Где друг с другом познакомиться? Потому и пьют, хулиганят, потому изнасилования и все такое. Знаешь, какие у нас ребята отличные! Обязательно приходи как-нибудь… Твоя статья как раз и могла бы… Про Витю Иванова напиши обязательно! Клуб – его идея. «Клуб Витьки Иванова»! Звучит, а?!
Я совсем ожил. Вот она, жизнь, и вот настоящее дело! Штейнберг – живой, настоящий, надо же! А Лора… Да бог с ней, в конце-то концов! Я же сам виноват, она права! Вялый, закомплексованный, неумелый… Учиться надо всему – и этому тоже! Она права. И очерк настоящий, боевой очерк написать надо, и – чтоб напечатали! Тогда и с Лорой все будет хорошо, это же естественно! Подумаешь, не согласилась на «Лебединое озеро»! Ну и что? Все впереди.
Возбужденный, радостный, я звонил Алексееву из автомата.
– Слушает Алексеев, – деловито ответила трубка.
– Иван Кузьмич, это Олег Серов, здравствуйте! Иван Кузьмич, я отличную тему нашел, просто великолепную!
– Да? – с каким-то странным спокойствием и настороженностью спросил Алексеев. – Ну, что же, скажи в двух словах, какая такая тема.
Волнуясь, торопясь, я начал рассказывать.
– Погоди, погоди, Олежек, не увлекайся, – перебил Алексеев очень скоро. – Ты не торопись. Сначала вот что скажи. Сколько лет твоему оболтусу?
– Что значит «оболтусу»? – недоуменно спросил я.
– Ну, этому… Вите Иванову.
– Вите Иванову? Сколько лет? – я растерялся. – Какая разница… Ну, сейчас лет двадцать с небольшим, я так понял. А что? Ведь он в колонии был.
– Стоп, – сказал Алексеев. – Не торопись, Олежек, не торопись. Двадцать с небольшим – это много, это не то, Олежек, должен тебя огорчить. Нам о несовершеннолетних нужно, я же тебе сказал! О несовершеннолетних сейчас! Только о них! Ты понял? О несовершеннолетних! Такая задача. Вот если бы твоему Вите было…
– Подождите, Иван Кузьмич, что-то не понимаю. – Недоумение мое росло. – Причем тут возраст Вити сейчас? Во-первых, тогда, попав в колонию, он как раз и был несовершеннолетний. И потом ведь речь вообще о преступности подростков, так? Проблемный очерк, вы говорили. О причинах и чтобы не было, верно? Вот и получается, что если будут такие клубы, то…
– Стоп, Олежек. Стоп-стоп! Возраст как раз причем, возраст – самое главное! Возраст теперь, ты понял? Клуб клубом, но нам о сегодняшних несовершеннолетних нужно, понимаешь! Рубрика у нас такая. Руб-ри-ка в журнале! Преступность несовершеннолетних ребят. Поэтому я и…
Он замолчал.
А я разозлился. Глухая, мучительнвя досада поднялась вдруг. Он что, дурак, Алексеев? Ведь причины важны, причины! Причем тут рубрика? Что за бред, формализм какой-то…
– Ну, ты чего замолк? – спокойно спросил зав отделом журнала, и я уловил в голосе Алексеева новые нотки. Успокаивающие. Да, Алексеев меня словно бы успокаивал. Этак как бы даже и по-отцовски.
Меня это еще больше взбесило.
– А как… Как вообще нужно написать, Иван Кузьмич? – спросил я все же хрипло, едва сдерживаясь. Машинально посмотрел в стекло телефонной будки, ища почему-то Штейнберга. Не увидел его и ощутил облегчение. Было бы перед ним стыдно…
– Надо написать так, чтобы очерк твой стал событием, – говорил тем временем Алексеев опять по-отечески. – Чтобы все вокруг спрашивали: кто такой этот талантливый журналист Олег Серов? Я от тебя, Олежек, хорошего очерка жду, настоящего. Проблемного. О несовершеннолетних. Понял? О несовершеннолетних! Ты же талантливый человек, ты можешь, я в тебя верю. Ты не разбрасывайся, ты найди подходящую, нужную тему, ударную, и выстрели, как надо. Проблемный, о несовершеннолетних, запомни. Стрелять надо точно в цель.
«Он что, издевается?» – мелькнула вялая мысль.
«Выстрели»… Почему он сказал «выстрели»? – вертелось и вертелось в голове. Причем тут «выстрели»?…
9
Опять голова шла кругом… Вот уж от Алексеева-то не ожидал!
При чем сегодняшний возраст Вити Иванова? Что за формальность глупая? Разве клуб не есть одно из самых лучших средств, чтобы ребят занять, чтобы отвлечь от дури, дать им то, чего как раз им не хватает? Это же просто находка!
Но по тону Алексеева, по уверенным его словам мне стало ясно: очерк такой «не пройдет». И причем тут это – «чтобы все вокруг говорили», – думал я с раздражением. За кого он меня принимает?
…Для гимнастики йогов нужно постелить на пол два больших листа толстой бумаги – они же идут под сушку фотографий, – а на них сложенное вчетверо одеяло. Предварительно я проветриваю комнату, но потом закрываю окно – во время расслабления легко простудиться…
Без обычной спортивной гимнастики утром и гимнастики йогов днем я бы не выжил, точно. Ведь в детстве много болел, наследственность ни к черту, мать умерла от туберкулеза в 31 год, отец в 45 лет был инвалидом 2-й группы. Если бы не гимнастика, не поездки «на природу» со школьных лет, не лыжи, велосипед, гантели и эта гимнастика йогов…
«Внимайте песне жизни!» – вот одна из истин, о которой однажды я прочитал в хорошей книге. Но я следовал ей неосознанно с ранней юности, руководствуясь собственными представлениями и ощущениями – вот что интересно! Со всех сторон мне пытались навязать «установки» и «правила», следуя которым все равно никто не достигал ни счастья, ни гармонии друг с другом и с миром. Потому я им и не верил. Они все равно упорно твердили все то же и пытались заставить друг друга этому следовать, хотя никому из них это не помогало. Я же видел! Слава Богу, я старался поступать по-своему…
…Спокойный, собранный, встаю на одеяло, выпрямляюсь, складываю на груди руки ладонь к ладони. Грудная клетка поднята, живот подтянут, дыхание спокойное и глубокое. Вдох начинается в нижней части легких, потом идет выше, доходит до верха, и – задержка на несколько секунд. Выдох – в обратном порядке. Голова чуть кружится, и слегка темнеет в глазах, но только сначала. Потом, наоборот, в голове проясняется, а в теле постепенно появляется легкость.
Это первое, предварительное упражнение. За ним плавно следуют остальные, и в мышцах начинает звучать сладкая музыка. Музыка Бытия… «Внимайте песне жизни»…
Наконец, «березка» – стойка на верхней части спины и на шее. Руки поддерживают спину, ноги вытянуты, устремлены вверх. Гимнастику я делаю, как правило, голым, и теперь вижу свой живот, ноги и… То самое – мягкое, беззащитное, сейчас съежившееся в круглый комок с вялым отростком, свисающее недалеко от моего лица… Странно, что в гармоничном мужском теле, состоящем из костей, мышц, как-то неожиданно явлен этот совершенно беззащитный комок плоти, несущий, кстати, в себе не что-нибудь, а – новое жизненное начало. И столько переживаний связано с ним, и я с симпатией и уважением смотрю сейчас на него…
Сладость разливается по всему телу. И вот уже из нежной дырочки на конце набухшей головки выступает совершенно прозрачная, кристально чистая капля. Смазка… Понятно, что сейчас она ни к чему, но появление ее – признак здоровья, как я считаю.
Я полюбил свое тело. Мне удалось натренировать и воспитать его так, что приятно смотреть самому. А в детстве, как уже сказано, много болел, и в юности перенес две операции…
Наше тело – великий подарок природы-матери, это чудо, совершеннейший инструмент. Мир прекрасен, разнообразен, богат, в нем есть все, что нужно для нашего существования, для нашей радости и того ощущения полноты и гармонии, которое мы называем счастьем. Все зависит от нас. От того, можем ли мы услышать Песню Жизни. И – слиться с нею. Болезни нашего тела – порождение несовершенства сознания и души. Главное – преодолевать его, учиться… Так я считал и считаю. Поэтому и…
Последнее упражнение – «Полет чайки». Я лежу совершенно расслабленным на спине. Тело мое – кисель… Закрыв глаза, представляю себя чайкой. Реющей над морем в солнечном голубом просторе… И мягкий теплый ветер ласкает кожу…
Что знаем мы о таинстве жизни? ПОЧЕМУ и ЗАЧЕМ происходит соединение двух микроскопических клеток, которые определяют свойства будущего сложнейшего организма? И почему, соединяясь в любви, мы испытываем столь великие, могучие чувства? Величайшая из загадок! Вот и Лора. Почему так подействовало на меня знакомство с ней? Женщина, великая тайна! Волшебная магия…
После гимнастики я сидел перед увеличителем при красном свете и спокойно печатал.
Но прозвучали два звонка в коридоре – это ко мне. Антон.
В мой красный мир с белыми вспышками увеличителя и тихо смеющимися детскими лицами, возникающими на розовом фоне бумаги под проявителем, ворвалось нечто извне, из огромного застенного мира, и очарование неспешной, приятной работы исчезло.
Пришлось прерваться. Антон в очередной раз попросил остаться ночевать у меня. Дружба есть дружба, ничего не поделаешь. Допечатаю завтра.
Мы пили чай, потом ложились – я на своей тахте, Антон, как обычно, на раскладушке. Я не удержался, спросил все же о Лоре. Хотелось в конце концов что-то понять…
– Она дрянь, Олег, самая обыкновенная дрянь, – зевнув, спокойно сказал Антон. – Потаскуха и хищница, к тому же. Выгоду ищет во всем. А сейчас мужа себе ищет. С прежним развелась, вроде бы, и нового ищет. Вот и все. Вся ее суть. Так что ты зря, ей-богу.
Он помолчал, поворочался на раскладушке и продолжал:
– Ну что ты к ней привязался? Зачем она тебе? И зачем ты ей, подумай! Красивая развратная хищница, только и всего. И довольно дешевая, ко всему прочему. Ну что ты мог увидеть в ней такого уж человеческого? Вот грудь у нее отличная, что да, то да, но она ей дана, между прочим, чтобы детей кормить! А она ее как использует?
– Слушай, – разозлился я. – Понимаю, что ты вообще-то шутишь. И все же. Как же ты можешь так… Ты хоть глаза-то ее видел?
– Да видел я ее глаза, видел, – сладко зевая, сказал Антон. – Голубые, с ресницами крашеными. Так накрашенными, что сыпется.
Он опять зевнул и заворочался, лег поудобнее.
– Знаешь, я внимательно тебя слушаю, пытаюсь понять, – продолжал устало. – Мне жаль тебя, если честно. По крайней мере все, что я о ней знаю, все говорит против. Самая обычная блядь, вот и все. Ну, красивая, да. Так тем хуже. Ты ее защищаешь почему-то, а перед кем? И зачем? Нравится тебе – ну и давай звони, встречайся, трахайся, если получится. Ради Бога! Зачем философию-то разводишь? Ей-богу, ты странный какой-то.
А я и сам не знал, зачем ему говорю все это. Не мог остановиться, и все. И почему-то очень важно мне было, чтобы Антон согласился. За что он так на нее? Чем она перед ним провинилась?
И – черт меня дернул! – я сказал, что Лора была у меня, и мы были близки. Я сказал это, ни в какой мере не хвастаясь, а для того, чтобы оправдать, реабилитировать ее, что ли. Ведь это противоречит словам Антона! Какой расчет ей был приходить ко мне, если она такая хищница, как он считает, что с меня взять? А она пришла. Тут ведь только искренность ее, только истинная эмоция, бескорыстие! Это чистый, нравственный поступок, я считаю, потому что она ведь ничего материального не имела и не могла иметь от меня, это же ясно! Разве не так?