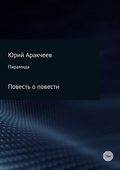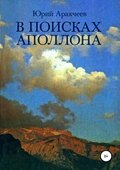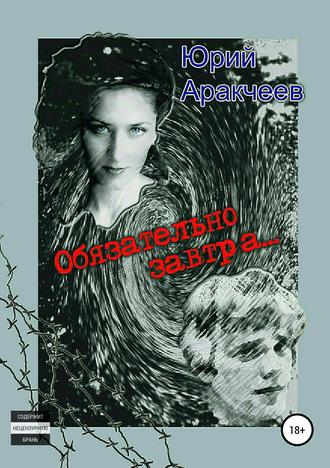
Юрий Сергеевич Аракчеев
Обязательно завтра
Вот так настраивал я себя. И настроил. Теперь история Коли Кусакина, которого перевоспитывала Лида Грушина, комсомольский шеф, становилась значительной и символической. Коля, родился в тюрьме – то есть символ: мрачное прошлое. И он, естественно, уже катился по наклонной дорожке… Но тут ему помог комсомол в лице Лиды Грушиной. И она, доблестный комсомольский шеф, протянула ему комсомольскую руку, показав дорогу к светлому, правильному будущему! Помогла!
Да, были, конечно, сложности. Одно воспоминание о тюрьме, в которой родила его мать, чего стоит! Но педалировать этот факт, конечно, не надо. Хотя и есть у нас пока тюрьмы для уголовников, но суть-то не в этом! А в том суть, что не родственник какой-нибудь формальный, а именно посторонний как будто бы человек – молодая женщина! – пришла к нему в дом, обеспокоенная его судьбой, поддержала, заботясь о нем как о родном. Причем бескорыстно! Не в расчете на наследство, как наверняка было бы на Западе, и не потому, что он якобы заинтересовал ее сексуально – какое там… – а именно бескорыстно! Бескорыстно тратила на него свое время и нервы комсомольский шеф Лида Грушина, заботилась о нем, переживала за него – и таким образом стала для него как родная. Роднее даже, чем мать, называвшая Колю «тюремщиком» в лицо и фактически не считающая его своим сыном.
И что тут еще очень важно: не единичный это случай, а – движение по всей стране, как когда-то «тимуровское». Таких комсомольских шефов у нас – десятки тысяч! И у некоторых шефов бывает аж по нескольку подшефных сразу! Разве это не героизм? Вот и получается, что оступившийся человек, оступившийся ребенок в нашей стране не предоставлен сам себе, и если о нем плохо заботятся родственники по крови – мать, отец, братья, сестры, – то общество выделяет из своей среды тех, кто становится для него настоящими родственниками: не по крови, а по сути, по убеждениям! И бескорыстно! В свободное от учебы и работы время. «Друг, товарищ и брат»…
Есть такое на Западе? Вряд ли. А у нас есть! Вот они, герои нашего времени! Человек человеку – друг, товарищ и брат на самом деле! «Мир, труд, свобода, братство и счастье для всех людей»…
«В борьбе за человека!» – так я и решил назвать свой очерк.
Очень трудно было сначала, однако постепенно я все же настроился и втянулся. Стало легче. В конце очерка я даже почувствовал, что на самом деле горю гражданским пылом и в том же ключе, пожалуй, смогу написать и о Варфоломееве-Силине, и о Штейнберге, и о «Суде над равнодушием». Странно, в какой-то миг мне показалось даже, что парней из РОМа я отчасти начал уже понимать. Надо же как-то бороться за моральную чистоту! Да, перегибы есть, но…
Что же касается «Суда над равнодушием», то в гранках у Алексеева была путаница в сути, вот в чем дело! Эта путаница и сбивала с толку. Потому, может быть, тот очерк женщины и не прошел? Уверенность должна быть, коли берешься за дело. И – четкость позиции.
А Лора… Да, разумеется, забыть ее так, сразу я, конечно, не мог. Но… Да, она красивая, конечно, хорошая женщина, чувственная. Да, то, что произошло у нас во вторую встречу – какой-то чудесный прорыв. Но… Во многом все же прав Антон. Она не смогла справиться с обстоятельствами своей жизни, поддалась им. И – правильно, что мы с ней разошлись. И нечего.
Воистину: трудно лишь начать. Потом легче…
Вообще-то говоря, состояние у меня было непривычное с самого начала и не совсем понятное мне самому. Мучительная боль ушла, я был деятелен, бодр – бодро сидел за очерком утром (это не приносило особого удовлетворения, но ведь шла работа, продвигалась!), бодро печатал фотографии потом. Правда, бодрость эта не шла изнутри, ее приходилось постоянно чем-то поддерживать – гимнастикой, осознанием долга, чуть-чуть прослушиванием радиопередач. Я ощущал себя в постоянном напряге, и как бы на посту. Как Мартин Иден в самом начале! То есть я не жил, а работал во имя будущей своей жизни (и не только своей!) и пылко мечтал о скорейшем написании очерка и избавлении от фотографии, чтобы поездить за город, книжки почитать, сесть, наконец, за свою повесть, рассказы. Правда, повесть, рассказы и вообще все прошлые мои вещи как-то отдалились и вызывали нечто, похожее на смущение. Может быть, они и правда наивны, многословны и в какой-то мере действительно «ни о чем», как говорили редакторы и «семинаристы» на первом моем «обсуждении»? Нужны ли они вообще?
Это мое новое отношение к ним смущало – ведь раньше я был уверен в них! Уверен, что они – о самом главном! Но сечас я старался гнать от себя эти мысли. Потом, потом! Когда напишу очерк и разделаюсь с фотографией. Сейчас не до них, работать нужно. Потом!
Ну, в общем, написал я свой очерк за три дня. Честно говоря, все же не был вполне им доволен. Чего-то там не хватало. То есть вроде бы все там есть – и проблема поставлена правильно, и образы как будто, и язык. Но не хватало чего-то. Впрочем, если честно, то он и так уж порядком мне опротивел за эти три дня. Доделаю, если что. Доработаю, если попросят. Все равно они будут «править». Вот и пусть. Главное, чтобы Алексееву более или менее понравилось, он и подскажет.
Скорее нести. Время не ждет. И уж во всяком случае очерк мой лучше, чем те убогие «гранки».
Созвонился с Алексеевым и – понес.
– Принес? – спросил Алексеев бодро.
– Да, вот, пожалуйста.
– Я прочитаю, ты оставь, – сказал Алексеев. – Молодец, что успел. Если все по-хорошему – в восьмой номер пустим. Нужен твой материал, очень нужен! Позвоню, как прочту. Или сам позвони через пару дней, идет? Сейчас не могу читать – номер сдаем.
Приятно было идти теперь по светлому коридору редакции. Прошла мимо очаровательная девушка, я смотрел на нее теперь почему-то совсем без стеснения, с улыбкой, она тоже улыбнулась мне. Миновав ее, я оглянулся. И она оглянулась тоже! До чего же все-таки хороша может быть жизнь!
Теперь, в ожидании, пока Алексеев прочтет, можно было куда-нибудь съездить. Ну, в тюрьму, например. Договаривался ведь с Чириковым. С Силаковым надо встретиться и с Чурсиновым. Может быть еще какая-то интересная тема возникнет? Выйдя из редакции, я позвонил Чирикову – и застал!
– Можно в понедельник, Константин Иванович?
Он разрешил.
В субботу и воскресенье я допечатывал те фотографии, что оставались, а в понедельник с утра поехал в тюрьму.
45
Чириков был занят, а встретила меня опять Ангелина Степановна.
– Куда вас отвести? – спросила она любезно, и я попросил сначала в камеру, где сидели ребята по 117-й статье, а потом, если можно, в женскую камеру.
– С девочками в тюрьме особенно трудно, – поделилась с со мной Ангелина Степановна, пока шли длинными коридорами.
– Почему?
– Да ведь у них одно на уме. Об одном только и думают. – Она обернулась и посмотрела на меня с грустной улыбкой. – На воле женщины держатся, да и девчонки тоже в общем-то. Во всяком случае не так заметно. А здесь… Вот у меня Ромашкина есть такая. С 13-ти лет половой жизнью живет. И ведь гордится этим! Перед подругами хвастает, героиня. Ну, сами увидите. Тут конечно тоже воспитание необходимо. Половое воспитание со школы, а может быть даже с детского сада. Раньше гувернантки были, пансионы для благородных девиц всякие. А теперь… В семьях-то, сами наверное знаете, какая мораль. Или домострой, или разврат неприкрытый. Ханжество сплошное, грязь. А дети ведь все замечают. Да и улица еще, чего там только нет. А школа, что ж. Школа – это только часть жизни. На улице да в семье они больше бывают. Поговорите с ними, они вам расскажут… Вот камера ребят, где 117-я статья.
Странно: теперь я воспринимал все не так, как в первый раз. Даже отметил в себе некоторое чувство брезгливости, когда Ангелина Степановна заговорила о Ромашкиной и ее половой жизни с 13 лет. Остановились в коридоре около одной из дверей.
– Вам сколько нужно времени для разговора? – спросила Ангелина Степановна.
Я заколебался, и она сказала:
– Ну, минут через десять-пятнадцать я за вами зайду, хорошо? Тут ребята тихие. Значит, через пятнадцать минут.
– Хорошо, – сказал я.
Часовой отомкнул дверь. Ангелина Степановна представила меня обитателям камеры как «товарища от Горкома комсомола, журналиста» и вышла.
В камере было четверо – ребята пятнадцати-семнадцати лет, они показались тихими и растерянными. Трое их них уже были осуждены и не за что-нибудь, а за групповые изнасилования.
Только один считал себя виноватым. Я попытался разговорить ребят, они стеснялись, но один все же рассказал, что их было двое с ней, и все состоялось по доброй воле: договорились заранее, встретились у метро, поехали за город, в лес, а потом расстались очень хорошо, как друзья, и даже договорились встретиться на следующий день. Когда же девочка пришла домой, у нее температура поднялась и кровь потекла, она испугалась и рассказала все матери, а та заставила ее немедленно написать заявление. Ну, почти точно так же, как и со Светланой Карпинской! Суд уже был, парня осудили на шесть лет, а его приятеля – он сидел в другой камере – на восемь. Да, да, все это, судя по рассказу, действительно очень было похоже на случай на станции Москва-III, с Чурсиновым, однако так ли было на самом деле – трудно сказать. «Они же все врут, им бы теперь только вывернуться,» – вспомнились слова Бекасовой. И все же парень вызывал доверие…
Лишь один из сидящих в камере, робкий, невысокий и некрасивый мальчик, был осужден за попытку, которую он совершил в одиночестве, напав на женщину, которая была вдвое старше его. У него ничего не получилось, но их увидели.
– Зачем она тебе нужна была, такая старая? – спросил я.
Парнишка пожал плечами и густо покраснел.
– В парке гулял вечером, – наконец, сказал он. – А тут она идет. Пьяная шла, со мной сама заговорила. Улыбалась, целоваться полезла. Сама захотела, ну я и… Попробовать хотел. Чего ж…
Он замолчал и потупился. Ребята в камере улыбались. Я спросил:
– А у тебя вообще-то было? С девчонками было когда-нибудь до этого?
Парень пожал плечами и еще ниже наклонил голову.
– Маленький еще! – улыбаясь, сказал за него один их троих. – Не было у него. Да ведь и тут он совсем не виноват! – добавил и горячо продолжал: – Пьяная ж была тетка! Сама и хотела, спровоцировала! Просто милиционеры шли мимо, заметили. Она, дура старая, увидела такое дело и закричала: насилуют! Сучка она. Вы их не знаете, они такие, что сами лезут пока никто не видит. А как что – орут. Витьке теперь полтора года сидеть ни за что. Ведь и не попробовал даже!
– Выйду на волю – попробую, – угрюмо сказал Витька.
– А ты с чем попал? – спросил я защитника.
– Ну, у меня другое. Меня за дело, если честно. Только много дали.
Вошла Ангелина Степановна.
– У вас все? – спросила. – Пойдемте.
Я простился с ребятами – ничего не поделаешь, – и мы с Ангелиной Степановной вышли.
– Ну, что? – спросила она. – Никто не виноват у них, да? Они никогда не виноваты, это уж как водится. Всегда оправдываются. Особенно в этих делах. Захотелось и все тут. Но вообще-то и на самом деле с этим непросто. Взрослые – другое дело, а ребята… Есть, конечно, подонки настоящие, а чаще глупость, элементарное незнание, неразвитость. В этой камере как раз такие. С воспитанием плохо у нас, с воспитанием! Ну, теперь куда, к девочкам? Или Ромашкину привести?
Я попросил сначала устроить встречу с Чурсиновым, если можно. «Пожалуйста», – сказала Ангелина Степановна.
Она привела меня в пустую комнату – это была еще одна «воспитательская комната» – и сказала, что сейчас Чурсинова приведет.
– А потом Ромашкину, да? – спросила.
– Да, если можно.
Чурсинов оказался симпатичным пареньком среднего роста. Он был уже острижен наголо.
– Все путем было, – рассказывал он. – Сама с нами поехала, никто и не уговаривал. Вы бы видели какая она в будке была! Пила из горлышка больше меня, больше Сашки, курила без конца, а потом… Такое выделывала. Не знаю, как только ухитрилась до сих пор девушкой остаться, опыт такой, что… Она… понимаете, она привыкла в рот брать, а туда ни за что. Невинная, мол! Сама же нас и довела. Просто дрожала вся, так ей захотелось. Нам и в голову не пришло, что она девушкой может быть. Ну, мы и поочереди… Потом она поплакала немного – последствий боялась. Но расстались по-доброму, целовались даже, телефон свой дала. Кто ж думал, что она заявление напишет!
Он помолчал, потом решительно поднял голову и проговорил:
– Вы скажите Бекасовой, что я жениться согласен, пусть она Светке скажет. Сама же Светка хотела, чтоб я на ней женился. Я ей понравился, я знаю. Скажите, согласен, слово даю. Лучше уж на этой дуре жениться, чем десять лет здесь отсиживать.
Говоря, Чурсинов без конца зевал. Это были нервные зевки, его нервозность передалась мне, я едва удерживался, чтобы не сказать: «Хватит тебе зевать, слышишь!»
За Чурсиновым вместе с часовым пришел Сергей Сергеич Мерцалов.
– Ну что, удалось со следователем встретиться? – спросил он, когда Чурсинова увели. – Насчет Силакова…
– Да, удалось. Но… Понимаете, деталь выплыла неприятная. Он ведь баллон заранее припрятал. За ним и поехал, как Бекасова сказала. Умысел получается…
Сергей Сергеич грустно покачал головой.
– Да, я это знаю, в том-то и дело, – сказал он. – Жаль. Хотя какой это умысел на самом-то деле? Чепуха какая-то. Да и парень-то уж больно хороший, тихий. Ну, привести вам его? Он ведь ждет. Вы хоть несколько слов добрых скажите. Плохо парню.
– Ну, что ж, приведите, я постараюсь. Следователь вообще-то настроена неплохо. Тут главное, как судья. Если можно смягчить, следователь сделает.
– Да? – Сергей Сергеич просветлел. – Ну, хоть так, хоть что-нибудь. Тут иной раз мелочь может помочь, слово одно, и то. Ну, сейчас приведу.
Ввели Силакова. Трудно было смотреть в его глаза.
– Баллон, Вася, – сказал я. – Понимаешь баллон припрятанный. Я со следователем говорил…
Силаков отчаянно смутился, несчастные глаза его заметались.
– Да я… Мы жили плохо. Я хотел раньше продать его, если честно, а деньги отцу отдать. Правда! А как выпили тогда… В голове как замкнулось что-то. Я правда не хотел…
Я смотрел на него теперь спокойнее, чем в первый раз. И заметил, что как-то автоматически гашу чувство слишком острого сопереживания. Я боялся своих чувств, не хотел их. Удивительно, что и Силаков вел себя по-другому. Он был сдержаннее.
Силакова увели, а следом за ним Ангелина Степановна привела Ромашкину. Девчонка лет пятнадцати, маленькая, рыженькая, с веснушками. Живая, бойкая. Она держалась очень легко, естественно, как будто встретились мы не в тюрьме, а в кабинете школы.
– Как ты здесь оказалась, Тамара? – спросил я.
– А просто, – ответила она, улыбаясь лукаво. – Оказаться здесь просто. Очень даже.
– Что значит просто? – спросил я без улыбки.
– А! – она махнула рукой. – Не повезло, вот и все.
– Но за что ты все-таки?
– А, за воровство! – она опять махнула маленькой своей ладошкой. – Подумаешь, пару кофточек унесла у богатой. Ну, часы еще. Другие вон по скольку воруют, а не попадаются. Пусть! Отсижу два года, подумаешь.
– Сейчас-то тебе сколько?
– Шестнадцать, а что?
– Да нет, ничего. Ты со скольких лет с мальчиками встречалась? – спросил я с неожиданной для самого себя легкостью.
– Встречалась с детства, а живу с тринадцати, – бойко отрапортовала она, глядя весело и совсем не стесняясь.
– Ну, и ты считаешь, что это нормально? – спросил я совсем уж глупо.
– Конечно, нормально. Лучше, что ли, когда в 25 лет в старых девах ходят? С ума сходят постепенно, на стенку лезут. А потом засыхает все.
Ого! Вот так девчонка.
– А ты… В семье-то у тебя как? Отец, мать есть? – спросил я, ощутив, что смущен я, а не она, и поскорее уходя от темы.
– Мать есть, – с той же живостью ответила Тамара. – А отец тю-тю, скрылся в неизвестном направлении.
И она опять заулыбалась во весь свой рот. Что-то было в ней от веселого, живого котенка.
– Скажите, а зачем вопросы эти, а? – спросила она вдруг, глядя золотистыми, широко распахнутыми глазами.
– Видишь ли… – замялся я, не найдя, что ответить. – Мы думаем, как сделать, чтобы… – Я опять к собственному своему удивлению ощущал неестественность своих слов и тона. – Мы думаем, как помочь вам, ребятам и девочкам, чтобы… Чтобы лучше стало, понимаешь. Чтобы вы здесь не оказывались.
Тамара едва дала мне договорить. С добрым, даже каким-то материнским выражением лица она смотрела на меня и, похоже, чувствовала мою растерянность.
– А чем вы поможете? – тотчас заговорила она, едва я замолчал. – Судей, что ли, не будет? Или следователей, милиции? Или деньги у всех будут, а не только что у богатых. Попалась, так сиди, все правильно. Что ж поделаешь. А потом… Хочется ведь, никуда не денешься.
Она пожала плечами, посмотрела этак лукаво и мило улыбнулась.
В комнату вошла Ангелина Степановна. С некоторым беспокойством она посмотрела сначала на Ромашкину, потом на меня.
Тамара едва заметно подмигнула мне и с трудом сделала серьезное выражение лица.
– Ну, как? Все у вас? – спросила Ангелина Степановна.
– Да, – сказал я, хотя, конечно, это было не все. – Спасибо. До свиданья, Тамара. Всего тебе наилучшего.
– Спасибо, до свиданья, – церемонно ответила Ромашкина, наклонив голову, встала и пошла вслед за Ангелиной Степановной.
– Я сейчас вернусь, подождите меня здесь, – сказала Ангелина Степановна, пропуская Ромашкину вперед и выходя вслед за ней.
Удивительно светлое какое-то впечатление осталось у меня от девчушки. Хотя и печальное, разумеется.
Вернулась Ангелина Степановна.
– Ну, что, теперь в камеру пойдете к девочкам? – спросила она.
– Да, – ответил я. – Если можно.
И опять направились по длинным коридорам.
– Ну, как вам Ромашкина? Улыбалась наверное без конца? – спросила Ангелина Степановна. – Она всегда паясничает.
– Да, – сказал я. – Но вообще-то она неплохая девчонка, по-моему.
– Все они неплохие, – вздохнув, согласилась Ангелина Степановна. – Только вот мест для них у нас здесь не хватает. Молодая девчонка, девочка, можно сказать, совсем и – тюрьма. Подумайте только. Вдумайтесь. Им в куклы еще играть, а они у нас за решеткой сидят. Да ведь эта Ромашкина и на самом деле не подарок. Воровала ведь. У нее и мамочка такая же. Две судимости, обе за воровство… Ну, вот в эту камеру, пожалуй, зайдите.
Она остановилась перед одной из дверей. Часовой отомкнул замок.
– Минут десять, не больше, хорошо? – продолжала Ангелина Степановна. – Мне уйти надо скоро. Я за вами вернусь… Здравствуйте, девочки! – сказала она, войдя в камеру. – Этот товарищ – от Горкома комсомола, журналист. Хочет поговорить с вами. А Иванова и Васина где?
– В мастерских, – быстро ответила черноволосая худенькая девушка.
– А, ну, ясно. Двое вас. Ну, ничего, поговорите. Я скоро вернусь.
Ангелина Степановна вышла.
Камера была четырехместная, небольшая. По стенам двухэтажные нары, как и у мальчиков. Одна из девушек темноволосая, худенькая, стройная и, пожалуй, красивая. Ее большие серо-голубые глаза смотрели очень серьезно и растерянно. Чувствовалось, что она очень нервничает, вздрагивает даже. Я старался быть спокойным, но ощутил вдруг, что у меня как-то странно задергалось веко на левом глазу. Вторая девушка, русоволосая, тихая, сидела неподвижно и безучастно. Едва дождавшись первого вопроса, темненькая тотчас начала рассказывать о том, за что ее арестовали. Суда еще не было, она под следствием. Сбивчиво, блуждая жалобными глазами и вздрагивая, она поведала, как связалась с парнями, думая, что они «порядочные», а они «пристали» к кому-то на улице, пригрозили ножом, ограбили, она была тут же, милиционеры взяли ее вместе с ребятами. Судить ее будут за соучастие в грабеже.
Мне передалась ее нервозность. Тут было совсем не то, что с Ромашкиной. Смотреть на девочку было трудно. Красивая… И молодая – только что семнадцать исполнилось. Зовут Оля. На окне решетка, по стенам нары… Говорила она как-то автоматически и обращалась как бы и не ко мне, а куда-то вдаль. Меня она как будто бы и не видела. Я подумал, что она похожа на птичку. Темненькую и хорошенькую – скворчонок, может быть. Птичка в каменной клетке.
Вторая девочка безучастно слушала рассказ первой. Казалось, она вообще не реагировала ни на что. И глаза застывшие, неподвижные. Ни о чем спросить ее я не успел. Вошла Ангелина Степановна.
– Пойдемте, – сказала она. – Я, к сожалению, очень тороплюсь.
Мы с Ангелиной Степановной вышли.
– Послушать их – никто ни в чем не виноват, – опять сказала Ангелина Степановна, ни о чем не спрашивая. – А ведь такое иной раз выделывают! Хотя жалко, конечно, что говорить. У этой Андроновой – темненькая которая, красивая, – такая семья хорошая. Отец, мать, бабушка, брат старший. А вот недоглядели. У матери после всего инфаркт, отец постарел лет на десять, брат места себе не находит, бабушку тоже в больницу увезли. Не ожидали. Никогда ничего подобного не было с ней, говорят. А ведь все то же самое, та же проблема! Влюбилась в парня одного, а он подонок настоящий. Смазливая сволочь. Ножом человека пырнул пожилого из-за десятки. Он у нас тоже здесь сидит, только со взрослыми. Девятнадцать идиоту стукнуло, об Оле даже и не спросит, подонок…
– А девчонка-то виновата в чем-нибудь? – спросил я чужим каким-то голосом.
– Да ведь кто их разберет. Говорят, помогала парню, хотя и отрицает. Да ведь раз посадили к нам, значит, что-то было. Суд разберет… Я, вы знаете, ко всему уж тут привыкла, – добавила Ангелина Степановна в конце встречи, провожая меня к выходу из тюрьмы. – И жалость, и злость. Иной раз пожалеешь, а то сорвешься. Все тут перемешано, всего хватает. Уйду, наверное, отсюда. Я раньше в психиатричке работала – тоже не сахар, но все же как-то спокойнее. Там вроде больные, а здесь считается здоровые. А на самом деле? Решетки эти, замки надоели. По ночам снятся. Ну, всего доброго. Звоните Чирикову, если что.
46
Первая мысль вдруг: позвонить Алексееву и сказать, что я забираю свой очерк. Отвратительно я его написал, нельзя так! Там – ложь. Взять надо, пока не поздно. Черт с ним.
Я сам офонарел от такой мысли, но… Ведь не о проблеме думал , когда писал, если честно, вовсе нет! А – чтоб опубликовали. Забрать! И немедленно. Боже, что я наделал…
Уже и в телефонную будку вошел и монету бросил. Но остановился. Задумался на миг все же… Что это с мной опять? Сумасшествие какое-то на самом деле.
Задумался, стал размышлять. Вообще-то говоря, страшного там ничего нет. Удержал себя в рамках. Если будут гранки, вычеркну самое неприятное. Не согласятся – откажусь совсем. Кстати, дома ведь второй экземпляр. Надо посмотреть. Может, и не так уж…
Придя домой, я прочитал и подумал, что в любом случае лучше, если очерк все же напечатают. Ничего страшного там нет, и ведь это только начало. Главное – начать, а уж потом… Виталий прав.
Столько всего свалилось в последние дни… Попробуй-ка, разберись! Да, кстати… Завтра, во вторник, семинар в институте, должны как будто бы обсуждать меня. Обещал принести законченную маленькую повесть.
Мысль эта показалась ужасно неприятной. Одно то, что будут читать и «обсуждать» семинаристы и руководительница, и, разумеется, наговорят всякого – как это уже бывало, – вызвала чувство досады, беспомощного протеста. Как будто тайное, интимное увидят они на бесстыдном свету и будут говорить свои глупости. Это – не очерк для Алексеева. Эта повесть настоящая. О заводе, да, но – без дураков. Конечно, ее не опубликуют, но я на это и не рассчитываю.
Может, сказаться больным? Да нет, непорядочно вроде. И ребят подведу. Надо же им зачеты зарабатывать. Да и мне в конце концов тоже. Ладно, черт с ними. Пусть драконят. Носорожья кожа, так носорожья.
Многое я передумал в тот вечер и ночь. Вспоминал свою «рабочую биографию». Завод был не первым местом работы после ухода из университета, первым был склад мебельной фабрики, куда меня приняли грузчиком, когда я еще был студентом физфака и решил летом подработать. «Стройотрядов» и «шабашек» в то время не было, и одна из дальних родственниц устроила меня на этот склад.
– Вот тебе куча, – сказал завскладом, критически меня осмотрев. – Вот здесь надо уложить штабель, понял? Такой же, как тот соседний. Ясно? Действуй!
Куча была из больших сосновых брусков, а день был солнечный, летний, и мне так хотелось проявить свои способности, молодую силу, я ведь с таким восторгом читал Джека Лондона, который писал о настоящих мужчинах! И – началось. Резкий запах сосновой смолы, мелкие щепки и опилки, летящие в лицо, в глаза, ослепительное солнце, жара и – тяжелые грохочущие бруски, шум и радость работы, спорой, ловкой работы. Не зря я занимался гимнастикой и гантелями, ходил на лыжах, плавал, ого-го! Пошевеливайтесь, бруски, ложитесь на свое место! Мышцы поют, звенят, пот заливает глаза, сердце – молот, грудь – мехи, ноги, спина, руки так послушны, наконец-то, наконец-то, работа, настоящая мужская работа, ого-го, вот так, вот так, дайте развернуться, дайте! Часа полтора прошло всего-навсего, и я уложил огромный штабель, ай да я, вот это здорово! Ну! Где еще? Давайте еще…
– Послушайте, где еще? Я уложил тот штабель… – сказал я заведующему, скромно потупив глаза, с трудом скрывая гордость.
– Как, все уже? Быстро. Ну, ты отдохни, хватит пока…
– Да нет, я не устал, давайте мне еще. Вон тот можно? Там ведь тоже надо укладывать, он начат. Хотите, я его уложу?
– Ну, давай, ладно, – сказал заведующий, посмотрев на меня как-то странно.
И началось опять. Ого-го! Давай, солнце, наддай парку, плевать я хотел на жару, мне все нипочем, летите, бруски, как я велю, пошевеливайтесь, живее, живее, вот так, нажмем, еще нажмем! Работа! Это прекрасно – работа. Настоящая мужская работа! Ни сомнений, ни самокопаний – определенность, радость простого физического труда! Прекрасно, великолепно, еще нажмем, еще…
А потом обеденный перерыв. Усталость, блаженная усталость, удовлетворение сделанным, ноет поясница, набрякли руки, горит от солнца лицо, но зато два таких штабеля этими вот руками… Чуть вразвалку, как бывалый рабочий, иду в угол двора – туда, где сидят другие грузчики, завтракают, курят.
– Здравствуйте!
– Здорово, – лениво говорит один.
Остальные молчат. Неприветливо смотрят. В чем дело? А, понятно. Они видели. Они завидуют! Я же помню, что издалека на меня смотрели, а сами ходили, как сонные мухи. Завидуют!
– Слушай, ты что – студент? – мрачно спрашивает, наконец, самый старший из них.
– Да, студент. А что?
Молчит. Только ухмылка неприятная. В чем же дело? Наконец, через некоторое время, в самом конце обеда:
– Зря выпендриваешься. Здоровье побереги.
Завидуют, так и есть!
Но следует и объяснение:
– Ты парень вроде бы ничего, но не понимаешь, наверное. Ну, так слушай. Все равно наряд тебе закроют, как всем. Понял? А скоро работу переделаем, уложим все – уволят лишних. Или расценки еще раз срежут. И так уже до самого корня дошли… Думаешь, ты много наработал? Ты на полтора рубля наработал, если по расценкам платить.
Не может быть. Неправду говорит. Завидует – первая мысль…
Но работать с прежним пылом как-то уже не хотелось. Потом оказалось, что он прав. Расценки ведь были урезаны до нелепицы, и бригадиру в конце месяца приходилось решать очень непростую задачу, чтобы закрыть наряды, по возможности никого не обидев.
И потянулись скучные, тягостные от безделья дни…
Но через три дня пришел вагон с тесом. Что сделалось с грузчиками? Ленивые, сонные, они вдруг стали прытки и веселы – тот, который пополам сгибался под тяжестью одного бруска, проклиная свою поясницу, теперь брал два бруска сразу и бежал бегом! И смеялся, напевал что-то! Что же произошло? Меня они торопят, меня! В чем дело?
А дело в том, что за вагоны платили отдельно и щедро в зависимости от быстроты разгрузки… Так вот и начал я свою карьеру рабочего в Советском Союзе.
А потом был станочником на автомобильном заводе. Завод! Рабочий! Казалось бы, что может быть почетнее этого звания в стране Советов? Наивный, я забыл урок первого рабочего дня на складе мебельной фабрики и в первый же месяц вдвое перевыполнил норму. Я опять был чрезвычайно горд этим, ведь еще раз доказал самому себе, что могу – и заводу принес несомненную пользу, и государству. Но… На меня начали коситься мои же новые приятели. «От зависти», – подумал я опять. Но мне опять по-доброму объяснили. Дело, опять же, в том, что на тех же станках, на этих же самых операциях, только в другие смены работали женщины. Им трудно угнаться за молодым и сильным парнем, они и так работали на пределе. А после моих трудовых подвигов забегали нормировщики и пошел устойчивый слух о том, что в очередной раз собираются снизить расценки… А это значило, что женщины за ту же работу будут получать еще меньше. Из-за меня… А ведь у них семьи… Так и получалось, что своим трудовым энтузиазмом я снижаю зарплату женщин и, таким образом, не добро делаю, а зло.
А государству от моего пыла все равно лучше не будет. Потому что «отцы государства» плодами моего труда (как и плодами труда других рабочих) будут распоряжаться глупо и так, как выгодно им, начальникам. А вовсе не рабочим.
Так что и здесь, на заводе, мне тоже пришлось угомониться и работать вполсилы. И опять горько и скучно стало. Получалось, что и на заводе, честно работая, я не могу в полной мере проявить себя, если хочу остаться порядочным человеком. Опять получалось наоборот.
И в научно-исследовательском институте потом… Ведь после завода я работал в НИИ лаборантом, и главная работа – моя и еще нескольких лаборантов – заключалась в том, чтобы как можно дольше делать то, что нам поручили, потому что поручали что-нибудь нечасто, а большее время просто-напросто нечего было делать. Но если завлаб или еще какой-нибудь начальник заставал кого-то за чтением книги, за разгадыванием кроссворда, за какой-нибудь безобидной игрой или просто трепом, то он заставлял либо стирать с чего-нибудь пыль, либо подметать пол, либо что-нибудь передвинуть с места на место, почистить, помыть вместо уборщицы, за чем-нибудь сходить на склад или в магазин. Муки ничегонеделания, сочетаемые с постоянной готовностью демонстрировать занятость перед начальством, испытывали не только лаборанты, но и многие научные сотрудники, окончившие институты. Все исправно получали зарплату, но вот за что? Конечно брали деньги, но удовлетворения никто не испытывал, а испытывали все – опустошенность. Я едва мог вынести несколько месяцев такой «работы». Надо сказать, что выматывало ничегонеделанье очень сильно, уставал я от него больше, чем на заводе, и усталость была неприятная, дурная.
Я понимал, что с НИИ, наверное, мне просто не повезло: есть, очевидно, и другие лаборатории, где работают по-настоящему – ведь кто-то двигает же науку! Но факты оставались фактами, существование нашей бесполезной лаборатории – разве это не проблема? И то, что перевыполнять план на заводе тому, кто на это способен, идет во вред его товарищам да в конечном счете и мне самому, а потому нет заинтересованности в работе – не проблема ли? И то, что сами рабочие ни над чем не властны, ничего не решают, все решают за них, а они – винтики, безгласные мошки, роботы, рабы – это становилось все ясней и ясней.