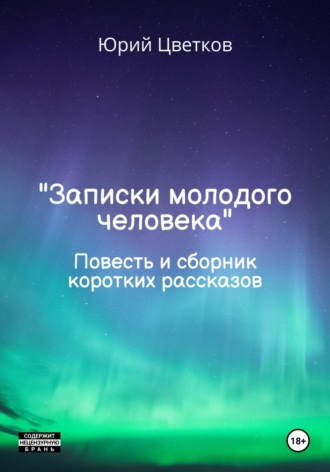
Юрий Цветков
Записки молодого человека. Повесть и сборник коротких рассказов
16
Я был не в силах изменить что-либо в себе и в своей жизни. Размышляя над этим, я пришел к очередному парадоксу. Получалось, причина в том, что я был человеком очень волевым. Да, у меня была очень развита сила воли, воли к правильным поступкам, которая стала у меня привычкой. А поскольку привычка, вторая натура, то моей натурой и была воля к правильным поступкам. Человек, обладающий развитой силой воли, имеет огромную власть над собой. И это один из самых страшных видов деспотии – само деспотия, насилие над собой.
Взять хотя бы мое отношение в детстве к рыбьему жиру. Я познакомился с ним в детском санатории. Нас было много детей, мы сидели за столом и перед обедом воспитательница обходила нас с ужасающей всех своими размерами трехлитровой банкой рыбьего жира и сама же ложкой вливала этот жир нам во рты, не доверяя эту операцию нам самим. Стон стоял в столовой. А я очень четко помню разницу между моим поведением и поведением остальных детей в эту минуту. Им был противен рыбий жир, и этого была для них достаточно, чтобы использовать первую же возможность избежать этой гадости. Меня поражало их легкомыслие. Даже бы если у меня была возможность избежать своей порции, я бы не сделал этого, ведь я осознавал необходимость приема рыбьего жира.
Мне кажется, рыбий жир – прекрасное средство для воспитания силы воли. Один раз в день по столовой ложке, и вы воспитаете в себе огромную силу воли. Только смотрите, куда потом заведет вас ваша сила воли, над которой вы уже будете на властны. Она будет из вас веревки вить. Благодаря ей вы сможете не морщась глотать не только рыбий жир, но и вещи гораздо белее отвратительные и противные всей ваше натуре. Может статься и так, что вы добьетесь, достигните того, что будете глотать только то, что вам отвратительно и мерзко. Это будет восхитительная победа вашей воли над вашей глупой натурой, и пусть это вас не смущает – нужно же пользоваться теми преимуществами, которые дает нам с вами, людям волевым, наша сила воли перед слабохарактерными людьми, которые позволяют себе слабость отказываться от того, от чего их тошнит, и делать то, что им, видишь ли, нравится. Мы то с вами преодолеем эту слабость и добьемся успеха. Ну, а где успех, там, разумеется и счастье. Кто же в этом сомневается?
Вот я – человек, поистине, железобетонный. Я сам создал себя. Всем, что я имел, чего добился, я обязан своей силе воли. Что я имел? Прежде всего институт. Правда будущую свою специальность я не любил, да и учился с отвращением, но учился прекрасно и у начальства институтского был на хорошем счету. Смущало меня только то, что в отличие от своих однокурсников, я совершенно не испытывал интереса к тому делу, к которому нас готовили. Я уже предвкушал весь тот ужас, который обрушится на меня, когда я закончу институт и приду на производство, буду работать.
Одна моя однокурсница, девочка тоже очень правильного поведения, на каком-то этапе захотела вдруг «испортиться», потому что пора было выходить замуж – до выпуска из института оставался один год – а мальчики не обращали на нее внимания из-за излишней ее серьезности. Потому что даже уступающие ей по внешним данным, но более легкомысленные однокурсницы у нее на глазах пользовались у ребят большим вниманием. Чего только она не делала! И глаза накрасила, и губы намазала, и хвост на голове распушила вместо прежнего скромного узелка – «под сельскую учительницу». И к ребятам пыталась приставать с легкомысленными разговорами. К занятиям даже пробовала не готовиться, чтобы показать свою легкомысленность. Она очень старалась. И ничего у нее не получалось. Никто не верил. Только людей насмешила.
17
Наверное, ее пример напугал и спас меня от такого же подвига, хотя, откровенно говоря, до этого я и сам подумывал сделать что-нибудь подобное только в своем роде. Я уже не верил в учебу, но все-таки – не менять же свои убеждения так смехотворно, как она. И я продолжал упорно работать. Я заметил вскоре, что невольно оказался в лагере довольно странных людей. Это были такие же незаметные, волевые и упорные трудяги. Больше всего в них поражало именно упорство, с которым они добивались успеха. Успех этот не всегда грезился им на одной и той же высоте. Сначала им казалось, что они выйдут в гении или почти в гении. Потом, когда их спустили с небес на землю, они довольствовались в мечтах уже карьерой просто способного человека. Когда же они стали сравнивать себя с другими, им стало окончательно ясно, что они заурядные трудяги. И замок будущего рухнул. Вот тут, казалось бы, и бросить весла, дать волю оскорбленному самолюбию! Но нет, и на новом безрадостном уровне они будут все равно добиваться успеха – того успеха, что еще оставался на их долю. И они трудятся – уже без былого воодушевления, но с прежним упорством.
Раньше я полагал, что я со всеми моими мучениями – единственный в своем роде, и хотя бы потому – личность незаурядная. Теперь оказалось, что нас целый коллектив. И это было уже пошло. Конечно, это внушило мне еще большую неприязнь к тем качествам, которые объединяли меня с этим коллективом. Я, правда, никак не мог поверить, что они страдают также, как и я, держался гордо и смотрел на них презрительно с высока, словно пытаясь отречься от своего коллектива. Но куда там – коллектив крепко притягивал к себе, собратья, кажется, давно уже признали меня за своего. И еще если бы кто-нибудь что-нибудь сказал, вслух – можно было бы возразить, поспорить. Но никто ничего не говорил. Я будто бы ловил на себе их понимающие взгляды, и с этим пониманием ничего нельзя было поделать. Даже когда я в читальном зале независимой походкой проходил мимо согнувшегося над книгами трудяги, мне казалось, он отрывал глаза от книги и понимающе смотрел мне вслед: «Это ничего, что ты сейчас не зубришь – ты потом будешь, я знаю, придешь домой и будешь зубрить.» Я не оглядывался, конечно, но так и хотелось крикнуть в бешенстве: «Да не ваш я, не ваш!» Но разве крикнешь?
А еще одно наваждение: в меня почему-то всегда и везде влюблялись некрасивые девушки. Этот закон действовал неизменно и без промаха: стоило мне придти на новое место, к новым людям, там обязательно будет некрасивая девушка, и я уже знал, что она в меня непременно влюбится. И точно. Все некрасивые девушки влюблялись в меня. Причем без зазрения совести, как будто я был для них самой подходящей парой. Ни в кого до этого не влюблялись – не осмеливались, может быть, влюбляться, а в меня осмеливались. Жила она такая в тоске и унынии, вдруг прихожу я, и она влюбляется в меня и сразу оживает. Создавалось впечатление, что я – именно тот идеал, который она возлелеяла в душе за эти годы, и для которого себя и весь запас своих чувств сберегла. Это меня прямо убивало. Я неприязненно осматривал себя, как человек оглядывает свой костюм, когда ему скажут, что он посадил на него жирное пятно: «Это я – идеал для некрасивых девушек? Что такого они во мне нашли?»
Обходилась мне эта их любовь по-разному. Одни просто млели и никаких особых неприятностей мне не доставляли, кроме разве что испорченного настроения или того состояний настороженности, в какое я всегда приходил в их присутствии. Другие же вдруг – и откуда что бралось – развивали бурную деятельность и вели себя очень активно. От этих приходилось отбиваться обеими руками, на что они, как правило, не обращали внимания – то ли это было из-за отсутствия опыта, и они принимали это за обычное поведение мужчин, то ли, однажды отважившись бороться за свое счастье, они теперь не желали останавливаться ни перед чем.
Эта возня на виду у всех заставляла меня сгорать от стыда. Говорят, что любовью оскорбить нельзя, но мне такая любовь казалась чуть ли не оскорблением. Хотя окружающие, напротив, в отличие от меня, не видели во всем этом ничего ненормального и смотрели на нас даже с одобрением. И от этого было еще обиднее.
Не лучше обстояло теперь дело и в моих отношениях с теми подружками, которых выбирал я сам. Я стал замечать, что, как правило, пользуюсь большим расположением родителей моей подруги, чем ее собственным. И это, как ни странно, немножко расхолаживало ко мне самих дочерей. А меня мучила совесть за расположение родителей – их сбивал с толку мой серьезный вид и они предполагали во мне серьезные намерения. А именно серьезных намерений то у меня не было и в помине.
И не только по отношению к женскому полу.
18
Все считали меня человеком серьезным. Мне даже никогда и никого не удавалось по-настоящему разыграть, и не потому, что мне не верили, а, наоборот, потому что мне слишком верили и воспринимали меня слишком серьезно. Когда я хотел пошутить и с серьезным видом говорил какую-нибудь заведомую нелепицу, то люди, выслушав меня, не смеялись, а напряженно морщили лбы, пытаясь постичь, как же это так могло быть? Когда же я, разозлившись, объяснял им, что это шутка такая, то они пожимали плечами и отходили явно обиженные. А одна девушка, когда я впервые ее поцеловал, сказала вдруг: «Я думала, ты никогда не сможешь поцеловать девушку – такой у тебя серьезный вид.»
Забавно было видеть, как уважительно ко мне относятся, разговаривают, как с серьезным человеком. Я старался внешне ничем себя не выдавать, а внутренне хохотал – я то знал цену своей серьезности. Меня считали человеком, который твердо знает, чего он хочет. Я их понимал, потому что твердо знал, чего я добиваюсь. Но я знал еще и то, что совершенно не хочу того, чего я добиваюсь. Правда, я не хотел уже ничего другого, но того, чего я добивался, я не хотел в особенности.
Я думал, почему так? Почему я всю жизнь живу в этих хлопотах, до крайности озабоченный устройством своей карьеры, до которой мне нет никакого дела, которая меня на самом деле нисколько не волнует. А я все равно автоматически карабкаюсь по этой карьерной лестнице, как лунатик по пожарной лестнице лезет на крышу.
Я думал, что в этом я очень похож на свою последнюю учительницу английского языка, старую деву – мы оба с ней строили дом на пустом месте, дом над пропастью. Этой пропастью были наши души – в них не было ничего, что по-настоящему хотело бы жить.
Когда я разговаривал с приятелями, которые уже несколько лет безуспешно пытались попасть в вуз, и которые, сетуя на свою слабохарактерность и лень, смотрели на меня с завистью и уважением, говоря, что мой пример вдохновляет их, я их поддерживал и делился опытом. Не мог же я сказать им: «Плюньте, ребята.» Для них это имело совсем другой смысл и имело смысл вообще. Не мог же я лишить их образца для подражания – я чувствовал ответственность за их судьбы. С помощью своих волевых качеств я одним махом залетел на самую вершину горы упорства и воли, обогнав при этом всех карабкавшихся по ее склонам людей, и увидел, что там… ничего нет. И, вращаясь теперь в кругу карабкавшихся на эту вершину людей – а они смотрели на меня с завистью, предвкушая и свой успех – я хранил эту жуткую тайну. Но я был спокоен за них и за то, что тайна эта никогда не будет раскрыта, потому что им никогда не добраться до самой вершины, а пока они ползут, они все будут надеяться. Будь во мне моей силы поменьше, я бы тоже карабкался всю жизнь вместе со всеми и был бы счастлив. Поистине, печальна участь, знающих тайны вершин, думал себе я.
19
А еще меня порою поражала и угнетала моя сознательность. Однажды мне приснился сон, в котором я оказался гением в средние века и разработал какое-то учение необыкновенной силы и проницательности. Но учение мое, как это часто бывает с гениями, очень сильно опередило время, в котором я жил, и хотя в будущем, когда человечество дорастет до него, оно принесет ему огромную пользу, в мое время, если бы оно распространилось и все стали ему следовать, оно принесло бы огромные беды. Правители той страны, в которой я жил, наверное, не очень разбирались в будущем, но то, что я вреден настоящему, они видели прекрасно, и меня посадили в тюрьму, а вскоре приговорили и к смертной казни, как еретика. Так вот, я настолько осознавал их право на то, чтобы убить меня, что сидел и ждал своей смерти хотя и удрученно, но совершенно покорно и не делал никаких попыток ни избежать казни, ни даже протестовать. Не помышлял я и о побеге, потому что содрогался уже от одной мысли о том, какие бедствия постигнут человечество, если я со своей теорией попаду на свободу. А когда час казни пришел, я покорно положил голову на плаху. Более того, когда я проснулся и стал вспоминать этот сон, я никак не мог отделаться от впечатления, что меня даже не арестовали, а я сам пришел в тюрьму, чтобы меня заперли. Мне казалось так потому (и это я твердо помню), что когда я уже прижался щекой к шероховатой дубовой плахе, я вдруг, словно очнувшись, вспомнил, что позабыл попросить их, чтобы они все-таки сохранили записи моей теории где-нибудь в архивах с тем, чтобы в последствии люди все же смогли воспользоваться ею.
Сон этот очень впечатлил и напугал меня: я, правда, уже знал, что я не гений, но кто его знает, а вдруг так вот нечаянно как-нибудь придет мне в голову такая теория? Я ведь тогда сам себя к стенке поставлю и расстреляю. Право, мне становилось не по себе от таких мыслей.
У меня развился уже особый комплекс – комплекс ответственности. Я был до того сознательным, что взваливал на себя все, что попало, а особенно то, что по своей безответственности не выполняли другие. Я не выдерживал никакого испытания безответственностью. Помню, когда мы всей группой оставались после занятий, чтобы скинуться на подарок преподавательнице к 8-му Марта и выбрать одного кого-нибудь, кто купил бы этот подарок, то после бурных препирательств: «А почему я?! Почему я?!» и попыток всучить друг другу деньги, кто-нибудь понахальнее, наконец, бросал эти деньги на стол и, схватив портфель, бежал к выходу, за ним с беспечным озорством толкаясь в дверях, кидались все остальные, понимая, что кто останется последним, на совести того и будут и брошенные деньги и покупка подарка. Даже если я уходил из класса не последним, я обязательно возвращался навстречу бегущей толпе в пустой уже класс за деньгами. Никто не возвращался, а я возвращался.
20
С деньгами это была не единственная проблема. Я не был скупым, но я был очень упорядоченным человеком и небогатые свои денежные ресурсы всегда точно рассчитывал на весь месяц, устанавливал дневную норму и больше этой нормы никогда не тратил. Поэтому у меня всегда были деньги. Конечно, об этом скоро все узнали, и я приобрел позорную репутацию человека, у которого всегда есть деньги («денежки», как они говорили). Ко мне приставали с унизительными для меня просьбами дать взаймы. При этом некоторые из них, прося в долг, разговаривали со мной, как разговаривают благородные аристократы со скупцом-мещанином. Усвоив эту систему, я пробовал маскироваться тем, что сам стал приставать к однокурсникам с просьбою дать в долг. Если давали, то благодарил, конечно, но в тайне огорчался, потому что появлялась забота хранить чужие, не нужные мне деньги – клал их в отдельный карман и отдавал долг «со стипендии» той же самой бумажкой. Этот прием помогал, но не много. С толку удавалось сбить только самых наивных, прожженные же люди не верили. Очевидно, что-то я все-таки не так делал. За мною по-прежнему сохранялась репутация денежного человека. Конечно, я был не богаче остальных. Просто они могли растратить половину своей стипендии в первые два дня, а на вторую половину бедствовали целый месяц. Меня такая романтика восхищала, но сам я на такое был не способен.
И еще унизительным для меня было, когда в кафе или пивбарах, куда мы иногда заваливались гурьбой, расплачиваться за всех не редко приходилось мне: как-то так получалось, что почти ни у кого не оказывалось денег. Может быть, это была просто игра на то, у кого первого не выдержат нервы, когда официант стоит у столика, и никто не лезет в карман за деньгами. Нервы, естественно, не выдерживали у меня. А может быть, во всем была виновата моя мнительность, и мне казалось в такие минуты, что все знают, что у меня то деньги есть, и ждут, когда я достану свой кошелек. Каждый раз, когда платил я, это роняло меня в моих же глазах. Я не умел так, как они, завидовал им и тоже хотел, чтобы за меня платили, но не для того, чтобы сэкономить деньги, а для того, чтобы самоутвердиться.
Моя упорядоченность давала о себе знать не только в отношении денег, но и в работе (я имею ввиду учебу) тоже. Но если с деньгами я не стал скопидомом, то в работе у меня развилось особого рода накопительство. Поначалу я просто не мог с легкой душой отдыхать, веселиться, если надо мной висела какая-то работа, которую я должен был сделать, мысль о ней отравляла все мое веселье. Поэтому, придя с занятий, я не отдыхал, даже немного, а сразу садился за уроки, чтобы вечером иметь заслуженных и совершенно уже беззаботных часа два. Но потом мне захотелось заработать уже не два часа, а накопить их за всю неделю и иметь для отдыха целый день, потом я стал копить еще и еще. Поэтому теперь я, окончив ежедневную норму, не отдыхал, а насилуя себя, делал будущую работу впрок. Наконец, я изматывался так, что когда приходил заработанный таким образом отдых, у меня уже не было сил ни радоваться ему, ни развлекаться. Да и желаний особых не было – я от них отвыкал. Поэтому просто валялся на кровати и маялся от тоски и страха перед будущей работой. Я понимал, что делаю неправильно, но перебороть себя не мог: все хотелось мне сделать сегодня то, что нужно будет делать завтра.
21
Все это мне не нравилось. Я не мог отделаться от ощущения, что я чужой сам себе человек. А однажды, когда я с неприязнью, хотя и с сочувствием, разглядывал сам себя в зеркале, меня как-будто что-то толкнуло. Я вдруг с удивлением вспомнил, что ведь уже Бог весть с каких пор не занимаюсь больше самоедством, самокопанием. Наступило какое-то душевное равновесие или застой. Потому что исчезла мучившая меня раньше неопределенность, я теперь знал точную цену себе. Я чувствовал себя человеком, который наперед знает, как он проживет всю свою жизнь. И к этому прибавлялось еще чувство обреченности, что мне не свернуть с пути. И мне стало скучно. Внешняя моя жизнь и раньше не отличалась весельем, но внутренне я забавлялся тем, что ковырялся в своей душе. Теперь у меня даже появилась тоска по былым душевным истерикам. Раньше я ими в тайне гордился: думалось, вырастет из этих истерик что-нибудь этакое… Но истерики прошли, а осталась вместо них какая-то пустота – я не видел теперь в себе ничего, достойного внимания. Я понял, что раньше единственно, чем я жил, чем была душа жива – это собою. Теперь я сам был уже не интересен себе. Раньше – худо бедно ли жилось, а все-таки веселее. Теперь же на меня навалилась скука смертная, от которой все вокруг лишалось всякого смысла. Тогда мне приходило в голову, что если и стоит из-за чего-то повеситься, то только из-за скуки.
Но и это мое состояние не отразилось на моей работоспособности. Да, собственно, на ней, насколько я себя знал, ничего не могло отразиться.
Любовь тоже не приносила утешения. «Хоть бы кто разлюбил, что ли. Помучиться бы, по переживать, – мечтал я – Но нет, эти не разлюбят, потому что не любят.»
22
«Что же делать? – спрашивал я сам себя и опять вспоминал старую деву, учительницу английского языка, – Неужели и мне придется прожить всю жизнь в своем доме над пропастью?! Она прожила в нем пятьдесят лет и, кажется, считает, что может уважать себя за такое мужество, за то, что, хотя жизнь ее имела мало смысла, она все-таки не пала духом и вот – живет, работает.» Но меня такой подвиг не привлекал.
После тяжких размышлений я твердо решил, что всему этому нужно положить конец и как-то изменить свою жизнь. Но как? Я не знал. Вначале я решил, что скучно мне стало потому, что я взрослею. Я заметил, что уже не хочу ничем отличаться от других. Раньше, в детстве это тоже было, но касалось только моей внешности и было инстинктивной защитой от насмешек, но я был непоколебимо убежден в своей внутренней несхожести с остальными и всячески пестовал эту несхожесть. Теперь же я не желал именно этой внутренней несхожести, потому что все это уже казалось мне мальчишеством и большим жизненным неудобством. Дело, наверное, обычное, но мне иногда казалось, что я самого себя предаю. Иногда испытывал недовольство тем, что переживаю еще свою молодость, и ловил себя на желании, чтобы молодость поскорее прошла, потому что очень уж она беспокойна. Скорей бы зрелость, чтобы зажить на совсем и «по-всамделишному». Так в иные годы весной, когда дел невпроворот, когда головы не поднять от учебников, почувствуешь в себе весеннее настроение и досадуешь на весну: все равно она тебе ни к чему сейчас – не до нее, только мешает, а потому скорей бы уже прошла, чтобы снова успокоиться, и чтобы ни что уже не отвлекало. Так и с молодостью: «Скорей бы уж,» – с досадой подумаешь иной раз и сам испугаешься таких мыслей.



