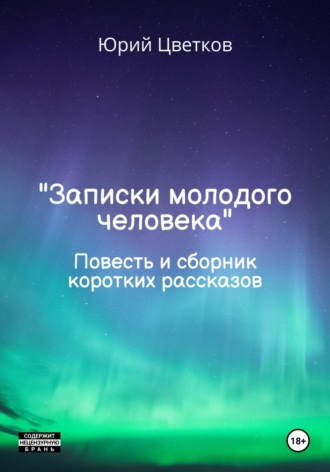
Юрий Цветков
Записки молодого человека. Повесть и сборник коротких рассказов
Мальки
В конце лета в реке подрастают мальки, которые весной вылупились из икринок. Теперь они уже представляют интерес для окуней. Если стоять на берегу и смотреть на водную гладь, то можно увидеть, как вдруг в одном месте ни с того ни с сего выпрыгнет из воды на воздух разом, как по команде, стайка мальков и через секунду также разом падает назад в воду. Объясняется это удивительное явление просто: на стайку мальков под водой налетает наглый разбойник окунь, чтобы сожрать одного из них, а мальки по врожденному своему инстинкту выскакивают на секунду из воды, чтобы атакующий окунь пролетел под ними мимо. И ведь он тупой пролетает.
Кости
Мастер отчитывал своего молодого помощника:
– Вот зачем ты выбрал себе такую худую девчонку?!
– А что?
– Как что – ты костлявый, она костлявая – грохоту будет, как на железной крыше…
Балкон
Был у нас в штате на предприятии инженер-строитель. И вот как он любил рассказывать про себя:
– Когда я был прорабом, строили мы жилые дома-многоэтажки. Один раз поставил я треснутую бетонную плиту, как балконную. И вот с тех пор, как иду мимо – все смотрю, не обвалилась ли. Вот какой я человек – другой бы и думать забыл, а я все переживаю.
Отец
Соседки по подъезду одного дома родили в один год – одна девочку, а вторая – мальчика. Девочка родилась в полной семье – с мамой и папой, а мальчик родился без отца – отец был уже женат на другой женщине и когда мать мальчика сказала ему, что беременна, он, конечно же, ей сказал, что и его жена только что объявила ему о своей беременности, и теперь он не может уйти от нее и бросить в таком положении – «Вот если бы ты забеременела хоть на месяц раньше, то тогда бы, конечно, а так нет, не могу.» Любовница верила и всем рассказывала, что вот он бы женился на ней, но такая досадная ситуация… Поскольку была она уже в зрелом возрасте, то ребенка решила оставить в надежде, что любимый человек, когда увидит, то обязательно полюбит своего сына. Но мужчина после рождения сына все время держал дистанцию, не подпуская к себе мальчика, а потом даже запретил ему называть себя папой, чтоб чего не вышло. Мальчик, когда стал подрастать, очень переживал, что папа не разрешает называть его папой.
Особенно обидно ему было смотреть, как носит на руках соседскую девчонку-сверстницу ее отец. Он даже терся возле ее отца, чтоб тот заметил его и увидел, что он лучше нее и мог бы стать ему очень хорошим сыном, не то что она. Девчонка совершенно не заслуживала иметь такого папу. Он ее ненавидел так, что не мог терпеть. Дело осложнялось еще и тем, что ему пришлось ходить с ней в один детский сад, в одну группу, а потом и в одну школу, да еще и матери их дружили и водили их в гости на дни рождения друг к другу. Ему приходилось изображать детскую дружбу, и тем сильнее становилась скрытая ненависть к ней в его груди. А она, дура, ничего не понимала и по простецки дружила с ним. Матери просто умилялись на их дружбу. Он пытался сорвать свою злобу толчками исподтишка. А однажды, когда они играли в снежки, он слепил снежок с камнем внутри и кинул, метя ей в лицо. Но камень попал ей в лоб и она отделалась только синяком. Все списали это на детское недомыслие и не придали значения. После этого он стал вынашивать планы убить ее. Но годы шли, а замысел не удавался. Он даже делал какие-то приготовления, потом несколько раз примерялся, но решимости и смелости до конца не хватало.
Ненависть его к ней прошла только когда он уже пришел из армии, женился на другой девушке, у него родился сын и он стал своему сыну хорошим отцом, чтобы не было у мальчика такого отца, какой был в детстве у него самого. А вместо ненависти к соседке осталась только неприязнь, которую за редкостью их встреч ему не трудно было скрывать.
Пес
Поехали мы как-то по осени на утиную охоту. Отовсюду слышались выстрелы и к нам прибился чей-то молодой веселый пес. Когда мы стали уезжать, он бежал за нами с таким упорством, что нам пришлось подобрать его и взять к себе в машину. Жили мы в частном доме за городом и места всем хватало. Но однажды наш новый пес в благодарность за нашу доброту радостно принес и проложил нам на крыльцо нашу же курицу, пойманную и задушенную им в нашем загоне для кур. Мы расстроились и от греха подальше решили вывезти глупого молодого хулигана в наш провинциальный городок, где он, как мы думали, мог бы, наверное, найти своих утерянных хозяев.
Но через день приехал из города наш сын-студент, который успел уже в прошлый свой приезд с ним познакомиться и даже привез ему какое-то угощение.
– А где же пес? – спросил он.
Мы сказали, что за провинность отвезли пса в город.
– Не думал я, что вы способны на такое… – сказал нам сын.
Мы всю ночь не спали, а на утро сели в машину и поехали в город. Не надеялись найти, но к нашему удивлению на той же площади, где мы его оставили два дня назад к нам сразу почти подбежал наш пес, радостно виляя хвостом. Мы взяли его к себе и теперь он живет у нас.
А кур не трогает. Совсем.
Записки молодого человека
Повесть
Трагически и нелепо погиб человек, парень двадцати двух лет. Дело было на кабаньей охоте. Кто-то из группы охотников, рассыпавшихся по лесу, неловким выстрелом подранил матерого кабана. Охотники знают, что нет страшнее зверя, чем раненый кабан, Рассвирепевший от боли он кидается на человека, и горе тому охотнику, который промахнется второй раз.
Подраненный кабан на какое-то время исчез из виду, а потом совершенно неожиданно выскочил на просеку метрах в ста от паренька. Один из охотников рассказывал, что все происходило на его глазах. Он стоял в стороне от просеки, парень был ему хорошо виден, а кабан, тараном несшийся по прямой, как стрела просеке на паренька, лишь время от времени мелькал в просветах между деревьями и кустами. Охотнику было неудобно стрелять. Но он все таки выстрелил и промахнулся. Парень же, по его рассказу, неподвижно стоял на просеке и, прицелившись, вел кабана на мушке, подпуская поближе. Охотник был уверен, что он выстрелит. И лишь когда кабан был уже метрах в пятнадцати, почувствовал что-то неладное: слишком уж парень был спокоен и стоял, как будто не целился, а задумался о чем-то. Дальше все было как в кошмарном сне. Парень довел кабана на мушке почти до самых своих ног, но так и не выстрелил. А когда подоспели люди, было уже поздно.
Никто не мог понять, что с ним случилось? Почему он не выстрелил? Первым делом осмотрели ружье. Оно было исправно, курки взведены. Кто-то высказал предположение, что от волнения парень нажимал пальцем не на спусковой крючок, а на скобу вокруг крючка – это бывает даже с опытными охотниками. Но тогда парень, видя, что выстрела нет, должен был бы проявить хоть какие-то признаки беспокойства. По рассказу же очевидца, он даже не шевельнулся до самого последнего момента. Следователь, который вел это дело, написал в заключении «несчастный случай», но по секрету сообщил мне, что подозревает самоубийство. Я сказал, что слишком уж странный способ покончить с собой. Тогда следователь показал мне записки молодого человека, которые якобы объясняли в какой-то степени случившееся.
Вот эти записки.
1
Я как-то задумался, почему у меня – сколько я себя помню с детских лет – никогда не было никаких прихотей?.. Почему я никогда не был глупым, я хочу сказать, глупым ребенком? Я не могу сказать про себя: «Ах, каким глупым я был!» Я всегда был умным. Я всегда был таким, какой я сейчас, я хочу сказать, я всегда думал так, как сейчас. Мне это смешно. И странно. По-моему, все счастье детских лет заключается в безответственности. Я этого не знаю, но это должны знать другие.
Есть люди, которые совсем не думают за себя даже. И есть люди, которые не выносят этого и думают не только за себя, но и за других – вот я и есть такой, и в том все мое несчастье.
В детстве я был серьезным и вдумчивым ребенком. И первыми моими думами были думы о том, что все живущие на свете имеют свои обязанности: и кошки, и собаки, и люди, и дети – все. Я был ребенком, сыном своих родителей, и мои обязанности заключались в том, чтобы быть хорошим ребенком, хорошим сыном своим родителям, не огорчать их, а наоборот, всячески радовать своими положительными качествами.
Но было бы, наверное, еще полбеды, если бы думы мои не шли дальше этих детских обязанностей и забот. Меня же почему-то заносило еще и в обязанности и заботы взрослых, и вскоре я увяз в них по уши. Начиналось все это очень невинно и для взрослых даже забавно. Как-то мама раскрыла пошире белый полотняный мешочек с кусковым сахаром, который стоял у нас в буфете и в который мы обычно, не глядя, запускали руку, чтобы достать пару кусков к чаю, и с недоумением обнаружила, что среди целых кусков там попадалось изрядное уже количество обкусанных половинок. А дело было в том, что однажды я слышал, как мама жаловалась, что «сахару не напасешься». Наверное, именно тогда впервые я обременил свою бедную головушку думой о семейном бюджете, а сердце – сочувствием к своим родителям, поняв, как бьются они, чтобы вырастить нас с братом и прожить самим. И я стал экономить сахар: изгрызу не два, как обычно, а полтора, а то и пол кусочка сахару со стаканом чая и кладу втихомолку оставшуюся половинку обратно в мешочек. Но в следующий раз брал снова целый кусочек, а половинки не трогал, чтобы видней была экономия. Это было для меня чем-то вроде игры. Причем никаких корыстных мыслей у меня тогда не было, я даже не думал о том, что это могут заметить. Когда же все-таки заметили, мне почему-то вдруг стало как-то неловко и даже стыдно, как будто меня поймали на чем-то не то что нехорошем, но не очень красивом. Мне казалось, что именно так это выглядит со стороны, и ожидал, что родители сейчас пристыдят меня, но они почему-то ничего не сказали, только посмеялись между собой, и ощущение неловкости и стыда тотчас исчезло. После этого я уже на их глазах, открыто и даже напоказ тянулся к мешочку и клал туда оставшуюся половинку. Им это казалось забавным. Никто же не знал, чем это грозит для меня и во что выльется.
Но сахар еще что – с деньгами было хуже. Естественно, зарабатывать деньги я тогда не мог, но забота о семейном бюджете прочно засела во мне. Гораздо чаще, чем о сахаре, я слышал жалобы матери на нехватку денег. То их не хватало вообще, то на что-нибудь конкретное. Родители садились за стол рассчитывать, выкраивать, пересчитывать, а я тихонько терся где-нибудь поблизости и впитывал в себя эти расчеты, как губка. А потом, следя за редким появлением новых вещей или даже продуктов в доме, делал свои пересчеты и болел, болел душой за каждую копейку.
В этом я был полной противоположностью своему брату, который был старше меня на два года. Брат и в голову не брал таких мыслей. Если ему хотелось лыжи, он просил лыжи, новое пальто – просил пальто, и не просто просил, а с моей точки зрения, совершенно бессовестно клянчил до тех пор, пока ему не уступали.
Я ничего не просил, хотя мне тоже многого хотелось, но просить не позволяла совесть: меня бы загрызли думы о том, каким тяжелым ударом было бы, к примеру, новое пальто для меня по семейному бюджету. А потом, всякие просьбы были бы, наверное, бессмысленны, ведь мне была уготована участь всех младших братьев – донашивать вещи старших. С годами мама привыкла к тому, что я никогда ничего не прошу купить, и не покупала. Особенно страдал я от этого в старших классах. Мама думала, что такой умненький, серьезный мальчик, как я, не интересуется нарядами, что он выше тряпок. «Он у меня не привередливый, что дашь, то и наденет,» – говорила она соседке. Ох, в какое бешенство вгоняла меня потом эта фраза, но я молчал.
Примерно также, только еще хуже получалось и с карманными деньгами. Брат клянчил деньги, да ему и так давали – на кино, на праздники, а мне не давали. Не давали сначала потому, что рядом с братом я по контрасту всегда оставался «маленьким», в смысле, слишком юным, для того, чтобы иметь карманные деньги. Я рос, но рос и брат, а потому я все ходил в «маленьких». Родители забывали, что брату в моем возрасте уже давно давали деньги. Наконец, стали предлагать и мне. Но не тут-то было! Деньги были нужны, но… я скромно и упорно отказывался от протянутого рубля – брать мне уже не позволяла роль скромника, в которую я влез по уши. А потом я тайком вынимал из кошелька матери или выворачивал из карманов отца по пятнадцать – двадцать копеек и постепенно набирал необходимый рубль. Получалось, что и рубль не взят и деньги у меня есть. Конечно, меня мучила мысль о том, что я поступаю нехорошо, но зато утешала мысль другая, о том, что таким образом я избавляю своих дорогих родителей от неприятности тратить на меня рубль. И что за нелепая была мысль! Наверняка, родители относились к этому не как к неприятности, а как к необходимости. Да я вовсе и не считал своих родителей скупыми, и сам я не был скрягой. Просто это было застарелое, въевшееся желание доставить родителям, намучившимся в прошлом из-за копейки, удовольствие от сознания того, что вот не пришлось тратить рубль, и рубль остался цел, а если я этот рубль возьму незаметно для них, вынимая по пятнадцать – двадцать копеек из кошелька, то они об этом не узнают и никаких неприятных чувств не испытают.
Я заразился от взрослых хозяйственной заботой о будущем, все старался сделать так, чтобы пусть сейчас будет немножко поменьше хорошего, зато немножко хорошего останется на потом. В довершение ко всем своим несчастьям я был еще и добросердечен, прежде всего я думал о других, потом уже о себе. Брат же мой был эгоист, себялюбец и жил сиюминутными удовольствиями – легко и беззаботно. Так вернувшись однажды домой, мы с братом нашли на столе только что принесенный мамой из магазина кусок халвы, и брат тут же принялся уплетать эту халву за обе щеки, а я стоял и ныл около него, уговаривая его только попробовать немножко, если уж так хочется, и не есть больше, потому что, если мы много съедим сейчас, то на ужин, когда все соберутся и захотят попить чаю с халвой, халвы будет уже мало и всем не хватит. Но брат не мог утерпеть, ел халву, отмахивался от меня и еще смеялся надо мной. Не имея на него никакого влияния, я не выдержал этой муки и ушел в другую комнату переживать за халву и все прикидывал, много ли он успеет съесть, пока не придет наконец мама. Потом приходила мама и начинала ругать брата за съеденную халву, но брат довольно таки спокойно переносил эту ругань, а после шел ко мне и в пол голоса дразнил меня и смеялся надо мной. Он думал, что меня удерживала только боязнь ругани.
Бывали, правда, и такие случаи, когда после долгих увещеваний оставить сладости в покое, что, как всегда, не имело на брата никакого действия, я и сам набрасывался на эти сласти, решив, что все-равно он все поест, и будет обидно, что мне ничего не досталось, а брат опять будет смеяться надо мной. И когда мама принималась ругать брата, он ехидно вставлял, что, мол, и я тоже ел вместе с ним. Мама удивленно взглядывала на меня и ругаться переставала. После этого брат не раз пытался втянуть меня в свои проделки, рассчитывая на то, что мое участие спасет его от наказания. Он лазил по ящикам буфета, по кладовке, таскал сухофрукты, конфеты, черпал столовой ложкой варенье из банок и настойчиво угощал меня. Но все же он не делал того, что делал я.
Как-то мне посчастливилось найти на улице двадцать пять рублей. Сколько было радости! Конечно, я отдал их маме. Мама тоже была очень рада и торжественно купила первое в нашей семье шерстяное одеяло. Я хорошо запомнил эту ее радость. После этого я очень хотел еще раз найти на улице деньги. Но они все не находились. Тогда я перестал тратить в школьном буфете мелочь, которую мама давала мне на пирожки, и скоро набрал целый рубль. Я обменял мелочь на рубль одной бумажкой, показал этот рубль брату и сказал, что нашел его и сейчас пойду, отдам маме. Брат тут же стал уговаривать меня маме не говорить, а пойти в чайную и купить там на этот рубль по бутылке лимонаду. Брат очень любил шипучий лимонад. Я был равнодушен к лимонаду, но будучи мягкосердечен и жалостлив, я чисто физически не мог переносить, когда вот кому-то очень хочется и он мучается от этого желания. Это вообще трудно переносить, а тут еще судьба человека зависит от меня. Как сейчас помню, какая борьба раздирала мое мягкое сердце на части, а брат все канючил и клянчил, и уговаривал. Я до сих пор не понимаю, как я тогда устоял. Только еще большее желание порадовать маму помогло мне устоять. Но долго еще потом у меня становилось тоскливо на душе, когда я вспоминал, как брат мучился, а я так и не помог ему. Тем более, что маму мне тогда все равно не удалось порадовать, потому что с рублем вышел конфуз: мама заподозрила что-то неладное в моих находках и дала мне понять это. С тех пор я перестал находить деньги.
Помню, соседка наша – мамина подруга – не признавала за мною достоинств, признаваемых другими взрослыми и мной самим. Я не говорю о похвалах, нет. Совершенно искренне могу сказать, что похвалы я не любил, они были мне даже неприятны почему-то. Все свои положительные поступки я совершал по внутреннему убеждению, как взрослый, сознательный человек, а не как примерный ребенок ради похвалы. Когда взрослые хвалят, это значит, что они не хотят видеть в твоих поступках самостоятельности. Они думают, что ребенок поступил хорошо не сам по себе, а для них, и потому считают себя обязанными вроде как расплатиться с ним похвалой. Эти их похвалы всегда казались мне ханжескими, не искренними. Я видел, что мои хорошие поступки их совершенно не трогали, наоборот, вызывали даже некоторую досаду: «Ах опять этот несносный ребенок сделал добро и нужно его хвалить!» А я не ждал похвалы – я поступал хорошо не потому, что этого хотелось взрослым, но потому, что сам считал это должным, но они приписывали эту заслугу себе.
Что же касается соседки, то дело было не в том, что она меня не хвалила, как другие, а в том, что она не признавала во мне серьезного, сознательного человека. Я считал справедливым и уже давно привык к тому, что, если я и совершал какую-нибудь провинность, то единственным допустимым способом воздействия на меня была спокойная, вразумительная беседа со мной, как с человеком, способным осознать, что верно, а что неверно в его поступках. Она же высмеивала как раз мою серьезность, называя меня кисляем, и то и дело норовила по любому пустяку, а то и просто так, без повода, чтобы лишний раз унизить, сбить с меня спесь, как она говорила, ухватить меня за ухо. Для меня это было неимоверно дико, как было бы дико любому взрослому человеку, если бы его вдруг вздумали при всех оттаскать за ухо. Тем самым она ставила меня на одну доску с обыкновенными неразумными сопляками моего возраста, шалунами, и это бесило меня больше всего.
Она была не одинока в своей неприязни ко мне. Когда я учился в третьем классе, меня невзлюбила учительница, которая вела наш класс. Нужно ли говорить, что ученик я был старательный, прилежный и дисциплинированный. Я скромно и тихо исполнял свою обязанность хорошо учиться, ей же казалось, очевидно, что я выслуживаюсь и жажду ее похвал. Тогда мне и в голову не приходило, а позже я, вспоминая, не переставал удивляться, что ведь она меня ни разу не похвалила, хотя я был один из лучших в классе.
Однако я долго ничего не знал об этой ее неприязни, пока она не проявилась вот при каких обстоятельствах. Как-то на уроке русского языка выяснилось, что почти весь класс не выучил наизусть заданное на дом грамматическое правило. Одного за другим поднимала с места разгневанная учительница, ставила в журнал двойку и, не разрешая садиться – «Постой столбом!» – поднимала следующего. Пол класса уже стояли столбом, остальная половина сидела недвижима и бездыханна от страха, когда очередь дошла до меня. Я не был на предыдущем уроке, не знал, что это правило нужно было выучить наизусть, и мог бы спокойно объяснить все это и остаться цел и невредим. Но тут во мне взыграло какое-то настроение, схожее, наверное, с минутной слабостью уставшего от битв бойца. Мне вдруг захотелось просто так, отдушины ради попользоваться своей репутацией, захотелось признания – пусть косвенного – своих достоинств.
Дело в том, что уже тогда я стал понимать, что груз ответственности – тяжелый груз, который под силу даже не каждому взрослому, что я ношу этот груз наравне со взрослыми и за это привык уважать себя. Так вот, считая себя равным среди взрослых, я считал себя и вправе пользоваться их преимуществами. Я хотел играть в игру, именуемую жизнью, с ними, со взрослыми и по их правилам. Не обделенный наблюдательностью, я знал уже, что взрослые в отношениях друг с другом признают, что не всегда разумно поступать только по правде, что иногда они лгут детям, выгораживая перед ними друг друга. Я думал, что могу рассчитывать на то, чтобы их правила распространялись и на меня. Мне вдруг захотелось получить выражение признания своего равенства со взрослыми. Такое признание мне было нужнее всех похвал. Собственно, только оно одно мне и было нужно.
Я думал, что учительница не станет ставить меня, отличника, на одну доску с обычными разгильдяями, ленивыми учениками, меня, сознательного, прилежного ученика, который ни разу не пришел в школу, не приготовив задания. Я считал ниже себя какие-либо оправдания, я думал, она понимает, что даже мысль о том, чтобы я мог не выучить правило, просто поленившись сделать это, была бы нелепицей или даже оскорблением по отношению ко мне. А потому, встав с места, я не стал ничего объяснять, а смотрел на учительницу умными, говорящими глазами, мол, выручай сестренка. Я думал, что она сейчас подыщет для меня какое-нибудь оправдание или просто замнет это дело со мной и не станет ставить мне двойку, как всем, не оставит стоять на позоре столбом. Но поскольку она молчала и не спешила придти мне на помощь, я, чтобы дать ей какую-нибудь подсказку или повод, стал усиленно морщить лоб и шевелить губами, будто вспоминая забытое правило. Но именно эти шевелящиеся губы и привели учительницу в крайнюю степень ярости. Каково же было мое удивление, когда вместо какой-нибудь успокоительной и утешительной формальности я услышал:
– Кол!!! – всем двойку, а мне кол! Лицо ее исказила открытая ненависть и отвращение. Голос ее вдруг зазвенел с металлическим спокойствием:
– Садитесь. Нечего шевелить губами. И не пытайтесь в следующий раз обмануть учителя!
Я сел в позоре и сраме. Не хотела она принимать меня в свою игру, игру взрослых. И все же две вещи были поразительны: первое то, что она меня посадила все-таки, а не оставила стоять столбом, как других, а второе – она вдруг обратилась ко мне на вы (и это в третьем-то классе!). Очевидно, в ней все-таки заговорило в этот момент подсознательное уважение к той ненависти, которую она испытывала по отношению ко мне – она чувствовала, что такая ненависть достойна только взрослого человека.
И еще один эпизод из отношений с этой учительницей врезался в мою недетскую память. Как-то один из шалунов принес в класс игрушечный пистолет с пистонами и нечаянно выпалил из него прямо на уроке. Пистолет был отобран и заперт в шкаф с учебными пособиями, стоявший тут же в классе. А после перемены этот пистолет исчез, причем его владелец был вне подозрений – на перемене его водили объясняться к директору, а значит, пистолет взял кто-то другой. Это была уже кража.
Весь класс был немедленно собран, пришел завуч и наша учительница. И учителя и ученики – все были сосредоточенно мрачны и подавлены сознанием серьезности случившегося. Завуч авторитетно и грозно стоял почти у самых дверей, словно подчеркивая, что он посторонний в этом опозорившем себя классе. Учительница наша встала у своего стола и нудно повторяла один и тот же вопрос: кто взял пистолет? Она спрашивала это долго, минут двадцать, делая длинные паузы, меняя или переставляя слова в вопросе, но сам вопрос оставался все тот же: кто взял пистолет? Все молчали, уставившись в крышки парт, и только сам владелец пистолета теперь чувствовал себя лучше всех: он ухмылялся, скалил зубы и вертелся во все стороны, оглядывая всех торжествующим взглядом. А для нас пытка становилась невыносимой. И тут учительница, сама уже разомлевшая от бессмысленности этой сцены, чтобы внести в нее какое-то разнообразие, сказала: «Ну, так кто же все-таки из вас взял пистолет? Ведь не могу же я подозревать всех. Вот про… (она назвала вдруг мою фамилию), например, я знаю, что он не мог взять пистолет.» У меня внутри все оборвалось: почему я? Почему про меня? Почему выпятили именно меня? «Ведь правда, – обратилась она ко мне, – ты не брал пистолет?» – и уперлась в меня взглядом, ожидая ответа. Я поднимался из-за парты как в горячечном сне.
Я не брал этот пистолет, но в этот момент я почувствовал себя пойманным за руку вором. Я стоял и молчал. Багровая краска стала медленно заливать мое лицо. Теперь ведь я уже знал, что учительница презирает меня, и потому мне вдруг показалось, я и в самом деле мог украсть этот пистолет. Я стоял красный, как рак, сгорая от стыда, и не мог вымолвить ни слова. Наверняка учительница задала свой вопрос просто так, от скуки и без всякой задней мысли, не имея на мой счет никаких подозрений, теперь же, видя, какой эффект это произвело на меня, она вся встрепенулась, и подалась вперед, в ней зародилось и с каждой секундой крепло подозрение и надежда: а недурно было бы, если бы и в самом деле этот тихоня и пай мальчик оказался воришкой!
«Ну, ведь правда, ты не брал пистолет?!» – напирала она. Но я стоял и молчал. Я почувствовал вдруг, что если я сейчас выдавлю из себя: «Нет, не брал» – то скажу это таким фальшивым голосом, что все сразу поймут, что это ложь, и чем больше я буду стараться, тем лживее у меня получится. Поэтому я все молчал, не произнося ни звука, и стал теперь бледнеть. Мне казалось, что я сейчас начну корчиться от всей это нелепицы, которая никогда не кончится. Но тут уже испугалась сама учительница, видя, что со мной происходит что-то неладное. Она растерялась, умолкла, потом засуетилась у своего стола, не зная, что ей делать, потом догадалась таки посадить меня, я сел и не помню, чем дело кончилось. Но с тех пор со мною сделалось то, что я с поразительной легкостью и правдоподобием говорил неправду и выкручивался, будучи виноватым, и никак не мог убедительно и гладко сказать правду и оправдаться, будучи невиновным.



