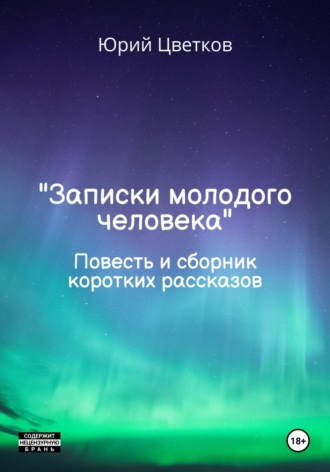
Юрий Цветков
Записки молодого человека. Повесть и сборник коротких рассказов
9
Но в самые трудные, тяжелые минуты судьба предусмотрительно дает нам отдушину, чтобы мы могли каким-нибудь пустяком потешить себя и не утратить окончательно интереса к жизни – мы нужны ей живые.
Такой отдушиной была для меня преподавательница английского языка. При институте создавалась группа для желающих заниматься языком усиленно, и я записался в нее. В группе было семь человек, и встречались мы почти каждый день, так что контакт с преподавателем был очень тесным. Преподавательницей у нас была молодая – лет двадцати восьми – женщина. Это был очень интересный – для меня во всяком случае – и немного загадочный человек. Она почти ничего о себе не говорила, и нам оставалось только догадываться о том, кто она и чем вообще занимается. Никакой группы, кроме нашей, она не вела и, как мы подозревали, нигде больше не работала. Получалось, что мы у нее были чем-то вроде хобби. Это означало, что у нее оставалась еще масса свободного времени. Вопрос: чем она занималась в это время? Приходя к нам на урок, она постоянно опаздывала, а уходя – куда-то торопилась. Ходили слухи, что она якобы играет в каком-то народном театре, кто-то из нас заметил, что кончики пальцев ее рук как бы приплюснуты, что якобы говорит о постоянных упражнениях на пианино; некоторые реплики ее заставляли думать, что она работает над диссертацией по педагогике. Странно было и то, что она при очень интересной внешности в свои двадцать восемь лет была не замужем, хотя и это мы не брались утверждать с полной уверенностью. Педагог она была как-будто прирожденный, потому что опыта до нас у нее не было никакого. Кстати сказать, поработав с нами один год, она исчезла куда-то насовсем, ходили слухи, что она занялась художественным переводом. Создавалось впечатление, что на нас она просто хотела попробовать свои педагогические способности. Она относилась к нам не так, как обычно относятся к работе, пусть даже самой любимой – слишком уж много она вкладывала личного в это дело, относясь к нему с одной стороны легко, но вместе с тем и слишком внимательно, уделяя много внимания чисто человеческим отношениям с нами.
Но она нисколько не походила на мою любимую учительницу школьных лет. Она была очень бережна и осторожна с людьми, как-то слишком бережна и слишком осторожна. А это очень верный признак! Быть настолько бережным с другими может только человек, сам и на себе испытавший боль обиды, унижения или самоуничижения. Мне казалось, что и она не очень-то в ладах с собой, и что у нее где-то есть слабое место, только вот где, я никак не мог отыскать, но я чувствовал это по какой-то ее настороженности, когда речь каким-либо образом касалась ее самое. Мне казалось, что мы были похожи, но только она была спокойнее и жизнерадостнее меня. Я же был мрачный, подавленный и до истеричности (в душе своей) задерганный.
Она отнеслась ко мне очень внимательно, и я, чувствуя это внимание, шел к ней, как к целителю. Я нес к ней – как несут показать врачу болячку – свою озлобленность на всех и на себя (что вначале проявлялось большей частью в элементарной грубости с моей стороны, пока я не научился более или менее контролировать себя), свой позор предполагаемой бездарности и свое отчаяние и страх оказаться заурядным. Я демонстрировал ей все это не из желания быть утешенным ею, вовсе нет. Я просто видел в ней человека, способного понять и оценить мое ничтожество. Я ожидал увидеть на лице ее презрение, чтобы утвердиться в своем мнении о себе (я все-таки шел к ней не с уверенностью, а с сомнением, с вопросом) и упиться сладостью полного отчаяния – полного, потому что пока есть сомнение, а значит и надежда, нужно опять и опять бороться и изо всех сил цепляться за эту надежду. То ли дело, когда уже никаких надежд! Все! Можно бросить весла, махнуть на себя рукой и садиться спокойно отдыхать наконец. Могу даже сказать, что я, устав, издергавшись, уже просто жаждал увидеть ее презрение, как долгожданный сигнал к сдаче, а значит – и к отдыху. Но сигнала не последовало.
Она была очень терпелива со мной. Я был груб, она просто и не обидно объясняла, что с женщинами нужно быть вежливым; дело сразу меняло оборот – с моей грубости слетал туман романтизма. Я видел – придется быть вежливым. Скучно, конечно, и нет выхода распиравшему меня раздражению, но ничего не поделаешь, придется сдерживаться, раз так ставится вопрос: с преподавателем можно быть грубым (старая школьная привычка, считавшаяся шиком) – с женщиной нет. Я раздувал малейшую свою оплошность: стоило мне сказать на уроке что-нибудь не очень умное, и я закусывал удила, придуривался весь урок. Стоило мне чуть задержаться с ответом, когда нужно было быстро придумать предложение, и оказывался медлительнее своих товарищей, как я уже не мог придумать этого предложения и за целый урок. Тут уж бесполезно было смотреть мне в рот и уговаривать меня – я делал бессмысленные глаза и упрямо гнал из головы все мысли кроме одной – о том, какой я тупой. Но преподавательница искусно обходила эти подводные камни, старалась не заметить или не придать значения, чтобы не распалять меня. И напротив, выделяла всякий мой успех, пытаясь заставить меня поверить в собственный ум, причем действовала не похвалой, а лестью, поставив все на почву личного своего отношения ко мне, как к человеку, а не как к студенту.
Застаревшей моей болячкой было прилежание в учебе – это было уже на уровне инстинкта, я делал все, что задавали по английскому, чего не делал никто другой в нашей группе. Дома я был кротким, прилежным и смиренным тружеником, а неся в портфеле тетрадки с выполненными заданиями, я уже стыдился этих тетрадок, нес их как свой позор, и старался как можно дольше не доставать их из портфеля, зная уже, что один вид этих тетрадок вызовет ухмылки на лицах моих товарищей по группе. И в классе я становился бунтарем – бунтарил сам перед собой против своей же усидчивости и добросовестности, всячески выпячивал, что я зубрила, раздувал свой позор и совал его в глаза преподавательнице. Но она не желала замечать и понимать этого. Если ей и приходилось отмечать мое усердие, то она говорила об огромной работоспособности, силе воли и уважении к преподавателю. Чтобы залечить мое уязвленное самолюбие, видя, как я сам принижаю себя, она выделяла меня из всех в группе, но не как ученика, а как человека. Она восхищалась мною как человек человеком, как товарищ товарищем. А именно этого мне всегда не доставало.
Мало помалу я отогревался около нее, начинал видеть себя ее глазами и представлялся себе уже человеком, действительно, незаурядной воли и редкой работоспособности, очень самокритичного и требовательного к себе. Она в слух при всех удивлялась и не могла понять, как это в одном человеке могли собраться такие противоречивые качества: как это я могу быть таким жестоким по отношению к самому себе и таким мягким по отношению к другим, почему себя я могу заставить сделать что угодно, а кого-нибудь другого не могу даже попросить подвинуться на парте, чтобы удобнее сесть самому? Как это при таких несомненных достоинствах я могу себя так уничижать?
Я подумал, что вот наконец-то судьба послала мне человека, который меня понимает. Понимает мою душу. Наконец-то кончилось мое одиночество! Да, конечно, у меня был друг и даже очень близкий, но он знал про меня не все. Самая больная, самая сокровенная часть моей души была ему неизвестна. У нас было много общего, но только не это. Он был человеком очень самодовольным и не понял бы моих страданий. Поэтому я никогда с ним об этом не говорил – со здоровыми не говорят о болезнях. И вот теперь я встретил человека, который способен меня понять. Меня охватило желание обнажить перед нею всю свою душу, все до самых темных уголков. Как женщина без стеснения обнажает свое тело перед женщиной, так и я обнажал перед нею свою душу, думая почему-то, что и ей самой все это хорошо знакомо. Я показывал ей свою тоску, ипохондрию, свою издерганность и остатки душевной истеричности, свое безразличие и отсутствие интереса к тому, что занимало нормальных обычных людей. Я хотел показать ей все это и спросить, разве может человек жить с такими противоречиями? Я хотел, чтобы она, увидев всю бездну, всю боль моей души, тоже ужаснулась и… позавидовала, как знаток знатоку, как профессионал профессионалу.
Я разыгрывал перед нею настроения: то меланхоличное, когда я целыми уроками сидел словно в прострации, ни на что не реагируя, то раздраженно-мрачное или озлобленное и бесшабашное, когда сам черт мне не брат, и когда мой пылающий, пронзительный взгляд говорит о том, что лучше меня не трогать. Иногда эти настроения были искренними, иногда наигранными, но я был вдохновенный актер. Если я разыгрывал печальное, отчужденное настроение, я и в самом деле чувствовал, как к сердцу подступает и гложет меня тоска, и лишь где-то очень глубоко, на заднем плане мелькает безотчетная почти мысль, что я могу, если захочу, прогнать эту тоску. Боже, какое это упоение! Это был мой мир, моя стихия. Я мог у нее на уроках жить самыми сокровенными уголками моей души, не в загоне одиночества, не в тайне, а открыто, встречая живое сочувствие. Это была тонкая игра для нас двоих, только мы ее замечали и понимали друг в друге, остальные были слепы и глухи к ней. Вся моя жизнь сосредоточилась на этих уроках. Весь день до урока я обдумывал, планировал свое поведение, свою роль, настроение на предстоящий урок, причем иногда я позволял себе плагиат и использовал приемы оригинальничания своего друга школьных лет, ведь здесь не было никого, кто знал бы, что это приемы не мои. Урок был восторг и упоение, урок был сама жизнь, хотя очень часто я сидел унылый и потерянный, подавленный, но это и была жизнь, ведь на других занятиях, у других преподавателей я не мог позволить себе никакого настроения, даже искреннего, потому что другие преподаватели просто не понимали всего этого, и я вынужден был всегда быть уравновешенным и работоспособным. После урока я жил впечатлениями пережитого на уроке. Всего остального я не замечал, делал, хотя и с обычной прилежностью, но чисто механически. Когда голова работала, сердце молчало. Лишь когда мысли мои, улучив свободную минуту, возвращались к тому уроку, сердце в ответ начинало гулко биться, и меня как волной обдавало жаром.
Учительница моя была очень терпелива ко всем моим выходкам и настроениям. Она смотрела на меня своими огромными серыми глазами, и я находил в них желаемое – понимание, сочувствие и даже как-будто изумление, что было самым сладким. Я думал о том, как мы похожи, о родстве наших душ и считал, что мы с нею друзья. На правах друга я даже допускал иногда небольшие фамильярности в общении с нею. Она безропотно сносила и это. Лишь иногда в глазах ее мелькало неожиданное, как молния, и холодное равнодушие, а едва уловимое движение губ, когда она отворачивалась от меня к другому студенту, напоминало чем-то жест, который делают, когда отмахиваются от надоевшей мухи. Это говорило, наверное, о том я переигрывал, а она начинала уставать от всех этих моих настроений.
И все-таки все было прекрасно до самого последнего дня – дня нашего расставания. Она рассталась с нами вообще – тепло, сказала, что будет скучать по нашей группе, и я отнес это в основном на свой счет, и когда полчаса спустя «случайно» (я, конечно, подкарауливал ее) мы встретились с ней в коридоре, я надеялся, что сейчас, наедине у нас будет больше возможности, чтобы излить наконец, пусть намеками, но более полно свои чувства друг к другу и горечь расставания. Но она рассталась со мной неожиданно сдержанно, как не расстаются с друзьями.
Я вдруг подумал, что вот так, наверное, расстаются с людьми, которых по каким-либо причинам долго приходилось терпеть, но вот, наконец, последний момент освобождения, когда прощаешься, рвешь с ними все и навсегда, и тут уже не оказывается сил на самый последний момент или просто не находят нужным сдерживаться, скрываться и дальше, и именно этот последний момент выдает их и портит все впечатление от прошедшего. В груди моей загорелось страшное подозрение, что никакой такой дружбы и не было, никакого восхищения, изумления не было, а все это был лишь педагогический прием, эксперимент очень талантливого педагога, проведенный с большим мастерством, психологической тонкостью и, главное, с большим терпением. Значит, она просто терпела меня, все мои выходки – профессиональный педагог не может дать волю симпатиям и антипатиям, нужно терпеть. И вот эксперимент – вылечить больную душу ребенка, сделать из ипохондрика человека. Она лишь поддакивала мне, когда я всеми своими выходками искал в ее глазах признания исключительности своей мятущейся натуры, терпела и поддакивала, а я, самодовольный осел, верил.
Может, все это было и не так, может, это было лишь подозрение, плод моей необузданной фантазии, но мне нравилась почему-то сама мысль, и я, не отталкивая, развивал ее. Обида, порожденная подозрением, была жгучей, но не катастрофической: уроки моей учительницы не прошли даром. Я все-таки очень многому успел научиться у нее: приобрел определенную уверенность в себе, главное же, чему она меня научила – это меньше переживать по поводу своих недостатков. Раньше я по каждому пустяку закатывал у себя в душе истерику, теперь мне начинала казаться смехотворной эта неумеренность. Я стал с большим достоинством (хотя и не с меньшей самокритичностью) встречать такие приступы.
Не смотря на такую концовку в наших отношениях, я все же был очень благодарен ей – она поддержала меня в самую трудную пору моей институтской жизни. Не знаю, каким бы беспросветным мраком покрылось мое существование в институте в тот первый год, и что бы вообще со мной тогда стало, если бы мое внимание не отвлеклось на нее, на ее уроки. Она, можно сказать, поставила меня на ноги. Я понимал, что теперь, когда я лишился своей единственной радости и отдушины – общения с нею – жизнь моя станет намного тоскливее, но я чувствовал теперь в себе достаточно силы и уверенности, чтобы вынести эту тоску. Я готовился морально к встрече с новой одинокой жизнью и, понимая, что теперь уже некому будет возиться с моею «тонкой» душой, некому будет даже показывать ее, прятал эту душу, старался не давать ей воли, чтобы было поменьше хлопот с нею.
10
Впрочем большой беды не было в том, что я остался один. К тому времени меня начало всерьез волновать, а точнее – беспокоить другое. И история моя была бы не совсем понятной, если бы этот момент был опущен.
Я уже говорил, что воспринимал себя, как человека глубоко положительного. Делать добро было моей внутренней потребностью, не только осознанной, но, главное, прочувствованной на моей собственной шкуре. В этом было уже что-то физиологическое, против чего я был совершенно бессилен. Жестоко и часто битая собака не может видеть, как на ее глазах бьют другую собаку – ей больно самой и она скулит от этой боли. Я это видел в жизни. Так и я, на себе испытав, что такое душевная боль, я уже почти физически не мог выносить, когда больно было другому. Поэтому я был очень бережен с людьми.
Помню случай с яблочным повидло, которое варила нам мама. Мама очень ревниво относилась к своей стряпне и всегда спрашивала: «Ну, что, как? Что молчите, не хвалите?» Я всегда бодрым голосом хвалил, стараясь каждый раз выдумывать новые комплименты, чтобы мама не заподозрила фальши. Брат же мой старший, черствый человек, был очень разборчив в еде и всегда находил, к чему придраться. Не только обычные повседневные блюда, но и праздничные пирожки и ватрушки он никогда не оставлял без замечания, вроде: «Недосолено. Пережарено малость.» Мама мрачнела при этом и, поджимая губы, говорила: «Ну, что еще?», и настроение ее явно портилось. Брату все это было как с гуся вода, я же не мог вынести такого бессердечия и даже пытался проводить с ним разъяснительную работу – без всякого эффекта, конечно.
Так вот, мама много варила впрок всяких варений и компотов, которые, в общем-то, всегда имели успех. Банка вынималась из погреба, торжественно ставилась на стол и уже не убиралась оттуда, пока ее не опустошали. Если варенье было особенно удачным, то к этой банке прикладывались не только когда садились пить чай, но и в неурочное время – подходили, мазали на хлеб или просто черпали ложкой, и потому, с какой скоростью пустела банка, можно было судить об успехе варенья. Так вот однажды мама задумала эксперимент – сварить из яблок не варенье, а домашнее повидло и была горда очень своим изобретением. Однако повидло, к несчастью получилось неудачным – приторным и безвкусным, а потому все семейство весьма равнодушно отнеслось к банке, стоявшей на столе: время шло, а в банке все никак не убавлялось. Я боялся, что мама опять будет переживать эту свою неудачу, и хотя мне повидло тоже не нравилось, я заставлял себя при ней намазывать его на хлеб толстым слоем, а когда на кухне никого не было, я, воровато оглянувшись, чтобы мама не заметила, что все повидло ем я один, подходил к банке, черпал из нее повидло большой столовой ложкой, запихивал в рот, давясь, глотал это повидло и смотрел, много ли в банке убавилось? Но оно никак не убавлялось, а больше в меня уже не лезло. Тогда мне вдруг пришла в голову мысль: «А зачем есть, когда можно просто выкидывать понемногу?!» С этого времени я регулярно проделывал следующую операцию: брал кусок газеты, накладывал на него несколько ложек повидло, аккуратно заворачивал все это и заносил куда-нибудь подальше. Повидло было наварено сразу много, и когда одна банка опустела, ее тут же сменила другая, полная. На следующий сезон повидло опять было сварено, правда уже не в таком огромном количестве, и я удивился, что на ворчание брата: «Зачем опять наварили этой бурды?» – мама в этот раз ничего не ответила и как-то по особенному промолчала. В последствии выяснилось, что она заметила неуспех повидло, ей и самой оно не понравилось, и она рада была бы не варить его больше совсем, но, увидев, что я всерьез увлекся им, она не смогла оставить любимого сына без любимого лакомства и наварила его специально для одного меня.
Надо сказать, что доброты этой своей я не любил и не потому, что она означала какие-то невыгоды для меня самого, а потому, что видел в ней что-то такое же постыдное, как и в ежедневно, с неизбежной тщательностью и прилежанием приготовляемых домашних заданиях. Было в ней что-то малокровное, монашеское, и я стыдился этой доброты и презирал себя за нее, потому что моим идеалом была дерзость, хватающая жизнь обеими руками, смеющаяся над хилыми и слабыми, не имеющими даже желания хватить жизнь полной грудью, упиться ею. Получалось, что именно я, жизнелюб, не брал этой жизни, а раздавал, и даже не раздавал (это бы еще ничего), а уступал ее другим.
Все это казалось мне весьма гнусным и пошлым, тем более, что преодолеть себя я никак не мог. Я мечтал быть злодеем (мне всегда нравились злодеи), а был доброхотом. Собственно, я стал бы злодеем, но все места злодеев в жизни был уже заняты, и я был доброхотом поневоле.
11
Взять даже мои отношения с женщинами… Но это особая история и требует более подробного изложения. Влюбился я в первый раз в десятом, последнем тогда классе в одноклассницу и любил ее весь десятый класс вплоть до выпускного экзамена по химии. Не стану подробно описывать предмет моей первой любви, была она, как полагается, очень мила, тиха и наивна сверх меры.
Первая любовь не заботится о взаимности, она одинока. Я и думать не знал о том, чтобы добиваться взаимности. Я не сделал ни одного шага, ни одного движения к ней. Весь этот год прошел как бы в прислушивании к себе самому. Чувство, вошедшее в меня, в мою душу, поразило меня и повергло в изумление и растерянность. Я привык к тому, что у себя в душе я – единственный жилец. Конечно, у меня был друг, но был угол в душе, куда он не заходил. В этом углу был только я один и я скептически думал о возможности проникновения сюда кого-нибудь постороннего, чем отчасти был горд. Даже на своего друга я смотрел через призму этого своего я и уж во всяком случае никогда не поступился бы им ради нашей дружбы. Так ради гостей можно пожертвовать покоем здорового ребенка, но покоем больного – нет. И вот вдруг в мою душу входит и теснит меня там какая-то посторонняя девчонка, которую я, в общем-то, совсем не знаю – мне это было также дико, как если бы в утробе матери ко мне вдруг подселили другого ребенка. И все же я не знал ничего, чем бы я не поступился тогда ради нее. Все остальное против нее теряло цену.
Никогда мне не забыть ночей, когда я, лежа в кровати с открытыми глазами, глядя в потолок, думал о ней. И эти мысли, переходившие потом уже в какие-то немые, бессловесные чувства, теснившиеся в моей груди, доводили меня до исступления, когда я готов был рыдать от безысходной, разросшейся до гигантских непереносимых размеров нежности к ней. Ощущение было настолько сильным, что это сделалось уже моим ежедневным ритуалом: весь день я тешил себя мыслью, сознанием того, что в конце дня, перед тем, как заснуть, я смогу думать о ней минут двадцать – тридцать. Я даже старался поменьше думать о ней днем, чтобы не распылять удовольствие; а спать я укладывался со сладостной, волнующей и немного пугающей мыслью, что вот сейчас уже я буду думать о ней. И в такие минуты я переставал быть собою, мое Я исчезало, была только она одна, и я не знал ничего, на что бы я не был готов ради нее. И как закоренелый самоед, который привык пестовать, нянчить только самого себя и которому до других, в сущности, уже нет дела, я не без иронии спрашивал себя: «А как же ты, мой старый друг? Принесешь себя в жертву? Откажешься от себя ради нее?»
Все это было мне очень странно. Но тем не менее, не смотря ни на что, я был счастлив тем, что люблю и не предпринимал никаких усилий (да и мыслей таких не было), чтобы скрывать или открыть свою любовь, хотя бессознательно меня тянуло к ней, хотелось быть ближе.
Она ходила в школу почти что мимо моего дома, во всяком случае на каком-то отрезке наши пути совпадали, и я стал практиковать «случайные» встречи на этой дороге: мы встречались и до школы шли вместе, дружески и непринужденно болтая, как одноклассники, не больше – мне достаточно было своих эмоций. Помню однажды, едва я вышел из дому, пошел дождь, возвращаться за плащом я не стал, потому что было уже время для нее проходить мимо моего переулка, и я боялся пропустить ее. Поэтому, не смотря на дождь, я вышел на перекресток, но ее еще не было. Я медленно пошел к школе, надеясь, что сейчас она догонит меня – и так часто бывало – но она все не шла. На урок я опоздал и вошел в класс весь мокрый. В классе ее тоже не было. Но прошло несколько минут, дверь отворилась, и вошла она, запыхавшаяся, прямо в тонком плаще с надвинутым на голову мокрым капюшоном. Естественно, весь класс повернул головы к ней, я тоже, но какое-то шестое чувство предостерегло меня от насмешки: учительница, заметившая мою симпатию – она несколько раз видела нас, когда мы вместе шли в школу – теперь перевела свой взгляд с мокрой девочки у двери на мокрого меня и стала смотреть на меня этаким понимающим улыбчивым взглядом, каким взрослые смотрят на влюбленных детей, желая насладиться их смущением. Но я мгновенно оценил ситуацию, и как ни хотелось мне посмотреть на милое, мокрое личико, все же усилием воли перевел свой взгляд на учительницу. Весь класс смотрел на девочку, а мы с учительницей смотрели друг на друга, и я победил в этой дуэли глаз. Я смотрел на нее не смущенно, как она ожидала, а смело и открыто. Взглядом я сказал ей, что признаю свою любовь и не скрываю ее. Что у меня настоящая человеческая любовь со всеми ее трагедиями, а не детская. И учительница, надо сказать, была смущена таким отпором, первой отвела взгляд и уткнулась в свой журнал.
Мне казалось, что и все в классе, не говоря уже о самой девочке, заметили мою любовь, зная даже по себе, что, если в тебя влюбятся, то это невозможно не заметить. Каково же было мое изумление, когда несколько лет спустя, эта девочка сказала мне, что ничего и не подозревала о моей любви к ней. А все потому, что у меня и мысли не было, включать ее в игру. Я почему-то по-прежнему смотрел на нее, как на постороннюю в моих чувствах: мои чувства к ней имели значение только для одного меня, а она сама была здесь как будто и ни причем. Любовь моя жила глубоко внутри, и ни один ключик не пробивался наружу. Наверное, именно по этому любовь моя, так и не показавшись на белый свет, сделалась потом отвергнутой и окрасилась горечью ревности: в мае я заметил, что на уроках девочка стала засматриваться на моего друга глазами, полными, если не восхищения и любви, то, по крайней мере, самого живого интереса. Каково же мне было видеть эти взгляды! Я сидел как раз позади них обоих, и мне было все очень хорошо видно. Я старался не смотреть, но не мог. Ничего, правда, между ними не было, однако я был оскорблен до глубины души. Я понимал, что виной всему я сам, что если б я открылся, то вполне возможно, что она тоже влюбилась бы в меня, а так, конечно, она была свободна и могла влюбляться в кого угодно.
Но все это мало что меняло в состоянии дел. А вскоре я и сам избавился от своих чувств. Было это в день выпускного экзамена по химии. Все мы переволновались, и я тоже в смешанных чувствах вышел из дверей химкабинета после только что сданного экзамена и тут же увидел ее: она только еще подходила к этим самым дверям. У нее была очень нравившаяся мне привычка закрывать рот маленькой красивой ладошкой, когда она смеялась. Как раз в этот момент она улыбнулась и не прикрыла от волнения, наверное, по обыкновению рот ладошкой, верхняя губка ее приподнялась и открыла небольшой промежуток между передними зубами (что, как я в последствии где-то вычитал, говорит обычно о хорошем темпераменте у женщины). Но тогда я этого не знал и, вообще, не очень ясно отдавал себе отчет в своих мыслях и ощущениях. Я понял только, что почувствовал себя в тот же момент вдруг очень легким и свободным, и только потом я осознал, что внезапно разлюбил ее. Какого пустяка, право, достаточно было! Наверное, потому, что первая любовь мыслит только глупыми идеалами.
Однако вы ошибаетесь, если думаете, что этим дело и кончилось. Отнюдь! Любовь к той девочке перестала меня мучить, но осталась память об этой любви. И память была, наверное, мучительнее самой любви. Теперь я страдал по утерянной любви, а память о ней преследовала меня везде и всюду, и терзала и требовала опять любви, пусть той же, пусть другой, но такой же сильной и сладкой. И надо сказать, что эта первая любовь, память о ней отравили, а точнее сказать, испортили мне всю мою дальнейшую жизнь в смысле моих отношений с женщинами, потому что ко всем моим последующим симпатиям я подходил с меркой этой любви.



