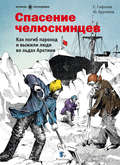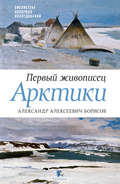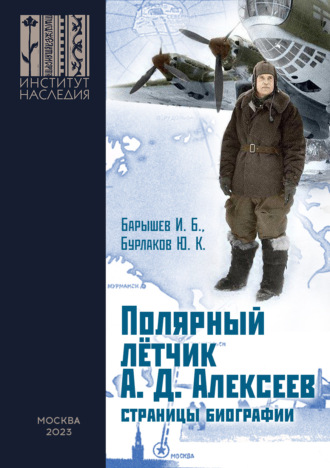
Ю. К. Бурлаков
Полярный лётчик А. Д. Алексеев. Страницы биографии
Вечером 18 апреля машины поднялись и взяли курс на о. Рудольфа (илл. 47). Папанинская четвёрка в этот раз шла на самолёте А. Д. Алексеева. Летели в сложных погодных условиях. Машина Алексеева опять отстала на 20 км, и основная группа сбавила обороты. На исходе первого часа полёта, вспоминал член экипажа Я. Д. Мошковский, второй пилот Козлов замечает три точки на горизонте: «“Самолёты! – взволнованно кричит Козлов”. Все повеселели, Алексеев прибавил обороты моторам. Начинаем догонять ушедшие вперёд корабли. По “Лучу” связываемся с флагманом. Передаем просьбу уменьшить скорость эскадры, чтобы дать нам возможность пристроиться и пойти вместе. В 22 часа 7 минут догнали самолёты и пошли строем по установленному порядку: слева от флагмана Молоков, справа – Мазурук и Алексеев» (Мошковский, 1938. С. 79; Водопьянов, 1939. С. 242, 243).

Илл. 47. Пилот А. Д. Алексеев за штурвалом самолёта «СССР Н-172». Кадр из документального фильма М. А. Трояновского «На Северном полюсе». 1937 г.

Только в ночь на 19 апреля эскадра прибыла на о. Рудольфа (илл. 48, 49).
Об условиях жизни на о. Рудольфа Анатолий Дмитриевич вспоминал: «Наше размещение на Рудольфа скученное, хотя я знаю и большую скученность на зимовках. Чистотой наше помещение не блещет. Есть основание ожидать значительного распространения паразитов в будущем. Но стол превосходен, как нигде. Часто даже не выдерживаешь норм обыкновенной умеренной пищи.
<…> Кроме станционных помещений есть ещё в 1–1,4 км старая зимовка рядом с историческими руинами зимовок герцога Абруццкого, Фиала, Циглера» (РГАЭ. Ф. 1147).

Илл. 48. Полярная станция «Остров Рудольфа» – база авиагруппы экспедиции к Северному полюсу. На заднем плане ледяной купол, на котором располагался в 1937 г. аэродром. Вид с вертолёта. Фото П. В. Боярского. МАКЭ, 2007 г.
Илл. 49. Экспедиция 1937 г. На о. Рудольфа.
Перевозка самолета Н-172. Из домашнего архива Д. А. Алексеева
Опять проблема плохой погоды – слишком мало было синоптических материалов для составления реальных карт погоды. Тем не менее 5 мая пилот П. Г. Головин на Р-6 не только выполнил разведывательный полёт в сторону полюса, но и первым из советских авиаторов достиг этой самой заветной географической точки.
Из-за критического положения с бензином Головин не стал делать попыток сесть на полюсе, но он установил, что в том районе тянутся огромные ледяные поля, пригодные для посадки тяжёлых самолётов.
7 мая Шмидт созвал совещание командиров для обсуждения конкретного плана штурма Северного полюса. На совещании в числе других выступил и Алексеев: «Самое существенное нам ещё неясно: можно ли садиться на полюсе? Правда, Головин видел много полей, годных для посадки, но Амундсен, например, уверяет в своих трудах, что на полюсе сесть нельзя. Мы должны оставить на прежнем уровне всю нашу настороженность, граничащую с подозрительностью. При посадке самолёта, будь то разведчик или тяжёлый корабль, основную роль в операции будет играть радиосвязь. Самую надежную радиосвязь с землёй может обеспечить только тяжёлый корабль. Посему, если посылать кого-нибудь, то следует отправить в путь флагмана» (Бронтман, 1938. С. 94, 96).
Через две недели флагманский самолёт Водопьянова, на борту которого находилась четвёрка папанинцев, О. Ю. Шмидт и кинооператор, вылетел с о. Рудольфа на Северный полюс. Через 6,5 часов, 21 мая он произвёл посадку на льдине в 20 км за полюсом. Экипаж с четвёркой папанинцев быстро оборудовали лагерь и, хотя и с задержкой, установили радиосвязь с о. Рудольфа. Папанин в своём дневнике писал в этот день: «Льдина вполне пригодна для организации научной станции. Тут можно сделать отличный аэродром и принять самолёты Молокова, Мазу рука и Алексеева» (Папанин, 1977. С. 26).
Остальные три самолёта АНТ-6, вылетевшие к полюсу 25 мая под общим руководством М. И. Шевелёва, не смогли точно выйти на цель – сказалось слабое приборное оснащение и несовершенство методов навигации. Только В. С. Молоков, пройдя точку полюса, повернул по нужному меридиану и вскоре обнаружил лагерь Шмидта.
А. Д. Алексееву, испытавшему затруднения, порекомендовали по радио сесть на подходящую льдину, определить координаты и затем перелететь в лагерь (илл. 50). Шевелев сообщал: «Тов. Алексеев сообщил, что во время перелёта с острова Рудольфа на Северный полюс он шёл по правильному курсу от полюса на лагерь, но решил сесть, чтобы точнее определиться во избежание излишнего расхода горючего на поиски лагеря» (Восточно-Сибирская правда, 1937, № 124).

Илл. 50. Полёт к Северному полюсу. Снимок с самолёта
А. Д. Алексеева (Н-172). Из домашнего архива Д. А. Алексеева
Самолёт «приледнился» примерно в 7 км от полюса. Шевелёв докладывал по радио в Москву: «Алексеев сел на место, где зимовка находилась третьего дня. Широта 89°50’, долгота 58°30’» (Бергавинов, 1937. С. 37). Алексеев сел «столь спокойно и расчётливо, точно садился на центральном аэродроме в Москве. Николай Михайлович Жуков неторопливо и внимательно определился, и затем кликнул по радио Стромилова. Тот откликнулся. Жуков сообщил лагерю, что у них всё в порядке и начата расчистка аэродрома для взлёта. Как только она будет закончена, самолёт Алексеева вылетит на соединение с эскадрой. (Забегая вперёд, следует указать, что Алексеев сел ближе всех к полюсу. Первое определение Жукова показало, что они находились от геометрической точки полюса всего в девяти милях к западу. Последующая сверка секстанта Жукова с точным теодолитом Федорова выяснила, что секстант ошибается на четыре минуты (минута равна миле), притом, как раз к западу. Таким образом, Алексеев сел всего в пяти милях от геометрической точки Северного полюса.) Стромилов ведёт регулярную связь с Жуковым. Штурман алексеевского самолёта информирует о плохой погоде; как только она улучшится, они вылетят к нам. Днём ветер стих, в облаках появились разрывы, потеплело (минус 8 градусов). Алексеев сообщил, что готовится лететь, мы настороженно ждали.
Механики разметили флажками аэродром, Орлов и Бассейн выложили из спальных мешков посадочное “Т”. В четыре часа дня все увидели летящий самолёт. Он шёл значительно правее нас, затем, услышав радиоокрик, повернул. Вот корабль уже над лагерем. Осторожный Алексеев сделал несколько кругов, внимательно осматривая аэродром, и только после этого зашёл на посадку. Сел отлично. Мы обняли товарищей. Сейчас в советском лагере на Северном полюсе уже двадцать девять человек. Население растёт необычными темпами. За два дня – прирост около ста тридцати процентов! Наскоро расцеловавшись с друзьями, Жуков надел лыжи и обошёл льдину. Вернувшись, он удовлетворенно заметил:
– Наша льдина лучше вашей, ровнее. – И вежливо добавил: – зато ваша прочнее.
Летели они до нас всего 23 минуты. Пробыли на своей льдине 33 часа» (Бронтман, 1938. С. 128, 129, 134).
Специальный корреспондент «Известий» Эзра Самойлович Виленский (1902–1944) так описывал 33 часа, проведенные на льдине, где впервые сел самолёт Алексеева: «…Когда мы вышли из самолёта, нами овладело странное чувство. Мы находились на Северном полюсе. Но мы были несколько разочарованы. Льдина ничем не выдавала своего почётного географического положения. Это была обычная льдина, довольно большая, покрытая таким крепким снегом, что лыжи почти не оставили на нём следов. И тишина, абсолютная тишина. Воздух был спокоен. Ни птичий крик, ни шум шагов, ни человеческий говор, ни даже движение льда не нарушали этого, какого-то совершенно удивительного безмолвия. После семичасового рёва винтов особенно остро воспринималась эта тишина. Механик Володя Гинкин открыл люк и стал выбрасывать чехлы. Другой механик, Ваня Шмандин, принимал их внизу. Первый механик, Константин Николаевич Сугробов, полез за инструментами. Жуков стал производить астрономические определения. И сразу стало шумно.
Исчезло минутное романтическое очарование. Началась работа. Алексеева у самолёта не оказалось. Этот, обычно спокойный и всегда размышляющий человек не стал тратить времени даром. Его стройная фигура темнела почти у самой торосистой гряды, окружавшей льдину со всех сторон. Он долго ходил вокруг, считал шаги, осматривался и, возвратившись, сообщил:
– Льдина хорошая. Может быть, взлетим без дополнительных работ.
И мы расположились на льдине Северного полюса. Мы зажили на нашей льдине так же, как жили на станции Маточкин Шар или на острове Рудольфа. Зачехлили моторы.
Зажгли примус и натопили снега. Умылись и почистили зубы. Сделали записи в дневниках. Прошло три часа. Настал второй срок для астрономических наблюдений.
Жуков, как всегда, сделал их точно, внимательно и объявил:
– Мы в девяти милях от полюса. Лететь до лагеря не более получаса.
Алексеев ничего не ответил. Жуков стал вызывать лагерь. Он сообщил Шевелёву наши координаты. Но лететь было нельзя. Погода испортилась. Сугробов мрачно возился возле лыжи.
– Что с вами, Константин Николаевич?
– Куда это годится, – быстро, словно спеша излить накопившийся в нём гнев, ответил Сугробов, – куда это годится, что мы сели в девяти – подумайте! – в целых девяти милях от полюса. Как будто нельзя было сесть точка в точку?
– Конечно, нельзя! Ведь пока Жуков определялся в воздухе, мы уже отлетели от полюса на некоторое расстояние. Льдины на самом полюсе могли быть неподходящими для посадки. С научной точки зрения девять миль не играют роли.
С географической – это величина микроскопическая. Да и вообще возможно, что мы сели на полюсе, а дрейфом за это время нас снесло в сторону, – терпеливо, едва скрывая улыбку, Алексеев пытался утешить огорчённого Сугробова.
– Думаете, снесло? – недоверчиво спросил Сугробов.
Алексеев отвел глаза, – за три часа льдину не могло снести на девять миль, – и сказал:
– Может, и снесло…
Часы летели быстро, как минуты. Лёг спать Сугробов, немножко вздремнул Алексеев. Весело шумел примус. За металлическими стенками самолёта выл ветер. Не спал Жуков. Что-то испортилось в рации, и он терпеливо со схемой и вольтметром в руках проверял сложную аппаратуру, просматривая шаг за шагом, дюйм за дюймом всю цепь, контакты, лампы, детали. Четыре часа работал Жуков. Пот выступил на его высоком лбу. Проснулся Алексеев. Он стал ходить за Жуковым, взял у него схему, помогал разбирать и разъединять части рации. Оба отлично понимали, какое значение имела сейчас радиостанция.
– Есть, – внезапно сказал Жуков, – есть! – Ион улыбнулся.
Повреждение было найдено и тут же исправлено.
Прошло пятнадцать часов. Механики Гинкин и Шмандин спали уже двенадцать часов подряд. Мы пообедали без них, жалея прервать их отдых. Гороховый суп, поджаренные охотничьи сосиски и чай с шоколадом показались изысканными яствами. Кастрюлю и миску с супом завернули в мех, чтобы сохранить пищу горячей до пробуждения механиков. Через час они проснулись и попросили есть.
Пурга начала стихать. Ветер разметал тучи и прогнал туман. Солнце осветило льдину. Жуков застучал ключом:
– Погода улучшилась. Через два часа моторы будут готовы. Когда вылетим, сообщим.
Зашумели лампы. Семь человек возились возле моторов, готовя их к последнему перелёту. Ровно через два часа Жуков снова связался с лагерем.
– Давайте пеленг! Вылетаем.
Самолёт легко тронулся с места. Плавно обойдя вокруг площадки, он повернулся против ветра. Полный газ! Машина понеслась, подпрыгивая на снежных буграх и ледяных пригорках. Стрелка указателя скорости отмечает километры в час: 60, 70, 80.
Мало! Нужно 100 километров в час, чтобы машина оторвалась. Газ выключен, но было уже поздно, нам казалось, что ропаки ещё далеко, а в действительности они были совсем близко. Резко взлетев вверх, самолёт перескочил через ледяную гору и всей своей тяжестью в полторы тысячи пудов обрушился на снег. Инерция не была потеряна, и машина ещё дважды повторила прыжки. Казалось, что самолёт сейчас рассыплется на части. Все грохотало. Стучали вёдра, примусы, банки, инструменты.
Похоже было на то, что шасси уже нет и самолёт сидит на брюхе. Но когда машина замерла, мы вышли и убедились: всё было в порядке. Ещё два раза пытался взлететь Алексеев, но площадка явно была короткой, и самолёт не мог набрать нужной скорости.
В ход пошли лопата, кирка, пешня и сапёрная лопатка. Шмандин и Гинкин остервенело рубили ропаки и разбрасывали по сторонам голубые куски льда. Сугробов отрубил кусок доски и расщепил её на палочки. Я разрезал чехол. Так появилось на свет первое оборудование нашего аэродрома – восемь флажков. Мы поставили оборудование нашего аэродрома – восемь флажков. Мы поставили их в 60–80 метрах друг от друга. Вдоль них надо было взлетать. Между седьмым и восьмым флажками Алексеев должен был выключить газ, если бы машина не оторвалась. Впереди были ропаки. Машина зарулила, обошла группу ропаков. Крылья мешали смотреть сквозь маленькое окошко вперед. Я считал флажки. Третий, четвертый, пятый, шестой. Самолёт бежал, набирая скорость. Седьмой. Надо выключать газ. Неужели Алексеев забыл? Но над восьмым флажком мы уже летели» (Бронтман, 1938. С. 135–139).
Через четверть часа самолёт приземлился на полюсе и был немедленно разгружен (Папанин, 1977. С. 31).
«…По случаю прилёта Алексеева Иван Дмитриевич закатил торжественный обед.
<…> Алексеев привёз Папанину жилой дом – большую чёрную палатку с белой надписью: “СССР. Дрейфующая станция Главсев – морпути”.
<…> С прилётом Алексеева количество жителей на полюсе выросло до двадцати девяти человек» (Водопьянов, 1939. С. 316–318).
О. Ю. Шмидт радировал на Большую землю: «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС, 27мая, 17 часов 15 минут (радио). В 16 часов 50 минут т. Алексеев прилетел к нашей станции. Посадка произошла прекрасно. Первоначально т. Алексеев сел за полюсом почти в том же месте, где сели мы 21 мая и откуда нас отнесло дрейфом. Здесь т. Алексеев, точно определявшись и взяв пеленг на нашу льдину, дождался погоды и быстро прошёл отделявшее нас небольшое расстояние» («Восточно-Сибирская правда», 29.05.1937 г.).
Интересный случай произошёл уже после прилёта Алексеева на полюс. Днём все услышали пение пуночки – маленького полярного воробья. Долго полярники искали её, обшарили всю территорию лагеря, но увидеть не могли. Шли бесконечные споры. До сих пор считалось, что на полюсе жизни нет. Ширшов высказал предположение, что птица прилетела в крыле какого-нибудь самолёта. Однако участники экспедиции скептически оценивают возможности такой транспортировки: «Она бы умерла от гула моторов, – говорит Алексеев. – Нет, Пётр Петрович, вы меня не убедите: птица здешняя. Я теперь, вообще, во всё верю. Может, тут за торосами звуковое кино есть!» (Бронтман, 1938. С. 147).
Наибольшая проблема получилась с самолётом И. П. Мазурука. Он первоначально планировался как резервный. Всё, что можно, было снято с него ещё на о. Рудольфа более практичными коллегами. Штурман В. И. Аккуратов, впоследствии флаг-штурман Полярной авиации, тогда ещё только постигал азы самолётовождения в Арктике. Радист был пересажен в экипаж разведчика Головина и его функции выполнял штурман – как умел. В итоге Мазурук, к тому же незадолго до этого травмировавший ногу на о. Рудольфа, сел далеко от Водопьянова, а главное – неизвестно где. Почти две недели потребовалось экипажу, чтобы расчистить взлётную полосу и перебраться в основной лагерь.

Илл. 51. Самолеты Н-170 и Н-171 В. С. Молокова и М. В. Водопьянова на Северном полюсе, 1937 г. Снимок сделан с самолёта И-172 А. Д. Алексеева. Из домашнего архива Д. А. Алексеева
За это время А. Д. Алексеев выполнил поисковый полёт, но отыскать самолёт в районе полюса, не имея его точных координат (солнце всё время было закрыто облаками), – задача сверхтрудная. Позднее Аккуратов заявлял, что Алексеев не очень-то искал их, ссылаясь на плохую видимость, а она, мол, в районе самолёта Мазурука была удовлетворительной. Всё это дало повод Аккуратову обвинить коллег, что «на полюсе нас бросили». Думается, это не совсем так. Сам Валентин Иванович дал своему командиру направление полёта, противоположное его собственному. В итоге Мазуруку пришлось лететь испытанным им на Дальнем Востоке методом спирально развёртывающейся «коробочки». Хорошо, что всё кончилось благополучно.

Илл. 52. На Северном полюсе. Командир самолета И-172 А. Д. Алексеев (слева) и начальник дрейфующей станции «Северный полюс» И. Д. Папанин (справа). 1937 г. Из домашнего архива Д. А. Алексеева
Когда самолёты экспедиции собрались, наконец, на ледовой базе папанинцев (илл. 51. 52, 53), выяснилось, что по количеству оставшегося топлива Водопьянов и Молоков имеют шансы добраться до о. Рудольфа, а вот Алексеев и Мазурук скорее всего долетят только до 83-84- с.ш. (они потратились при поисковых работах). Там им придётся садиться на лёд в ожидании подброса бензина с авиабазы. Водопьянов, шутя, предложил слить горючее с одного самолёта в остальные, а пустую машину оставить на полюсе. Эта идея понравилась начальнику политуправления ГУСМП Сергею Адамовичу Бергавинову (1899–1937) и Папанину, который возмечтал оборудовать в брошенном фюзеляже склад и баню. «Мы своей машины здесь не оставим, – в один голос заявили экипажи самолётов Н-172 и Н-169.
На эту тему мы с Ильёй Павловичем уже договорились, – спокойно начал Алексеев, – мы решили так: полетим, пока хватит горючего. По нашим расчётам, до 84° или даже 83° бензина хватит. На этой широте мы сможем найти подходящую льдину и сядем на неё, а кто-нибудь из вас <…> привезёт нам бензин. Таким образом, машины будут спасены. Оставить машину на полюсе – это значит обречь её на гибель». Слушая Алексеева, Водопьянову хотелось его «крепко обнять и расцеловать», так как он считал, что «это небольшевистский метод – бросать дорогую исправную машину на льдине» (Водопьянов, 1939. С. 322, 323). На совещании предложение Алексеева и Мазурука было принято, и началась подготовка самолётов в обратный путь.
6 июня, в два часа ночи, самолёты были готовы к отлёту с полюса. На площадке перед ними провели митинг, на котором О. Ю. Шмидт объявил об официальном открытии первой дрейфующей станции ГУСМП «Северный полюс». Через час машины поднялись в воздух. Было пасмурно, но незагруженные самолёты легко пробили облака и взяли курс на о. Рудольфа.

Илл. 53. Палаточный лагерь на Северном полюсе, 1937 г.
Из домашнего архива Д. А. Алексеева
Как и условились, на 84 – с.ш. Алексеев запросил разрешения у О. Ю. Шмидта уйти вниз и искать льдину для посадки, а Мазурук доложил, что остатка горючего должно хватить до авиабазы. Шмидт пошёл ему навстречу.
Машина А. Д. Алексеева, на борту которой находился и М. И. Шевелёв, на высоте 5000 м вышла из общего строя, начала снижение и вскоре скрылась в облаках. По радио экипаж Алексеева сообщал другим самолётам: «Идём в облака, всё в порядке, всё в порядке. Следите за нами. Высота 800 м, льда не видим. Следите, следите… Высота 600 м… Высота 400 м, льда не видим, туман. Высота 300, видим лёд, идём на посадку, всё в порядке. Следите…» (Аккуратов, 1941. С. 3; Водопьянов, 1974. С. 262). Самолёт Алексеева «“выкатился” из строя вправо и “нырнул” вниз. Радиостанция его стала затухать, и последнее, что услышали – были слова: – Иду на посадку…», – вспоминал П. Г. Головин (Головин, 1938. С. 83). Остальные экипажи продолжили горизонтальный полёт.
Из воспоминаний М. И. Шевелёва: «Выскочили из облачности на высоте примерно 100 метров. Видимость неважная, для выбора места посадки на дрейфующей льдине нужна, как правило, солнечная погода: тогда все торосы отбрасывают тени и их хорошо видно…
Выбрали более или менее подходящее место, бросили на него дымовую шашку, чтобы потом развернуться и зайти на неё. Сели,
пробежали немного, но удары на лыжи были сильные. И как только машина остановилась, я кубарем скатился вниз и бегом к лыжам. И чудо! Лыжи и шасси были целы.
Подошёл спокойно к люку и увидел стоящего у люка Алексеева, который ругался и кричал на механиков – куда они задевали лестницу? Я говорю, успокойся, всё в порядке, лыжи целы» (Шевелёв, 1999. С. 84).
Рудольф был закрыт туманом, но, к счастью, вершина купола с аэродромом оказалась открытой и все три самолёта совершили успешную посадку. Для доставки бензина в лагерь Алексеева отрядили самолёт-разведчик Головина. «Сколько бензина вы сможете уделить Алексееву? – спросил начальник экспедиции [О. ТО. Шмидт. – Авт.].
– Тысячу килограммов, – ответил лётчик.
– Отлично! Готовьтесь. Штурманом пойдет Ритсланд» (Бронтман, 1938. С. 201).
Когда эскадра была уже на Рудольфе, заработал аварийный передатчик самолёта «СССР Н-172», и пришла первая радиограмма: «Посадка благополучна. Все в порядке» (Головин, 1938. С. 83–85). Алексеев сообщил, что льдина имеет достаточную толщину и площадь, и на ней можно спокойно жить в ожидании горючего. В заключение радиограммы экипаж сообщил свой адрес, по которому должны были посылать прибывшую на их имя корреспонденцию: «Северный Ледовитый океан, льдина № 3, улица Алексеева, дом № 172» (Водопьянов, 1939. С. 329).
Экипаж корабля Алексеева чувствовал себя на своей льдине весьма непринужденно. Настроение у всех было отличное, бодрое. В дни томительного ожидания погоды на острове один из участников экспедиции изводил всех пластинкой «Песнь 27-й Краснознамённой дивизии» [в исполнении хора Александрова. – Авт.]. Мечтой злорадного участника было привезти эту пластинку на полюс. Но Мазурук пообещал оставить его на льдине в случае контрабандного провоза патефона на перегруженной машине. И вот однажды ночью, заканчивая деловой разговор со Шмидтом, Шевелёв попросил позвать в рубку этого товарища.
Он, услышав вызов, опрометью побежал в одном белье к аппарату:
«– Что случилось на льдине? – спросил он встревоженным голосом.
В ответ из репродуктора понеслись знакомые слова песни 27-й дивизии.
Сгрудившись у микрофона, экипаж самолёта Алексеева хором исполнял мелодию.
В рубке перекатывался гомерический хохот. Мы чувствовали себя отомщёнными» (Бронтман, 1938. С. 203, 204).
Вообще, разговор с членами экипажа Алексеева вёлся регулярно каждые два-три часа. За сутки льдина № 3 продвинулась к северу на девять миль. Жизнь там идет спокойная, неторопливая. Сугробов, Гинкин и Шмандин проверили все детали самолёта и убедились в его отличном состоянии. Жуков обследовал льдину и определил ее толщину в 90 см, покров оказался ровным, сравнительно гладким (Бронтман, 1938. С. 205).
В течение двух суток экипаж Головина дежурил у своего самолёта, готовый в любую минуту доставить Алексееву бензин. Однако взлететь Головину удалось только через два дня, когда установилась погода. За это время экипаж Алексеева сумел срубить торосы на своей льдине и подготовить взлётную полосу.
Наконец, 8 июня вечером облака поредели, проглянуло солнце. С «льдины № 3» Алексеев сообщил, что у них погода хорошая. Через несколько минут самолёт Головина пронесся над лагерем папанинцев и взял курс на север (Догмаров, 1938. С. 92).
Штурман Ритслянд настроил радиокомпас самолёта на радиостанцию Алексеева. «Видим вас. Вы идёте точно на нас», – сообщил самолёт Алексеева (Зингер, 1940. С. 69).
Головин успешно сел возле одиночной палатки: «По радиотелефону Жуков сообщал: Головин кружит над нами, идёт на посадку, сел, бегу навстречу. <…>
Мы радовались мастерству товарищей, хорошей погоде, солнцу. В течение часа со льдины не поступало никаких сведений. Затем на всю рубку прогремел голос Шевелева:
– Алло, остров! Сейчас у нас аврал: перекачиваем бензин. Он какой-то особенно приятный, обладает на редкость вкусным запахом. Будем готовы через час. Работают экипажи обоих самолётов. Горючее сливаем из баков Головина в бидоны, перетаскиваем оные к нашему самолёту и опрокидываем в свои баки.
В 23 часа заливка самолёта Алексеева закончилась. Пустые баки заполнились полутора тысячами литров бензина» (Бронтман, 1938. С. 208; Головин, 1938. С. 113). При подлёте к о. Рудольфа Алексеев послал радиограмму: «“Последний корабль северной воздушной экспедиции покидает центральный район Северного Ледовитого океана”.
А вскоре репродуктор отчеканил последний раз: “Алло! Алло! Говорит самолёт Алексеева. Подходим к острову. Видим берег. Готовьте ужин, объятия, баню. Привет. Кончаю. Сматываю антенну”. <…>
Всё, о чём просил Алексеев, было в изобилии приготовлено: крепкие объятия, вкусный ужин и жарко натопленная баня» (Бронтман, 1938. С. 208; Водопьянов, 1939. С. 330, 331). Шмидт, Водопьянов, Молоков, Спирин, Бабушкин и другие на вездеходе помчались встречать отважных друзей: Алексеева, Жукова, Мошковского, Сугробова, Гинкина, Шмандина и заместителя начальника – Шевелева (Догмаров, 1938. С. 92).
Теперь вся воздушная экспедиция была в сборе и могла улетать в Москву. В Москву полетела радиограмма О. Ю. Шмидта:
«В 0 часов 45 минут возвратился на остров Рудольфа Головин, блестяще выполнив задание по снабжению Алексеева горючим. Разогрев моторы и взлетев со льдины, Алексеев в 2 часа 10 минут опустился на аэродроме острова Рудольфа. Все самолёты экспедиции на базе. Полярная операция закончена» (Водопьянов, 1974. С. 264).
Перед отлётом на материк экипажи строили планы на будущее. Водопьянов спросил Алексеева, что он будет делать после экспедиции: «Что ж обо мне говорить, я – моряк. Так, наверное, в Карском море и помру. Дадут мне машину и буду летать между Рудольфом и мысом Молотова» (Бронтман, 2004).
Экипаж Мазурука оставили дежурить на Земле Франца-Иосифа. На обратном пути была посадка в Амдерме. Полярники Амдермы дали гарантию, что смогут принять самолёты на лыжах. Самолёты они решили принять в небольшой лощине шириной 40–60 м, где ещё сохранился снег. Однако его было мало. Поэтому жители полярного посёлка провели поистине героическую работу – собирали во всех окрестных лощинах и оврагах снег и свозили на грузовиках на посадочную полосу, доведя её до 600 м. Лётчики мастерски посадили свои тяжёлые машины на небольшой аэродром (Сузюмов, 1981. С. 75).
Но посадка в Амдерме тоже была нелёгкой. Машина Алексеева шла на посадку последней. На посадочной полосе, шириной немногим больше размаха крыльев самолётов, уже стояли машины Водопьянова, Молокова и Головина, которые занимали добрую половину дорожки. В довершение всего был боковой ветер. Алексеев сделал последний заход и повёл машину на посадку. Левая плоскость самолёта «СССР Н-171» некстати загораживала дорогу. Но управляемая Анатолием Дмитриевичем машина стремительно проносится мимо стоящих на земле самолётов. С невероятной, снайперской ловкостью Алексеев благополучно посадил машину (Мошковский, 1938. С. 88).
Экипажи пробыли в Амдерме неделю. Алексеев, склонный к скрупулёзному научному труду, забрал штурмана Жукова и, уединившись в своей комнате, за три дня написал всего одну статью – это было монументальное исследование о льдах центральной Арктики (Бронтман, 1938. С. 219).