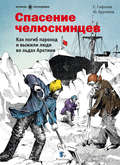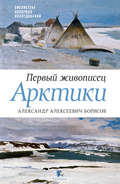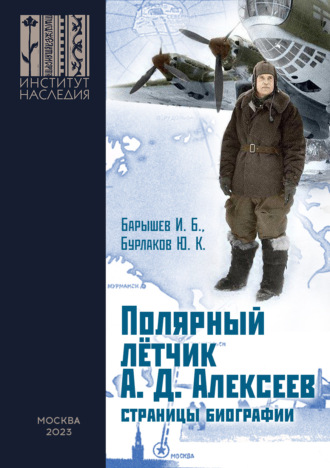
Ю. К. Бурлаков
Полярный лётчик А. Д. Алексеев. Страницы биографии
Краткий диалог с руководителями каравана. Присутствуют десятки моряков.

Илл. 62. Экспедиция 1938 г. Вывоз самолётами экипажей судов, попавших в ледовый дрейф в Северном Ледовитом океане.
Из домашнего архива Д. А. Алексеева
– Что же вы нам об этом чёртовом “трамплине” ничего не сообщили? Видите, что получилось!
– Мы это долго обсуждали между собой. Решили, что такой “трамплин” не мешает при посадке, а на взлёте даже помогает, укорачивает длину разбега. На нём самолёт подбросит в воздух, и он полетит…» (РГАЭ. Ф. 1147).
Но надо было выходить из создавшегося положения. В это время пришёл ответ с острова Котельного от радиста А. П. Бабича: «Погода устойчивая, на льду замёрзшей лагуны подготовлена площадка для приёма самолётов» (Морозов, 1979. С. 92, 93).
Долго гадали лётчики: выдержат или не выдержат лыжи при взлете? «Нам с тобой, Анатолий Дмитриевич, человек по десять – двенадцать поднять удастся, а вот у Юры насколько хватит силёнок?» — подумав, сказал Головин и вопросительно взглянул на Орлова. Анатолий Дмитриевич ценил Орлова как отличного пилота, смелого и надёжного товарища, но его машина была повреждена более остальных, и Алексеев решил: «Тебе, Юрий Константинович, влетать тебе надо порожним, максимально облегчив аэроплан. Снимешь все грузы, штурмана на всякий случай пересадишь в хвост. Взлёт советую начинать с того вот, дальнего, конца площадки.
– Ясно, Анатолий Дмитриевич, – кивнул Орлов, и начал вместе с остальными членами экипажа готовиться к трудному старту» (Морозов, 1979. С. 94).
Таким образом, решили, что Орлов полетит порожняком, а на остальные два самолёта можно взять по десять человек. Алексеев в последнюю минуту рискнул взять двенадцать. Только двадцать два человека, вместо предполагавшихся девяноста, были сняты с кораблей каравана «Садко» в первый пробный рейс. Это были те, кто больше всех нуждался в эвакуации: женщины из судовых команд и больные моряки (Морозов, 1979. С. 95; Белов, 1969. С. 202).
Первым вышел на старт Орлов. Его самолёт осторожно вырулил на старт и неуверенно, точно инвалид на костылях, тронулся на своих покалеченных лыжах. Постепенно набирая скорость, машина Орлова дошла до первого ледяного трамплина, подпрыгнула на нём и вместо того, чтобы повиснуть в воздухе, тяжело плюхнулась на лёд. Только на втором трамплине в нескольких метрах от ропаков, ограничивающих аэродром, Орлову удалось оторваться ото льда и начать набирать высоту. «Ну, теперь, Паша, и нам с тобой осрамиться нельзя», – сказал Алексеев. «Сдюжим, Анатолий Дмитриевич, сдюжим», – улыбнулся всегда невозмутимый Головин (Морозов, 1979. С. 94). Алексеев добавил: «Павел Егорович, пожалуй, можно увеличить тебе стартовый вес на одну тонну. Идёт?
– Идёт, давай 10 пассажиров, аэродрома хватит».
Головин взлетает, низко проходит над ропаками. Алексеев решает взять 12 пассажиров (РГАЭ. Ф. 1147).
Все машины соединились в воздухе и вместе пошли на остров Котельный. Опытнейшие полярные лётчики отлично провели трудный взлет с малоприспособленного ледяного аэродрома. Чем ближе подходили самолёты к Большой земле, тем резче ухудшалась погода в бухте Тикси. По радио сообщали о том, что на запасном аэродроме у полярной станции Шалаурово погода также ухудшалась. Самолёты сообщили, что идут на Котельный, просили разложить посадочный знак, приготовить костер и бочки для подогрева масла.
Машины шли по-военному, строем клина. Впереди флагман Алексеев, позади – слева и справа – Головин и Орлов. Командир вёл звено на остров Котельный. На этой полярной станции стояло всего три маленьких жилых дома, площадью в тридцать метров каждый. Там зимовало четыре человека.
Через три часа после старта, уже в сумерках, после захода солнца, приближались самолёты к острову. Садились при кострах, ярко светивших по берегам просторной заснеженной лагуны, превращённой полярниками Бабичем (радист), Соколовым (нач. станции), Бемом (механик), и Гороховым (каюр) в отличный аэродром. «43 человека гостей наполнили станцию веселым гулом. Размещаться всем пришлось на полу, так как нар у нас еще не было. Запасенный нами хлеб весьма пригодился. <…> Предполагая, что и в следующие перелёты наша станция может быть использована как промежуточная база, мы занялись устройством нар. Досок у нас не было, поэтому мы готовили плахи из плавника. Гвозди добывали из старых ящиков», – вспоминал один из полярников станции В. Соколов. Полярники достали «всё из своих кладовых, чтобы “по первому заходу” накормить такую ораву. Ещё в феврале они начали заготавливать хлеб, выпекая его на маленькой старой плите с прогоревшей духовкой. Зимовщики решили на всякий случай заготовят тонну хлеба. Это притом, что на станции было только 8 форм, а в духовку помещалось только 6 форм. Пекли непрерывно, выпекая в день по 30–35 кг хлеба» («Воздушный транспорт», 25.10.1979 г.)
Однако на Котельном, при всех его достоинствах, был и крупный недостаток – отсутствовали запасы горючего для самолётов. Алексеев сказал Орлову и Головину: «Придётся, ребята, нам самим такие запасы создавать. Планировать надо не только перевозку людей, но и снабжение экспедиции топливом». Пока экипажи спали, Анатолий Дмитриевич всю ночь напролёт сидел с карандашом над раскрытым блокнотом, испещряя его страницы цифровыми выкладками, чертежами схемы, а наутро решительно заявил Орлову: «Ты, Юрий Константинович, не взыщи, – придётся твоему аэроплану на время стать танкером. Чтобы не рисковать новыми неприятностями на дрейфующем пятачке, освобождаешься ты от полётов к кораблям. Туда мы вдвоём с Павлом летать будем. За людьми. П доставлять оттуда людей только до Котельного. <…> А тебе предстоит освоить линию Котельный – Тикси. Туда будешь возить людей, а обратно горючее для нас с Пашей». Такое распределение пассажирских и грузовых перевозок между экипажами позволило двум самолётам, летающим к дрейфующим судам, повысить загрузку, принимать на борт не по 30, как намечалось ранее, а по 40 человек, что сокращало намечавшееся ранее количество полётов к каравану (Соколов, 1939. С. 56; Морозов, 1979. С. 96).
Пока лётчики в Котельном ждали «погоды» из Тикси, Алексеев составлял телеграммы руководству каравана. Он потребовал, чтобы нашли другую, более пригодную для посадки, ровную площадку длиной тысячу двести и шириной не менее шестидесяти метров и обвеховали ее флагами. Ответ прибыл немедленно – все принималось «к исполнению» (Зингер, 1948. С. 287). 5 апреля отряд вернулся в бухту Тикси.
16 апреля, в день второго полёта, на Котельном началась пурга. Самолёты садились на аэродром при плохой видимости. Но, несмотря на непогоду, они тут же занялись переливкой горючего. Едва развиднелось, как Алексеев и Головин вылетели к каравану «Садко».
Анатолий Дмитриевич вспоминал, что во время полёта к каравану Жукову хотелось найти легендарную «Землю Санникова»: «по старым картам она лежит точно на нашем маршруте. <…> Из бухт канадского побережья время от времени в океан отрывает и выносит шельфовые поля размером до 15 км и толщиной льда до 12 метров. Такие льдины даже при наблюдении с воздуха создают полную иллюзию низменного острова и могут ввести в заблуждение опытных полярных лётчиков. Таким образом, виденное Санниковым получило законченное физическое объяснение» (РГАЭ. Ф. 1147).
Как только 18 апреля самолёты сели, к ним подбежали люди и приступили к немедленной разгрузке. Все делалось, как в первоклассном аэропорту, без сутолоки и шума, с исключительной деловитостью. В палатках был приготовлен для лётчиков горячий чай. Все пассажиры были расписаны по самолётам. Один из моряков с торжествующей улыбкой подошёл к Алексееву и спросил:
«– Ну как аэродром?
– Великолепен! – ответил лётчик и пожал руку моряку.
– А всех ли возьмете? Назначено восемьдесят!
– Конечно, всех!» (Зингер, 1948. С. 288).
Для себя Алексеев отмечал: «Хорошая всё-таки вещь критика, великая сила гласности, печать и радио оказывают своё влияние в Арктике». Он с благодарностью вспоминал выступление портовой газеты с весьма суровым разбором непорядков на ледовом аэродроме у каравана. Статья об этом, переданная в эфир Тиксинским радиоцентром, оказала благотворное влияние на зимовщиков каравана. И теперь аэродром производил прекрасное впечатление. Новый аэродром был расположен на почти прямой замёрзшей полынье. Посадочную полосу размером 1380 на 160 м подравняли, обозначили разноцветными флотскими сигнальными флажками через каждые 50 м. У одного из торцов полосы при посадке самолётов горел костёр, по дыму которого можно было определить направление и силу ветра («Правда», 15.01.1940 г.; «Воздушный транспорт», 25.10.1979 г.).
Через час после прилета была закончена разгрузка, и каждый самолёт принял на борт по сорок одному пассажиру. Во второй раз лётчики Алексеев и Головин увезли 83 человека.
Пока летели от каравана на юг, погода постепенно портилась. Радисты каждые четверть часа принимали метеосводки с Котельного – сгущаются облака, видимость один километр, потом пятьсот метров, потом двести… и наконец, нулевая. Посоветовавшись с Жуковым и Тягуниным, Анатолий Дмитриевич решил садиться. По радиокомпасу вышел на островную станцию и начал снижение. В клубах пурги вдруг мелькнула неровная поверхность замёрзшей лагуны. Видимость колебалась в пределах от 5 до 30 метров. После посадки Алексеев делился с Орловым: «Как я в этой кутерьме твой аэроплан не зарубил, до сих пор не понимаю. <… > Как твоих ребят лыжами не подмял, – там кто-то дымовой сигнал пытался мне подавать». «Да уж, видать, всем нам повезло, Анатолий Дмитриевич», – смеялся в ответ довольный Орлов.
Полярники о. Котельного были свидетелями «исключительного мастерства и спокойной отваги наших полярных лётчиков. Так, 18 апреля тт. Алексеев и Головин, имея по сорок с лишним пассажиров каждый, совершили блестящую посадку на лагуну станции в сильнейшую пургу, когда в нескольких шагах не было видно человека» (Соколов, 1939. С. 56).
Однажды в очередной раз лётные экипажи долго пережидали пургу в Тикси. Все книги перечитаны, дни рождения и именин всех членов экипажей отмечены. Но беспокойство не уменьшается. Надо заглушить его какой-нибудь работой. Тогда по инициативе Анатолия Дмитриевича организовали лекции для летного состава. Первую лекцию – о закономерности дрейфа полярных льдов – прочитал бывший начальник экспедиции на ледоколе «Малыгин». Лекция имела заслуженный успех (Штепенко, 1953. С. 105; Морозов, 1979. С. 97–100).
О принципиальности Анатолия Дмитриевича говорит случай, произошедший во время той же пурги. Долгое сидение в Тикси изрядно надоело лётчикам. В один из таких дней Головин получил радостную телеграмму из дома: у него родился сын. Вступление в жизнь маленького Егорушки Головина было единственным радостным событием, нарушившим монотонную жизнь экспедиции, тоскливо ожидавшей летной погоды. Надоедали пурга и туманы. И вот по случаю рождения сына Головин нарушил обычай трезвости, принятый среди членов алексеевской экспедиции. Узнав об этом, командир отряда больше суток не разговаривал с Головиным. Это мучило пилота, но попытки примириться ни к чему не приводили. Алексеев оставался непреклонным. Дисциплину он считал первейшей обязанностью каждого члена экипажа. Иных взысканий в полярной обстановке Алексеев не мог придумать и не сдавался, несмотря на уговоры товарищей. Тогда в комнату, где находился командир звена, пришел Головин с товарищами из своего экипажа, держа в руках длинную хворостину. Он положил её перед Алексеевым и сказал, повинно склонив голову:
«– Бей меня, Анатолий Дмитриевич! Я виноват!
– Не учил отец, а дядя не выучит, – ответил Алексеев. – Тогда надо было учить, когда поперек лавки ложился.
– Не буду я, Анатолий Дмитриевич, до самого конца рейса брать в рот спиртного! Даю слово пилота! Не вовремя я затеял. Виноват!»
Инцидент был исчерпан. Лётчики помирились, и Головин слово свое сдержал (Зингер, 1940. С. 82, 83).
24 апреля Орлов взял на борт сорок два человека и вылетел в Тикси. На обратном пути он должен был привезти новые запасы горючего, обеспечив себя и товарищей для дальнейших полётов. Это ускоряло работу экспедиции по разгрузке каравана «Садко». В этом и состоял алексеевский план быстрого окончания операции, которой могла помешать ранняя весна. Головин назвал эту экспедицию воздушным конвейером: караван «Садко» – Котельный – бухта Тикси.
И вот оставался последний, завершающий, третий по счету полёт к каравану «Садко» – парный рейс Алексеева и Головина. Котельный завесило густыми облаками, но лётчиков хмурое небо не задержало. Самолёты потянули над облаками, не видя под собой ни льдов, ни моря, ничего, кроме облаков на сотни километров. Снова шли по радиокомпасам, набрав 2500 метров высоты, – так велик был слой облачности над океаном.
26 апреля в районе нахождения дрейфующих судов весь день было пасмурно и туманно. К вечеру на судах получили сообщение, что самолёты вылетели к ледовому лагерю. Гидрограф Буйницкий вспоминал: «Мы никак не ожидали, что при такой погоде можно летать. На кораблях поднялась страшная суматоха: одни побежали “пускать из бочек дым”, выкладывались посадочные знаки, другие торопливо увязывали вещи, наспех прощались и. боясь опоздать, с котомками, узлами и чемоданами рысью спешили на аэродром» (Буйницкий, 1945. С. 45).
Посадку произвели в 20 часов 37 минут на том же аэродроме, где садились во второй прилёт. Сдали последний груз, обеспечив остававшихся на долгий дрейф обильным двухгодичным запасом. «Когда-то снова свидимся, Анатолий Дмитриевич», – не без грусти говорили моряки, прощаясь с Алексеевым. «Думаю, что скоро. Летом пробьётся к вам мощный ледокол. Может и мне приведётся участвовать в той будущей операции, разведка-то воздушная потребуется…», – уверенно отвечал Алексеев (Буйницкий, 1945. С. 45; Морозов, 1979. С. 100–101).
В 21 час 57 минут последние 79 пассажиров поднялись в воздух. Дул встречный лобовой ветер. Он замедлял ход машин. Начиналась непогода и на Котельном. Лётчик Орлов, находившийся на нём, радировал: «Аэродром закрыт туманом, посадка невозможна».
Шли по радиокомпасу. Отлично слышалась работа станции Котельного. Маломощная станция «стреляла», как говорили штурманы, сильнее иных мощных установок.
Последние слова предостерегающей орловской радиограммы самолёты слышали, подходя уже к северной оконечности острова. В разрезе облаков лётчики вдруг увидели землю и какую-то лагуну. Алексеев вспоминал: «Вдруг под нами мелькает разрыв в облачности – почти узкий колодец, в котором видна коса какой-то лагуны с брёвнами плавника. Я не любитель молниеносных решений – в них всегда заключается потенциальная опасность неверной оценки обстановки. Но здесь надо было действовать без раздумий. Резко закрыл газ всех моторов. Мы пересекли эту косу на высоте примерно метров восьми. Приземлились и скорее в сторону – освободить место Головину». Едва успели сесть, как разрыв в облаках затянулся. «Второй стотысячный выигрыш на трамвайный билет в моей летной практике, – сказал Алексеев, выходя из самолёта. – Мы летали с Матвеем Козловым в тридцать втором году и так же садились в оконце близ Югорского Шара. Тоже волшебно открылось оно в тумане, мы вовремя нырнули, сели по-хорошему, и тут же вслед за нами видимость исчезла.
– Удача уму в придачу, – сказал Головин» («Труд», 11.08.1965 г.).
После переговоров по радио с Котельным выяснилось точное место посадки. К самолётам вышли собачьи упряжки, чтобы перевезти людей к жилью.
Головин разбил палатку под крылом своего самолёта и лег спать. Девяносто четыре человека – пассажиры и лётчики – сошли с неба на землю, встреченные пургой и хлёстким ветром. Пожалуй, что на судах в дрейфующем караване сейчас было лучше, чем на лагуне, возле самолётов. И некоторые пассажиры, быть может, жалели уже о том, что пустились в опасный рейс.
Часов через десять-двенадцать появилось солнце. Снег стал прилипать к лыжам и самолёты не смогли взлететь. Пилоты предложили добровольцам отправиться на полярную станцию пешком. Человек двадцать пять заявили, что это для них «море по колено», что великие полярные путешественники 14 км даже не считали за расстояние, о котором стоит серьёзно говорить. Вытянувшись гуськом, колонна отправилась в поход, о чём немедленно были извещены сотрудники станции.
Погода к утру улучшилась. Первым пошёл на взлёт Алексеев; экипаж Головина помогал раскачивать хвост самолёта. Следом должен был взлететь Головин. Раскачивать хвост его самолёта было уже некому. Машина не двигалась с места. Тогда бортмеханики, предупредив своего командира, выскочили из машины и стали раскачивать хвост. Машина тронулась, люди вскочили в кабину по трапу (Зингер, 1948. С. 289).
Когда часов через пять лётчики, наконец, сумели взлететь на почти пустых самолётах, то они увидели с воздуха растянувшуюся колонну. Моряки махали шапками, когда машины пролетали над ними. Зимовщики снарядили навстречу пешеходам каюра Горохова с собачьей упряжкой, запасом продовольствием и спирта. Нарты оказались весьма кстати. 16 часов понадобилось людям, чтобы преодолеть эти километры (РГАЭ. Ф. 1147).
Большую роль в организации помощи эвакуации сыграл начальник полярной станции острова Котельного Владимир Иванович Соколов (1908–1941) (илл. 63) и его товарищи. Когда 28 апреля самолёты покинули о. Котельный, Алексеев направил им следующую радиотелеграмму: «Личный состав авиаотряда выражает глубокую признательность за казавшийся невозможным приём и размещение при крайне ограниченных возможностях полуторасотенной массы людей. Мы видим в вас подлинных борцов за освоение Советского Севера, скромно, без шумихи делающих великое дело» (Соколов, 1939. С. 37).

Илл. 63. Начальник полярной станции острова Котельного Владимир Иванович Соколов. Фото из открытых источников
Свыше пяти часов длился последний, самый утомительный полёт. Вечером Алексеев объявил, что план вывозки людей с двух дрейфующих караванов выполнен полярной авиацией полностью (Штепенко, 1953. С. 107).
28 апреля самолёты покинули станцию, взяв курс на Тикси. Долго по радио звучали прощальные приветствия. Полярники о. Котельного вновь остались одни.
По завершении экспедиции в Москву была отправлена радиограмма:
«Москва, Кремль Сталину, Молотову
Задание партии и правительства выполнено. С каравана дрейфующих судов “Садко”, “Седов” и “Малыгин”вывезено 184 человека. Оставшиеся 33 моряка обеспечены продовольствием, одеждой, медикаментами на 28 месяцев. Алексеев» (РГАЭ. Ф. 1147).
Утром 1 мая разукрашенный флагами и транспарантами порт Тикси встречал организованных по экипажам моряков, лётчиков и тиксинцев, пришедших на центральную улицу порта. Организованный из вывезенных с разных караванов моряков, оркестр духовой музыки не особенно стройно исполнял в голове колонны различные марши. После митинга вся масса демонстрантов колоннами прошла мимо оранжевых самолётов экспедиции и отправилась в столовую и клуб на торжественный обед. «Много тостов было провозглашено за всех тех, кому мы всем обязаны» (РГАЭ. Ф. 1147).
Всего лётчиками отряда А. Д. Алексеева было совершено несколько рейсов к дрейфующим судам, вывезено 184 человека в бухту Тикси, доставлено 8 тонн грузов для оставшихся на зимовку 33 человек – горючее, продукты, одежда. Вся операция была успешно выполнена за 40 дней. Путь, пройденный самолётами к дрейфующим кораблям и обратно, оставил около 22 000 км. 26 мая отряд Алексеева вернулся в Москву (Работа полярных самолётов, 1938. С. 145; Карелин, 1939. С. 145–146) (илл. 64).
Гидрограф В. X. Буйницкий, участник дрейфа «Седова», писал в своём дневнике: «29 апреля. <…> Вечером получили сообщение, что все 184 наших товарища по дрейфу вчера благополучно прибыли в Тикси.
Прекрасно продуманная организация и исключительное мастерство, с которым была выполнена воздушная экспедиция Алексеева, достойны самой высокой похвалы. Многократные тысячекилометровые перелёты трёх тяжёлых машин, до отказа гружённых людьми, над торосистыми, абсолютно исключающими какую-либо возможность посадки, льдами, являются одним из наиболее выдающихся событий последних лет» (Буйницкий, 1945. С. 46).
Известный штурман полярной авиации В. И. Аккуратов писал: «Масштабы экспедиции А.Д. Алексеева намного превосходили челюскинскую эпопею, как по труднодоступности кораблей, так и по количеству перевезенных грузов» (Аккуратов, 1947. С. 8).
Замечательно выполненная операция по снятию людей с дрейфующих судов имела и важное географическое значение: самолёты Алексеева во время полётов к северу от Новосибирских островов окончательно доказали, что Земли Санникова не существует (Визе, 1939. С. 401).
Так закончилась спасательная воздушная экспедиция, в результате которой спасённых с дрейфующих льдов доставили на материк. Это было крупнейшее после челюскинской эпопеи и высадки папанинцев на Северном полюсе авиационное событие. Рейд к каравану «Садко», блестяще завершенный Алексеевым, Головиным и Орловым, вошел в историю завоевания Арктики как героическое дело советской авиации, потребовавшее много ума, знаний, расчета, смелости и отваги. Подтверждением тому стало награждение группы авиаторов орденами, в том числе и А. Д. Алексеева орденом Красной Звезды.
Вскоре после возвращения из высоких широт Анатолий Дмитриевич делился с друзьями: «Ну, извозным промыслом в морском ведомстве я надолго сыт. <…> Теперь хочу с недавними своими пассажирами поменятся местами. <… > Как так? <… > Да очень просто, зовёт меня с собой в дальний вояж Марк Иванович Шевелёв» (Морозов, 1979. С. 103).

Илл. 64. А. Д. Алексеев.
Возвращение из экспедиции 1938 г. Из домашнего архива Д. А. Алексеева
Но на этом события, связанные с дрейфом ведущих советских ледокольных пароходов, не закончились. Летом 1938 г., когда обстановка несколько разрядилась, руководство Главсевморпути дало команду ледоколу «Ермак» вывести суда из ледового плена. Во главе этой экспедиции поставили М. И. Шевелёва, которого к тому времени передвинули с авиационных дел на морские, а на его место утвердили А. Д. Алексеева.
М. И. Шевелёв воспоминал о тех событиях: «Наши корабли попали в генеральный дрейф. Положение было серьёзное. Единственный ледокол, [который] мог помочь, был наш “Ермак”. Но именно поэтому работать нужно было очень осторожно, чтобы не погубить единственный ледокол. Тогда бы и нас выручить было некому. Вообще-то должен был помочь новый ледокол “Сталин”, но на его приёмке обнаружился ряд серьёзных неполадок. Директор и главный инженер были репрессированы. Всё это отразилось на сроках ввода ледокола в эксплуатацию. Так что “Ермаку” на помощь рассчитывать было нечего» (Шевелёв, 1999. С. 97).
Поход начался 18 августа. Море Лаптевых было свободно ото льда, но вокруг острова Котельного держался припай. Воздушная разведка, выполненная лётчиком Г. Е. Купчиным на летающей лодке, нашла благоприятную ледовую обстановку до 78° с.ш. «Ермак» продолжил движение к северу вдоль 136-го меридиана. Граница между мелководным морем Лаптевых и океанскими глубинами Центрального Полярного бассейна проходила за 75-й параллелью.
Вечером 27 августа до каравана оставалось всего 30 миль. Разводья кончились, поверхность моря покрывал сплошной белый панцирь. Под ударами ледокола тяжёлый полярный пак не раскалывался. Тем не менее, отступая назад и отыскивая слабые места, «Ермак» с разгона обрушивался на них. Благодарностью ему стали силуэты трёх кораблей каравана, появившиеся на горизонте.
М. И. Шевелёв, А. Д. Алексеев и капитан ледокола М. Я. Сорокин двое суток не покидали мостик. Их уверенность передавалась остальным членам экипажа. 28 августа «Ермак» достиг каравана. Здесь спасателей ждали с нетерпением: из пресных озёр на льдинах перекачали воду в котлы, приготовили к работе машины и механизмы, раскочегарили топки. Над трубами вился лёгкий дымок – остатки угля приходилось экономить.
В этот день «Ермак» установил рекорд свободного плавания в высоких широтах, достигнув 832 с.ш. До Северного полюса оставалось всего 420 миль. Ледокол расцветился флагами, на пароходы была передана почта, посылки, газеты. Радостной была эта встреча для моряков. Сердечно, как старого знакомого, приветствовали садковцы, седовцы и малыгинцы Алексеева: «Молодец, Анатолий Дмитриевич, сдержал слово, всё сделал, как весной нам обещал…» (Морозов. 1979. С. ИЗ).
Но торжества пришлось отложить, так как немедленно началась перегрузка угля. Расслабляться было некогда – со льдами шутки плохи.
Больше всего беспокоил «Седов». Осмотр показал, что зимним напором льда на корму было деформировано крепление руля, а сам руль изогнут в форме латинского «S». Корабль не мог управляться, его следовало взять на буксир. Пароход подтянули к корме ледокола толстым стальным тросом, но как только начинали движение, тот со свистом лопался. Изуродованный руль разворачивал «Седова» поперёк пробитого канала.
Для принятия решения руководитель морских операций западного района М. И. Шевелёв, его помощники А. И. Минаев и А. Д. Алексеев созвали капитанов и механиков судов на совещание. На совещании решено было оставить «Седова», превратив его в научную дрейфующую станцию. Экипаж для самостоятельных действий увеличили с 11 до 15 человек во главе с капитаном К. С. Бадигиным, взяв добровольцев с других пароходов каравана и ледокола. Из запасов «Ермака» седовцам передали недостающее снаряжение, продовольствие и оборудование (Белов, 1969. С. 207). 29 августа «Ермак», «Садко» и «Малыгин» ушли на юг, а «Седов» остался один в ледяной пустыне.
Обратный путь со спасёнными судами дался нелегко. Старые льды начали смерзаться в огромные поля. Случалось, «Ермак» влезал в такую кашу, что был на грани попадания в дрейф. Но проскочили!
А. Д. Алексеев, ведавший в ту навигацию воздушной разведкой в штабе морских операций, расположенном на «Ермаке», регулярно получал донесения от воздушных разведчиков – своего давнего друга и соратника М. И. Козлова, И. И. Черевичного, Е. Н. Николаева и других лётчиков, которые обеспечивали ледовую разведку для судов. В своём журнале Алексеев часто отмечал новые и новые успехи молодых авиаторов, многие из которых были его учениками. Приятно было Анатолию Дмитриевичу убеждаться в том, что молодые лётчики стараются проникать как можно дальше, запечатлевать на своих картах и фотоснимках как можно больше (Морозов, 1979. С. 107–109).
В этой экспедиции Алексеев также проявил себя исследователем. Как отмечал В. Ю. Визе, результатом экспедиции на «Садко» в 1937–1938 гг. и полётов А. Д. Алексеева к северу и северо-востоку от Новосибирских островов весною 1938 г. можно считать установленным, что Земли Санникова не существует (Визе, 1939. С. 390).
Выполняя полёты в Арктике, имея напряжённый график, Анатолий Дмитриевич продолжал работать над теоретическими проблемами дрейфа льдов полярного бассейна, основанные на его наблюдениях во время ледовых разведок. В майском номере журнала «Советская Арктика» вышла совместная с его штурманом Н. Жуковым статья, посвящённая льдам центральной части полярного бассейна. В ней авторы рассматривают различные состояние льда, его дрейф и возможность посадки тяжёлых самолётов на ледяные аэродромы (Алексеев, Жуков, 1938. С. 33–36).