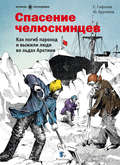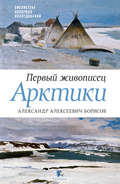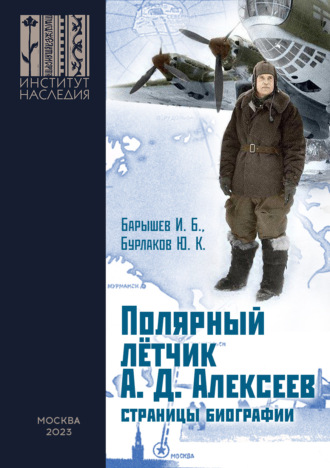
Ю. К. Бурлаков
Полярный лётчик А. Д. Алексеев. Страницы биографии
5 Высокоширотная воздушная экспедиция «Север-1» по высадке первой дрейфующей станции «Северный полюс» (1937 г.)
Успешные полёты советских полярных лётчиков вызвали идею о возможности организации доставки в район полюса группы научных работников, которую поддержали многие исследователи Арктики. Реализацию этой идеи взял на себя О. Ю. Шмидт. В 1935 г. он предложил Михаилу Васильевичу Водопьянову (1899–1980) разработать технический план полёта на Северный полюс посадкой на нём самолётов. Кроме Водопьянова, к работе над планом воздушной экспедиции были привлечены известные деятели полярной авиации – её руководитель М. И. Шевелёв, лётчики А. Д. Алексеев и В. С. Молоков (илл. 42,43), штурманы Н. М. Жуков, А. А. Ритсланд и другие (Сузюмов, 1981. С. 38). Водопьянов писал в те годы: «Я был несказанно обрадован, когда узнал, что в экспедиции примут участие лучшие полярные пилоты – Герой Советского Союза В. С. Молоков и лётчики-орденоносцы М. С. Бабушкин и А. Д. Алексеев. Их решение намного облегчало работу. Всем известно, какой огромный авторитет завоевали своим искусством эти пилоты. Выполнять с ними вместе одно и то же задание – мечта многих советских лётчиков» (Водопьянов, 1937. С. 51.)
Большинство наших специалистов, основываясь на опыте западных полярных исследователей и личных полётов надо льдами Арктики, настаивало на выбросе с парашютами как груза, так и людей. Дискуссия перешла на страницы центральной прессы. Видные лётчики, например, Герои Советского Союза Маврикий Трофимович Слепнёв (1896–1965) и Иван Васильевич Доронин (1903–1951), спасавшие челюскинцев, считали десант более безопасным, нежели посадка на выбранную с воздуха льдину. Было и такое предложение: многомоторные самолёты-авиаматки везут на себе лёгкие одномоторные самолёты, которые опускаются на льдину и готовят посадочную полосу для больших самолётов.

Илл. 42. Участники экспедиции «СП-1»: В. С. Молоков (1), О. Ю. Шмидт (2), М. В. Водопьянов (3), А. Д. Алексеев (4). Фото из открытых источников
Меньшая часть полярных лётчиков – пилоты и штурманы ледовой разведки Водопьянов, Молоков, Жуков, Аккуратов и Алексеев (илл. 42,43) стояли за вариант непосредственной посадки на льдину, выбранную с воздуха, многомоторных самолётов с людьми и грузом.

Илл. 43. Командиры самолетов экспедиции на Северный полюс, 1937 г. Слева направо: М. В. Водопьянов (1), А. Д. Алексеев (2), И. И. Мазурук (3), В. С. Молоков (4). Из домашнего архива Д. А. Алексеева
Участвуя в этой дискуссии, А. Д. Алексеев, в частности, утверждал, что «рассчитывать на хороший естественный аэродром на полюсе не приходится. <…> Там могут оказаться ровные площадки в виде молодого, тонкого льда между торосистыми полями. Но они не выдержат веса тяжёлой машины. Старые же ледяные поля, толщиной пять-шесть метров, всегда покрыты торосами от одного до шести метров.
Вполне вероятной кажется мне возможность найти сравнительно мало торосистую площадку, которую четыре-пять человек в течение трёх-четырёх дней могли бы превратить в основной аэродром.
Поэтому весь вопрос сводится к высадке на полюсе первой партии людей, которые могли бы найти и разровнять поле для аэродрома» (Водопьянов, 1974. С. 157). Эта дискуссия свидетельствовала о том, что лётчики с огромным вниманием относятся к экспедиции на полюс.
После разработки ряда проектов, окончательно был выбран один – направить на полюс тяжёлые четырёхмоторные самолёты с посадкой их прямо на лёд, без предварительной подготовки аэродрома на льдине (Шмидт, 1940. С. 13).
Для экспедиции были выбраны самолёты конструкции Андрея Николаевича Туполева (1888–1972) АНТ-6 (илл. 44), обладающие большой грузоподъёмностью, уже испытанные на дальних перелётах. Каждая машина могла спокойно продолжать полёт на трёх двигателях, если четвёртый почему-либо надо выключить. Полётный вес каждой машины – 23,5 тонны – позволял брать горючего и масла на 2600 км полёта и 2,5 т полезного груза. Машины были снабжены моторами АМ-34 конструкции Александра Александровича Микулина (1895–1985), модернизированными и приспособленными к арктическим условиям (быстрый подогрев и запуск на сильном морозе). Кабины машин были герметизированы, чтобы внутрь не мог проникнуть снег. Большое внимание было уделено навигационному и радиооборудованию (Морозов, 1979. С. 61).

Илл. 44. Самолёт АНТ-6. Фото из открытых источников
Когда Б. Г. Чухновский узнал, что Алексеев включён в состав воздушной экспедиции на Северный полюс, так говорил ему: «Вот не дожили до наших дней ни Нансен, ни Амундсен. <…> Они бы тебе, Анатолий, позавидовали, как я нынче завидую…». Алексеев почтительно возражал: «Ну что вы, Борис Григорьевич, это мы, будущие полюсники, должны вам завидовать, вашему стажу и пионерному опыту. Все мои сверстники в долгу у вас, дорогой командир…» (Морозов, 1979. С. 58).
Начало исторической экспедиции на Северный полюс приходится на 11 марта 1937 г. Её руководителем утвердили начальника Главсевморпути О. Ю. Шмидта (илл. 42), заместителем по лётной части – начальника Полярной авиации М. И. Шевелёва, командиром авиаотряда и флагманского самолёта – М. В. Водопьянова. В экипаж флагмана «СССР Н-170» вошли также М. С. Бабушкин – второй пилот, И. Т. Спирин – штурман, С. И. Иванов – радист, Ф. И. Бассейн, К. М. Морозов и П. П. Петенин – механики. Экипаж самолёта «СССР Н-172» возглавил А. Д. Алексеев, вторым пилотом пошёл М. И. Козлов, штурманом – Н. М. Жуков, механиками – К. Н. Сугробов и В. Г. Глинкин. Всего самолётам предстояло перебросить в район Северного полюса 10,5 тонн груза (Визе, 2008. С. 194).
Самый маститый по арктическому стажу (с 1928 г.) А. Д. Алексеев был вместе с тем и самым молодым по налёту часов в пилотской должности (Морозов, 1979. С. 60).
Водопьянов писал о лётчиках экспедиции: «Технически совершенная материальная часть находилась в руках замечательных людей – испытанных и до конца преданных своей родине полярников. В числе пилотов экспедиции – такие выдающиеся люди, как Герой Советского Союза В. С. Молоков и орденоносец М. С. Бабушкин. <…> Командир третьей машины – замечательный полярный лётчик-орденоносец А. Д. Алексеев» («Известия», 22.05.1937; Водопьянов, 1937. С. 153, 154). Много тёплых слов об Анатолии Дмитриевиче написал Водопьянов: «Внешне Алексеев мало похож на лётчика, да ещё полярного. В первую минуту можно подумать, что он белоручка. Но в полярной авиации хорошо знают, что ему приходилось бывать в труднейших переделках, и он всегда с честью выходил из них.
<… > Алексеев – блестящий полярный лётчик. Я всегда восхищался его искусством пилотирования и самолётовождения, в котором он соединил богатый опыт как штурмана, так и пилота. <…>
…Командир самолёта “Н-172”, Анатолий Дмитриевич Алексеев, умеет покорять и нелётную погоду. Однажды в весеннюю ростепель, в тумане, рискуя жизнью, он на летающей лодке вывез с одной из самых северных полярных станций больного зимовщика…» (Водопьянов, 1939. С. 68; Водопьянов, 1974. С. 144, 147).
В беседе с корреспондентом «Восточно-Сибирской правды», Водопьянов отмечал: «Тов. Алексеев долгое время работал штурманом. Приобретённый опыт помогает в совершенстве ориентироваться при самых тяжёлых метеорологических условиях Заполярья» («Восточно-Сибирская правда», 23.05.1937 г.).
Советская писательница В. А. Герасимова писала об Алексееве: «Накануне исторического перелёта из Москвы на полюс орденоносец, герой ледовых разведок Анатолий Дмитриевич Алексеев говорил с улыбкой, в которой много сдержанной гордости:
– Вдумайтесь прежде всего в то обстоятельство, что замечательные машины, на которых мы полетим, – целиком советского производства.
Замечательный закрытый лимузин, металлические части которого пропущены через лучи нашего же рентгеновского аппарата, специально утеплённая масляная и водяная магистраль, сложная и тонкая система подогрева моторов и даже великолепная лисья шуба, которая, быть может, и не понадобится в этой искусно отеплённой машине, – всё это родилось на нашей земле.
Обычно сдержанный, скупой на слова, Анатолий Дмитриевич Алексеев ещё долго и взволнованно говорил о заботливой предусмотрительности конструкторов машины, о технических её совершенствах, о лётных её возможностях.
Он умалчивал только об одном: о водителях этих машин, о героических и скромных людях советской авиации.
В годы гражданской войны Алексеев добровольцем вступил в ряды Красной Армии. Участвуя в разгроме белогвардейских разбойничьих банд Антонова, в ранней молодости он проходит раскалённое горнило гражданской войны, навсегда усваивая себе её поучительные суровые уроки. <…>
Вот полёт товарища Алексеева на Северную Землю за больным зимовщиком. Полёт был трудным, рискованным. Особенно трудна была посадка у скалистых берегов острова С. Каменева – и именно тогда безаварийный советский лётчик Алексеев пошёл, как он выражается, на “сознательный бой машины” <…> и здесь победило его высокое искусство: при головоломной посадке гидросамолёт не разбился – только дал течь.
Ещё эпизод. “Красин” затёрт льдами. Стоит уже около месяца. Всё время дует свирепый норд-ост. Ледовая разведка даёт мрачную картину. Лётчик, ведущий разведки в течение месяца, настроен безнадёжно.
– Но, – спокойно вспоминает товарищ Алексеев, – пришлось не согласиться с ним. Ведь наше дело меньше всего можно считать каким-то чисто “техническим”, неосмысленным, построенным на простой “ловкости рук”. В него включены чисто творческие моменты: интуиция, догадка, изобретательность – всё, вплоть до научного открытия. <…> Меня сразу же заинтересовало, что твориться на архипелаге Норденшельда. <…> Я сопоставил ряд признаков <…> и когда мне, наконец, удалось проникнуть на архипелаг Норденшельда, – я убедился, что лёд действительно местами треснул и разошёлся. А затем мне стало очевидно, что достаточно измениться ветру, как образуется открытый береговой путь. <…> Впоследствии догадка моя целиком оправдалась. И в то время, как другие транспорты безнадёжно путались во льду, убивая силы, время и уголь, “Красин”, следуя моим прогнозам, <…> спокойно двинулся и пришёл раньше всех ленских судов. <…>
По трассе разведок Алексеева и его товарищей, по побережью Северного Ледовитого океана возникла цепь советских зимовок и баз для регулярного лётного обслуживания далёких, заснеженных, пустынных мест.
И слова, которыми пилот Алексеев закончил свою беседу накануне великого перелёта, были:
– Не сомневаюсь, что выдержат и моторы, и крылья, и люди!
Белокурый, высокий, он уверенно и спокойно стоял у карты арктических перелётов.
Он, этот многосторонне развитой, сильный и спокойный пилот Советской страны:
– Яне фантазёр, а человек практического дела. Но и мне случалось мечтать о великих и сложных перелётах на благо нашей Родины!» (Герасимова, 1937. С. 163–167).
Начальник экспедиции на Северный полюс О. Ю. Шмидт писал об Анатолии Дмитриевиче: «Очень своеобразную фигуру в лётном мире представляет командир “Н-172” А. Д. Алексеев. В прошлом радиоинженер, затем штурман, наконец, лётчик, т. Алексеев хорошо знает все авиационные специальности, притом знания эти всё время расширяются. Анатолий Дмитриевич много читает, следит за всеми новинками, немедленно теоретически перерабатывает каждый новый опыт, часто приходя к готовым оригинальным выводам. Мы так и называли Анатолия Дмитриевича “лётчиком-мыслителем”. С Алексеевым иногда не легко. Для него величайшее наслаждение – спорить. Он <…> как-то своеобразно подходит к каждому вопросу, даже взлетает и садится не как другие, а по-своему, но выходит всегда хорошо и талантливо. Лёд и морскую авиацию он знает глубоко. Это хороший командир, умеющий воспитать дух товарищества и прекрасно распределяющий работу» (Шмидт, 1937. С. 182).
Перед вылетом пилот Я. Д. Мошковский обратился за советом к Алексееву, «энциклопедически образованному полярному лётчику»:
«– Как полагаете, Анатолий Дмитриевич, что из вещей следует взять с собой на полюс?
Он ответил коротко:
– Главное – не забудьте брезентовые рукавицы, чтобы бочки с бензином катать…» (Мошковский «а», 1938. С. 4).
21 марта участники экспедиции загрузили и отправили в Архангельск товарный вагон с частью багажа и лыжными шасси, чтобы не перегружать самолёты, взлетающие с раскисшей полосы.
Приказом № 9 по УПА ГСМП от 31.03.1937 г. экипажам, участвующим в Северной экспедиции, установили оклады, в том числе экипажу Алексеева (РГАЭ, Ф. 9570, Оп. 2, Т. 2, Д. 2962):
«Экипаж на корабле Н-172
Командир корабля тов. Алексеев А. Д. 1000 р.
Штурман тов. Жуков Н. М. 500 р.
Второй пилот тов. Козлов М. И. 500 р.
Первый бортмеханик тов. Сугробов 500 р.
Второй бортмеханик тов. Шмандин 400 р.».

Илл. 45. Схема полёта экспедиции к Северному полюсу
Сбор на аэродроме назначили на 5 часов утра следующего дня. В назначенный срок на аэродроме собрались все участники экспедиции. Самолёты стояли в разных местах аэродрома. Водопьянова и Мазурука – около центральной станции, Молокова и Алексеева – вблизи ангара ЦАГИ. Выкрашенные в ярко-оранжевый и синий цвета, самолёты выглядели очень нарядными. Водопьянов переговорил с командирами кораблей и установил порядок взлёта: первым на старт идёт флагманский самолёт, за ним Молоков, Алексеев, Мазурук и Головин. Один за другим заработали моторы машин. Однако с некоторыми двигателями случились перебои из-за остывшего антифриза. Механики спешили удалить неисправность. В это время к самолёту Водопьянова подошёл Алексеев и доложил, что через десять минут его самолёт и самолёт Молокова будут готовы к вылету Наконец машины стали выруливать на старт и в 12.30, поднимая колёсами фонтаны талой воды, поднялись в воздух, взяв курс на Север (илл. 45) (Водопьянов, 1937. С. 207–210; Морозов, 1979. С. 61).
Журналист, член редколлегии журнала «Советская Арктика», парторг экспедиции Александр Анатольевич Догмаров (1901–1938) перечислил тех, кто летел в машине Алексеева: «Я вылетел из Москвы на самолёте Алексеева. Экипаж самолёта: Алексеев – первый пилот, Козлов – второй пилот, штурман Жуков, бортмеханики Константин Сугробов, Гинкин и 24-летний Ваня Шмандин, самый молодой член нашей экспедиции.
На нашей машине, кроме названных товарищей, были: начальник зимовки на Северном полюсе И. Папанин, научные сотрудники – магнитолог-астроном Е. Фёдоров, гидробиолог П. Ширшов, а также кинооператор экспедиции Марк Трояновский» (Догмаров, 1938. С. 77).
Летели, низко прижатые облаками, часто попадая в заряды мокрого снега. «Впереди шёл Водопьянов. <…> За Михаилом, привалившись к нему на 50-100 метров, шёл “прилипнув” Мазурук» <…> и где-то, то теряясь, то появляясь, Алексеев» (Бронтман, 2004). Недалеко от Архангельска Водопьянов заметил отсутствие самолёта Алексеева и доложил об этом Шевелёву. Тот вызвал по радио самолёт Алексеева: «Алло, алло! 172, 172… Что случилось, почему вы отстали?» Оказалось, что Алексеев просит убавить скорость, так как ему трудно догнать группу. Однако Шевелёв сказал, что у экипажа Алексеева всё в порядке, и они могут добраться до Архангельска самостоятельно (Водопьянов, 1937. С. 214–215).
Первая посадка состоялась на большом поле возле села Холмогоры, так как аэродром в Архангельске подтаял, и там не могли принять тяжёлых кораблей. На аэродроме лежал почти метровый слой снега, и огромные, в человеческий рост, колёса самолётных шасси, вращаясь, поднимали настоящую пургу (Морозов, 1979. С. 61). А. Догмаров писал об этом эпизоде следующее: «В 17 часов показались льды Северной Двины. Архангельск остался слева, в тумане. Корабли взяли курс на Холмогоры. Там уже всё было готово к их приему. Горели сигнальные костры, ждали люди. В 17 часов 38 минут Водопьянов повёл свой самолёт на посадку. Следом за ним приземлились машины Молокова и Мазурука, и последней – наша машина – Алексеева. Большие колёса самолётов проложили глубокие траншеи в двухметровом снегу. Над аэродромом поднялась туча снега.
Через несколько секунд нас окружили холмогорские колхозники» (Догмаров, 1938. С. 77). Всего в полёте пробыли 5 часов 13 минут.
24 марта, за завтраком, произошло совещание. Стоял вопрос – на чём дальше лететь? Козлов предложил идти на лыжах, но взять с собой колеса, с тем, чтобы можно было варьировать. Большинство поддержало, заявив, что лыжи очень хрупкие и легко могут пострадать. Шмидт предложил высказываться:
«Алексеев:
– По-моему, даже на полюсе вернее сесть на колесах.
Мазурук:
– Я подсчитал. У меня всякого груза запасных частей около 800 кг. Машины наши прекрасные. А мы по старой привычке, не умея летать культурно, возим с собой целые ремонтные заводы. Я могу сбросить 400 кг и вместо них взять колеса.
Водопьянов:
– Я против колес. И на Рудольфе, и на всём архипелаге – гладкие плато. Отлично сядем на лыжах. А везти колёса – не только лишний вес, но и потеря скорости.
Бабушкин:
– А нельзя ли послать к 3ФИ ледокол с колесами?
Шмидт:
– Можно конечно. “Ленин” пройдет в Тихую легко. В этом году льду стало очень мало, может быть, даже Британский канал открыт.
Алексеев:
– Я против того, чтобы впрягать коня и трепетную лань (под ланью я подразумеваю ледокол). Лучше сделать посадку в Маточкином Шаре.
Шмидт:
– Всякой посадки нужно избегать, как огня. Тем более – в Мат. Шаре, где очень опасное место из-за стоков [имеется в виду бора – ураганный ветер, характерный для Новой Земли. – Авт.]. Ледокол же может прекрасно все доставить. Не хватит угля – пусть поведёт с собой угольщика и оставит у кромки. А машины, независимо от всего, надо основательно всё проверить, перевесить весь груз и оставить всё лишнее.
Алексеев:
– Что ж, чем меньше посадок, тем лучше. Лететь вообще не трудно, самое сложное дело – взлетать. Нам деньги платят не за полёты и посадки, а за взлёты».
В Холмогорах члены экспедиции отдыхали. Вот как участник экспедиции журналист Бронтман описывает день 27 марта: «Спирин почти весь день просидел над картами, прокладывая путь в Нарьян-Мар. Карты – чудные. На одной – река течет на север, на другой – на юго-запад. На одной село называется так, на другой – по-другому и т. д.
Шмидт, Водопьянов, Бабушкин и Иванов до одури режутся в “козла”. Счастье переменно.
Затем герой неистово играет на бильярде. Я раз сел и неплохо сыграл в шахматы с Отто Юльевичем. “Яне знаю усталости”, – говорит он.
Дагмаров предложил Головину книгу Виноградова о Паганини. Головин охотно взял, но сокрушенно заметил:
– Мало я скрипку слушал – не все дойдет!
Философически настроенный Алексеев разглагольствует о станциях метро и говорит об Анатоле Франсе».
Тем временем на аэродроме самолёты «переобули», поставив с колёс на лыжи, что потребовало доброй недели работы. Алексеев и его товарищи с трудом нашли пригодную для взлёта, не тронутую проталинами снежную полосу. 29 марта группа вылетела в рейс. Во время разбега самолётов из-под лыж вздымались мокрые снежные комья, забивая радиаторы моторов (Морозов, 1979. С. 61).
Следующая посадка была в Нарьян-Маре (илл. 46), где ещё сохранялось подобие зимней погоды – термометр показывал минус 16 °C. Сам Анатолий Дмитриевич отмечал: «На превосходном Нарьян-Марском аэродроме как будто самой природой сделанного для рекордных полётов посадка не представляла трудность» (РГАЭ. Ф. 1147). Выйдя из самолёта на лёд р. Печоры, Алексеев крикнул: «Поздравляю вас, товарищи, наконец-то мы удрали от весны. С такого аэродрома можно поднять в воздух любой груз» (Водопьянов, 1974. С. 179). Своему второму пилоту М. И. Козлову Анатолий Дмитриевич облегчённо сказал: «Ну поздравляю, Матвей Ильич. <…> Нагнали мы с тобой зиму, как будто». Козлов с иронической усмешкой отозвался: «Ох, командир, не говори “гоп”». И оказался прав (Морозов, 1979. С. 62).

Илл. 46. Дом в г. Нарьян-Маре, в котором отдыхала часть экспедиции. Фото А. Попова. 2022 г.
Опять встал вопрос, что делать с колёсами. Несмотря на категорическое сопротивление Алексеева («меня не могут убедить, мне могут приказать»), решили колеса оставить здесь и дальше лететь только на лыжах.
В ночь перед намеченным вылетом выпал глубокий и липкий снег. Пять раз головной самолёт Водопьянова выруливал на старт. Но всё было бесполезно. Приняли решение слить по две тонны горючего с каждого самолёта и лететь не до о. Рудольфа, а на полярную станцию «Маточкин Шар», где имелось резервное топливо (Сузюмов, 1981. С. 49).
Погода мешала взлёту. Однако экипажи и члены экспедиции не только отдыхали, но и занимались своими делами – готовили карты, инструменты, аппаратуру. Вечером 3 апреля Алексеев вдруг собрался на аэродром:
«– Чего?
– Посмотреть воду.
С моря на лёд Печоры нагоняло воду. Приехал, успокоившись». На следующий день он опять уехал на аэродром переруливать машину от воды подальше (Бронтман, 2004).
На очередном совещании Анатолий Дмитриевич отмечал: «Печорская губа – очень важный участок. Она покрыта невзломанным льдом. На высоте 100 м вы не можете лететь по земным ориентирам. Слепой полёт на наших перегруженных машинах невозможен. Гладкий лёд – может вмазать. Если вода – заметишь её тогда, когда вмажешь. Варнек, Амдерма, Маточкин Шар – закрыты. Я – за поздние сроки вылета. Обледенение немедленно остановит приборы» (Бронтман, 2004).
Наконец, после 12 дней пребывания в Нарьян-Маре, погода благоприятствовала экспедиции. Водопьянов взлетел только со второй попытки, вслед за ним поднялись Молоков и Мазурук. А вот самолёт Алексеева с Иваном Дмитриевичем Папаниным (1894–1986) на борту никак не мог оторваться. Чтобы не расходовать бензин, решили не ожидать его и лететь на Новую Землю, а Алексееву – догонять. Здесь, по выражению инженера экспедиции Владимира Николаевича Бутовского (1908 —?), Анатолий Дмитриевич «перешаманил». Алексеев, по его мнению, вообще очень много и ненужно экспериментировал. В Нарьян-Маре вдруг решил, что с примерзанием лыж лучше всего бороться, поставив самолёт на еловые ветки. Папанинцы поехали в лес, привезли воз веток. Чтобы поставить лыжи на ёлки – надо поднимать машину на домкратах. Стали поднимать – погнули подкос. Ремонт. К слову сказать, и с этих ёлок машина съехала куда с большим трудом, чем другие (Бадигин, 1950. С. 117).
В итоге пришлось садиться и в Маточкином Шаре на Новой Земле. Здесь, дожидаясь лётной погоды, экспедиция провела несколько дней. Здесь один экипаж едва не лишился возможности принимать участие в дальнейшем полёте. Об этом случае упоминает штурман Аккуратов: «Зная о господствующем направлении страшного ветра “бора”, достигающего ураганной силы, все командиры кораблей поставили свои самолёты на якорных стоянках носом к предполагаемому направлению ветра, крепко привязав их к брёвнам, заделанным в лёд пролива. Командир “СССР Н-172” А. Д. Алексеев, не веря в надежность такого крепления, рассудил по-своему: самолёт, стоя носом к ветру, благодаря углу атаки крыльев и стабилизатора будет стремиться при сильном ветре оторваться от земли и тем усиливать напряжение тросов крепления; если же поставить самолёт строго хвостом к ветру, то сила ветра, благодаря обратному углу атаки, будет прижимать самолёт к земле и тем самым ослаблять напряжение тросов крепления. Теоретически он был прав. Обладая большим авторитетом среди лётного состава, А. Д. Алексеев нашел даже последователей, но, к счастью, неожиданно обрушившийся ветер не позволил переставить самолёты по его способу.
Начавшийся в ночь на 15 апреля “бора” задул с такой силой, что двухмоторный самолёт “СССР Н-166”, стоя на привязи, подпрыгивал на лыжах, а винты всех кораблей медленно, как мельница, проворачивались. Чтобы пробраться от зимовки к якорной стоянке, приходилось ползти вдоль натянутого троса, отдыхая через каждые 5–7 метров, так как глаза и ноздри забивала снежная пыль.
Находясь в самолёте на вахте, мы с ужасом сознавали, что можем быть только пассивными наблюдателями, так как никакой реальной помощи самолётам против этой разъяренной стихии оказывать не могли. Как удары тяжёлого молота, обрушивался ветер на корабли, отчего возникали дикие, ноющие звуки в крыльях и пронзительный свист в антеннах. На лыжах быстро нарастали сугробы наметенного снега. Этот снег был нашим помощником: засыпая лыжи, он своей тяжестью помогал удерживать самолёты на месте.
Каждый раз, как только после смены вахты, полу замерзшие, превращённые в оледенелый ком, мы вползали в кают-компанию зимовки, сейчас же отыскивали кого-нибудь из экипажа Алексеева и спрашивали: “Ну, как, держится?” – “Отлично, как вкопанный”, неизменно отвечали нам. Кажется, всё было хорошо. Ветер уже стал затихать, как вдруг в кают-компанию ввалился бортмеханик Сугробов и, мрачно сплюнув, проговорил, отдирая сосульки льда от бровей: “Чертова теория, всегда она ничто без практики. Оторвало хвост”, закончил он, тяжело опускаясь прямо на пол. Быстро одевшись, все бросились к самолёту.
Сквозь тучи снежных игл, бросаемых порывами ветра, было смутно видно, как у высокого хвоста “СССР Н-172” возились люди, закрепляя оторванный руль поворота деревянными брусьями. Был сломан баллер [ось для вращения руля. – Авт.] руля. Ошибка Алексеева заключалась в том, что он не учёл изменения направления ветра, когда он стал затихать. Это направление изменилось градусов на тридцать, и боковой ветер сломал руль. Еще хуже чувствовали себя мы. Наш “СССР Н-169” был запасным, и если руль нельзя исправить, то снимут наш и поставят на “СССР Н-172”, а экипаж останется на Маточкином Шаре» (Аккуратов, 1947. С. 50–52).
Положение спасли золотые руки наших бортмехаников – Сугробова, Шекурова, Бассейна, Бутовского и инженера Тимофеева: «…вечером штормом у него [самолёта Алексеева. – Авт.] подломило руль поворота, набило <…> снега в хвост. <…> Сугробов пытался снять руль, чтобы исправить – невозможно. Пурга свирепствует по-прежнему. Осмотрев руль Сугробов пришёл к нам в комнату и сказал: “Ломайте его до конца. Я лучше новый сделаю, чем этот ремонтировать”. <…> В мастерской <…> ребята без отдыха чинили кабан Алексеевского стабилизатора. <… > Но к нашему отлёту они всё равно не успевали, а потому решено было лететь без “Н-172”. В связи с этим с машины были сняты папанинцы, <…> папанинский груз.
17 апреля… Воспользовавшись временным затишьем, решили поставить руль на место. <…> Вынесли на руках руль, уложили на нарты, повезли к самолёту. <…> На других нартах <…> подвезли стремянки и доски. Приготовили стремянки, шесты, увязали канатами верхушку руля. <…> Начали поднимать 4,5 метровую громадину. <…> Перебирая на руках, подставляя стремянки и влезая на них, подняли, наконец, руль. Механики немедленно начали его крепить.
Ваня Шмандин влез на самый верх киля верхом и, балансируя под ветром на 8-ми метровой высоте, крепил верх. А ветер начал усиливаться, рвать, быстро достиг 6–7 баллов, начало мести. Вовремя мы успели поставить. Папанин влез в фюзеляж и изнутри <…> крепил кабан. Мы приготовили две струбцинки и закрепили руль, затем расчалили его на канатах. Провозившись два часа, закончили и ушли. Машина снова была в строю» (Из дневников журналиста Л. К. Бронтмана. Раздел «Экспедиция Папанина на Северный полюс. Часть 2. 1937 г.).