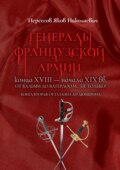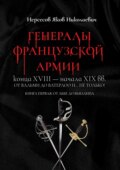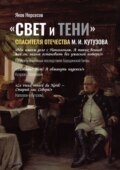Яков Николаевич Нерсесов
«Свет и Тени» «виртуальных» маршалов генерала Бонапарта: одни …; другие – …; и наконец, те,…
…Между прочим, единственное до чего у Грибоваля «не дошли руки» – это конная артиллерия и вопросы обороноспособности артиллерийской прислуги. Эти важнейшие вопросы он предоставил решать военачальникам революционной Франции, а совершенствовать их… выдающемуся артиллеристу-практику Наполеону Бонапарту, причем уже в преддверии кровавой эпохи наполеоновских войн, т.е. в самом начале XIX в. Jedem das seine…
Так артиллерия приобрела мобильность и чрезвычайную гибкость.
Теперь маневренные орудия, объединенные в конные батареи (по 8 штук), могли наносить массированные огневые удары по наиболее уязвимым местам обороны противника. Если менялась боевая обстановка, кавалерийские батареи (в отличие от пешей артиллерии, чьи канониры обычно шли пешком рядом со своими пушками, их прислуга передвигалась верхом на лошадях, что было быстрее, нежели когда она ехала на орудийных лафетах, передках или зарядных ящиках и, тем самым, увеличивала массу орудия), словно «гончие спущенные со сворок», получили возможность быстро срываться с места галопом без передков, нестись вперед и занимать новые позиции. Их можно было усилить новыми орудиями или, наоборот, расформировывать. Каждая батарея составляла единую команду. Она была очень подвижна и стреляла залпами.
Заряжали орудия быстро. Если раньше надо было сначала отмерить нужную порцию пороха, засыпать ее в канал, забить деревянную пробку и только потом вложить заряд, то теперь зашивали снаряд вместе с заранее отмеренным количеством пороха в «картузы» – холщовые мешки. Последние, хотя и не представляли собой новейшее изобретение, но позволили серьезно увеличить скорость стрельбы по сравнению с заряжанием рассыпным порохом и затем ядром. Поскольку Грибоваль разработал шкалу прицела и улучшил винтовой механизм вертикальной наводки (поднимающийся/опускающийся ствол давал более точную наводку), то это существенно повысило точность французской артиллерии.
Наступающие колонны противника встречали плотным огнем, способным остановить целые дивизии. На дальние расстояния стреляли ядрами. Для разрушения полевых земляных укреплений и поражения живой силы использовали бомбы и гранаты (той же конструкции, что и бомбы, но меньшего диаметра). Если же враг был рядом и готовился штурмовать батарею, в его порядки в упор выпускали картечь – снаряды, состоящие из обвязанных просмоленной бечевой или уложенных в жестяные картузы (цилиндры) свинцовых или чугунных пуль.
К началу XIX в. артиллерия стала мощным, подвижным и действительно грозным родом войск. Ей стали придавать особое значение. Пройдет совсем немного времени и для ведения сосредоточенного огня на месте предполагаемого прорыва пехоты начнут формировать «большие батареи» примерно из 100 пушек: если под Ваграмом у французов окажется немногим более двух орудий на тысячу солдат, то спустя три года – под Бородино – их будет уже целых три, дальше – больше.
Уходили в прошлое старые добрые времена, когда противники выстраивались в линии друг против друга и даже учтиво предлагали друг другу право дать первый залп.
…На эту тему даже сохранился крайне занимательный исторический анекдот, в основе которого лежала быль.
Якобы в ходе войны за Австрийское наследство (1740 – 1748 гг.) в известной битве при Фонтенуа 10 мая 1745 году французская и англо-ганноверская гвардии сошлись без единого выстрела на расстояние около 50 шагов. Высокородные офицеры с обеих сторон стали соревноваться в галантности, любезно предлагая друг другу, сделать первый выстрел: «О нет, господа мы никогда не стреляем первыми!». На самом деле все прекрасно понимали, что сторона, которая даст залп первой, окажется в проигрыше – по сути дела она останется безоружной на несколько минут, пока солдаты будут перезаряжать оружие. В конце концов, англичане взяли и дали первыми залп, который оказался таким убийственным, что половина французской гвардии полегла, а оставшаяся часть без командиров дрогнула и побежала…
Правда, по другой версии все было отнюдь не так красиво и галантно.
Командующий английской армией герцог Камберленд решив прорвать центр французской позиции, смело повел 14-тысячный ударный отряд ганноверско-английских гвардейцев вперед. Размеренным парадным шагом подойдя к французским позициям, он приказал выровнять ряды перед решающим таранным ударом. В этот момент некий подполковник лорд Чарльз Хэй, взял и вышел перед строем. Обратившись к противостоящим ему французским гвардейцам Людовика XV, Хэй вынул армейскую фляжку с ромом, рявкнул какой-то тост во здравие английского короля и хорошо приложился к ней. Потом лорд Чарльз отсалютовал обалдевшим французам троекратным «Ура!», дружно поддержанным его гвардейцами и скрылся в их рядах. Пока изумленные французские гвардейцы кричали ответное «Ура-а-а-ааа!!!», англичане грохнули такой залп, что в центре французской обороны образовалась огромная дыра – замертво рухнуло сразу 460 солдат и офицеров…
Примечательно, что французы благодаря таланту своего маршала Морица Саксонского (1696 – 1750 гг.) все же выиграли эту так оригинально и неудачно начавшуюся для них битву. В последний момент герцоги де Бирон и д`Эстре сумели нанести сокрушительный удар конной лейб-гвардий французского короля Людовика XV – La Maison du Roi – лично наблюдавшего за побоищем. И уже было торжествовавший победу, герцог Камберленд вынужден был уносить ноги, окруженный лишь горсткой офицеров…
С началом революционных войн, которые повела Франция за свою независимость, все начало серьезно меняться. В сражениях стали участвовать огромные массы пехоты. Глубокие колонны атаковали боевые порядки противника в том пункте, от которого зависела участь боя. Эта тактика требовала огромных жертв людьми. Но смерть в эпоху революционных войн Франции была ничто, если «Patrie en danger!» (Отечество в опасности!) Тем более, что полузабытый вскорости Руже де Лилль уже обессмертил свое имя легендарной «Марсельезой», со словами которой на устах голодные, оборванные и босые французы погибали за «Liberte! Egalite! Fraternite! (Свободу! Равенство и Братство!)
Важна была победа любой ценой!
С солдатами революции нельзя было заниматься сложными маневрами: они не были высокопрофессиональны.
Искусство маневрирования приходилось заменять быстротой передвижения! Революционный маневр был маневром быстроты!
Это было веление времени.
…Между прочим, на самом деле идея использования войск в атаке колоннами уже давно витала в военных умах. Не исключено, что чуть ли не первым ее высказал в своих сочинениях французский военный писатель Жан Шарль Фолар (1669—1752), причем, еще во времена расцвета линейной пехотной тактики, по крайней мере, так принято считать в западной исторической литературе. Среди отечественных историков сложилось твердое мнение, что еще в пору первой русско-турецкой войны (1768—1774) в середине XVIII в. выдающийся российский полководец Петр Александрович Румянцев, не отказываясь от тактики ведения боя в рассыпном строю, умело сочетал его с действиями колонн и каре в зависимости от особенностей местности. Румянцевские войска умело отражали нападения вражеской конницы, будучи в колоннах, прикрытых густой цепью стрелков и огнем пушек. Он стал собирать войска в ударную группу на решающем участке фронта и бросать ее на противника, ведя бой до полного его уничтожения. Уже тогда в России нашлись незаурядные военные умы, весьма внимательно (если не сказать, очень пристально) и высокопрофессионально следившие за всеми румянцевскими переменами в российской армии. В частности, исключительно амбициозный и болезненно честолюбивый современник Румянцева – А. В. Суворов, видевший во всех своих «коллегах по смертельно-кровавому ремеслу» конкурентов в гонке за славой Первого Полководца Своего Времени. Развивая свою «науку побеждать», он заинтересованно (или даже завистливо?) наблюдал за новациями Петра Александровича в боях с турками, внося в них свои концептуальные идеи, шлифуя на учениях и, доводя до ума в боях, где любая ошибка не только вела к смерти солдат, но если их (ошибок) оказывалось много, то и к проигрышу. Уже тогда, т.е. в ходе все той же войны русских с турками, Александр Васильевич старался варьировать и сочетать различные виды построений войск (колонна, каре, линии) в зависимости от ситуаций (рельефа местности, тактико-технических характеристик противника), делавших их максимально эффективными. Он прекрасно понимал, что хотя колонна (в 6 или даже 12 шеренг) и гибче всех построений и если движется без остановки, то пробивает все, но если она использует стрельбу, то менее эффективна, чем каре и линия. К тому же, по его мнению «вредны ей картечи в размер», имея в виду огромные потери, наносимые густой колонне артиллерией. Именно поэтому Александр Васильевич не отвергал, как «устаревший», строй в линию и призывал максимально использовать ее огневые возможности. Удобнейшим для массированной стрельбы он считал линейный строй из двух шеренг. Но линии, как таковые, им использовались, все же, редко, а их кульминацией в любом случае был удар в штыки. А глубокие колонны он предпочитал только для развертывания. Только в самом конце XVIII в., все эти новшества войдут в практику у прогрессивно настроенных французских революционных генералов. Они блестяще ими воспользуются: доведут их до ума и они принесут им немало блестящих побед, в первую очередь, над шаблонно воевавшими австрийцами и пруссакам. «Отцами» этой революционной тактики на западе будут считать выдающегося французского генерала-самоучку Лазаря Гоша и военного министра, верховного главнокомандующего и начальника генерального штаба революционной Франции Лазаря Никола Карно. Карно заслуженно получил прозвище Организатора Победы! Именно он содействовал слиянию частей состоящих из опытных ветеранов и энергичных новобранцев – этот сплав существенно улучшал их боеспособность, а для связи с фронтом использовал оптический телеграф Шаппэ, аэростаты для разведки и т. п. Гоша осенила эта идея (быстрых атак колоннами) и он вкратце изложил ее в своей докладной записке правительству, а Карно возвел ее в абсолют как руководство к действию всем революционным генералам Франции в своем нашумевшем «Общем очерке тактики». Классически законченной она стала благодаря Наполеону Бонапарту и его бесконечным войнам…
Дальновидный Карно увидел в пояснительной записке самоучки Гоша не только очень большие аналитические возможности молоденького лейтенантика, но и совершенно особое, явно не имевшее аналогов, военное дарование. Со словами – «Вот пехотный лейтенант, который пойдет очень далеко!» – военный министр незамедлительно обратился к могущественному Дантону и военная карьера самого блестящего из генералов, выдвинувшихся в первые годы революции, стремительно началась. Гош превосходит все самые смелые ожидания Карно под Дюнкерком и уже в сентябре 1793 г. он бригадный генерал и посылает еще одну пояснительную записку Карно с новыми предложениями по ведению боевых действий. Ознакомившись с ней, Карно назначает Гоша дивизионным генералом и командующим Мозельской армией.
Именно здесь он впервые сформулировал и активно пропагандировал среди новых подчиненных свою наступательную военную доктрину: «Если шпага коротка, сделайте шаг вперед!»
…Между прочим, выражение Гоша «Если шпага коротка, сделайте шаг вперед!» – на самом деле всего лишь перефраз знаменитого спартанского афоризма: сын жалуется матери, что потерпел неудачу в бою из-за слишком короткого меча, на что слышит по-спартански лаконичное – «Надо было сделать шаг вперед!» Начитанный самоучка Гош, умело снабдил им патриотически настроенных солдат революционных армий Франции, на удивление врагам одерживавших одну сенсационную победу за другой. Одной простой фразой гений Гоша дал его соплеменникам победоносное оружие в борьбе с монархической Европой…
Гош настолько эффективно действует в роли командующего армией, что Комитет Общественного спасения предписывает соседней армии генерала Пишегрю перейти под начало победоносного Гоша. Завистливый Пишегрю (соперничество среди военных всегда проходит острее, чем среди гражданских лиц – Славой Победителя и, тем более, Спасителя Отечества делиться не любит никто!) интригует против него и всесильный Сен-Жюст решает арестовать Гоша. Оказывается, что сделать это в его собственном лагере не так-то просто: солдаты обожают своего командующего и за Отца Родного порвут всех «как тузик грелку»! (Гош умел заводить солдат: «Плачу 1000 франков за пушку!» – и солдаты сходу брали вражескую батарею, от шквального огня которой только что гибли их товарищи!) Приходится Комитету Общественного спасения замысливать хитроумную комбинацию: Гоша якобы назначают командующим Итальянской армией и вручают предписание отправиться к месту нового назначения.
По дороге его арестовывают и сажают в тюрьму знаменитого… женского Кармелитского монастыря в Париже. Там ждет своей участи жена гильотинированного генерала де Богарнэ – Жозефина, будущая супруга Наполеона Бонапарта. Безусловно, Гош был героем и красавцем, современно выражаясь – «секс-символом» и, к тому же, привык не отказывать дамам в «утешении», а вертихвостка Жозефина была, как все креолки – дамой невероятно сексуальной и темпераментной, не упускавшей возможности быстротечного «огневого контакта» с альфа-самцами. Молва гласила, что между ними наметился роман. Сегодня, нам доподлинно неизвестно, как все обстояло на самом деле и насколько далеко их отношения могли зайти в условиях стрессового ожидания гильотины, придававшего каждому соитию невероятный эмоциональный окрас!? Но не исключено, что одной из причин последующей вражды между Гошем и Наполеоном могла быть краткая, но бурная связь жены последнего с первым. Не секрет, что ко всему, что касалось «женских тайн» Жозефины – «девушки бальзаковского возраста», чьи «всегда готовые распахнуться врата в рай» тогда активно посещали многие сильные мира сего – Бонапарт дико ревновал, особенно в первые годы их совместной жизни. Так или иначе, но доброхоты сообщили куда следует о том, чем занимается высокопоставленный арестант c высокородной арестанткой и Гоша срочно перевели в тюрьму Консьержери. Вполне возможно, что именно поэтому эта связь, (если она была?) так и не стала достоянием широкой общественности, а осталась на уровне слухов. Из новой тюрьмы дорога была только одна на Гревскую площадь – на гильотину Сансона! Скорее всего, что этим бы все для нашего героя и закончилось, если бы не переворот 9 термидор, приведший на плаху… Робеспьера и его якобинских соратников.
Выйдя из Консьержери, Гош срочно командируется завершать подавление роялистского восстание в Вандее. Британская корона исправно снабжала эту бунташную провинцию Франции деньгами и людьми, в основном, это были дисциплинированные, фанатичные бойцы. Выходцы из моряков королевского флота. Были даже целые части полностью укомплектованные из одних морских офицеров. Руководили ими способные командиры, такие как Стофле или Шаретт. Гошу пришлось показать все, на что он способен, чтобы справиться с вандейцами.
В ходе этой борьбы Гош понял, что главная угроза для революционной Франции – Британская империя. Следовательно, на благо Франции нужно немедленно вывести «Туманный Альбион» из игры.
Им был разработан план быстрого вмешательства- вторжения на территорию Ирландии, которая в ту пору в очередной раз стремилась сбросить с себя английское иго. Французская поддержка могла бы перевесить чашу весов в пользу свободолюбивых ирландцев. В условиях максимальной секретности, в кратчайшие сроки все было готово и отборные войска приготовились переправиться через Ла-Манш. Корабли начали движение, но вмешались непогода и Его Величество Случай: весь флот разметал в разные стороны сильнейший шторм и флагман с Гошем пристал к берегу последним, лишь через два дня после основной массы судов.
К этому моменту его помощник Груши (кстати, тот самый легендарный «антигерой» Ватерлоо!) так и не решившись взять ответственность о вторжении вглубь Ирландии (кстати, спустя без малого 20 лет, нерешительность Груши скажется на исходе последней битвы Бонапарта при Ватерлоо, по крайней мере, так принято считать, что не совсем так, но это уже совсем другая история!), отдал приказ о свертывании экспедиции и возвращении домой. Англичане обо всем узнали и на внезапность более рассчитывать уже не приходилось.
Покончить с Англией одним неожиданным ударом не удалось и вторую попытку предпринимать не стали в виду ее бесперспективности: британцы уже были во все оружии.
…Кстати, если бы тогда в 1796 г. замысел Гоша удался, то неизвестно, состоялась ли бы 15-летняя эпоха наполеоновских войн!? Точно так же не ясно, как бы пошло развитие Франции, не будь у нее такого «недосягаемого» врага как островная Англия, которую никогда нельзя было победить вне ее собственной территории!? Получается, что Гош первым из революционных генералов Франции предпринял попытку покончить с «британским львом в его логове», т.е. на его острове. Другой талантливейший французский генерал – Наполеон Бонапарт дважды обдумывал такую же операцию: первый раз – чисто теоретически в 1798 г. еще до Египетской кампании, а второй раз – спустя 5 лет – но по тем же причинам, что и ранее, до переправы и вторжения дело так и не дошло. Впрочем, как и Гош, Бонапарт оказался бессилен решить проблему Туманного Альбиона – Хозяйки Морей…
Неудача с вторжением на британские острова существенно не сказалась на дальнейшей карьере генерала Гоша. Его назначают командовать Самбр-Маасской армией в очень сложный для нее момент – после поражения Журдана при Вюрцбурге. Ему удалось в кратчайшие сроки навести порядок с дисциплиной и при поддержке Рейнской армии Моро начать наступление, которое остановило лишь известие о Леобенском перемирии, навязанном Австрии на Итальянском фронте Наполеоном.
Гоша вызывают в Париж, но оказаться там ему было не суждено: Луи-Лазарь заболел и умер от… «заворота кишок». (Кое-кто из современников не исключал, что его отравили, но истина так и осталась «за семью печатями»! )
Его похоронили в том же мавзолее, в котором покоился прах другой легенды среди революционных генералов Франции – Марсо.
…Когда Гош внезапно и чрезвычайно быстро ушел из жизни, он был не менее популярен, чем его главный конкурент в борьбе за негласный титул лучшего полководца революционной Франции – генерал Бонапарт. В войсках его обожали за невероятную отвагу, открытый, располагающий к себе характер и внимание к нуждам простого солдата. Соратники говорили о Гоше-командире очень лаконично и емко: «У него самая длинная сабля и самые короткие речи!» В день военного переворота 18 брюмера в пользу Бонапарта эти два генерала, скорее всего, оказались бы по разные стороны баррикад и как развернулись бы дальнейшие события вряд ли кто-либо решится предсказать. Не будем гадать, как бы сложилась судьба Франции, если бы на месте генерала Бонапарта оказался генерал Гош, человек более бескорыстный, в меньшей степени политик, чем Наполеон, но, по сути, столь же агрессивный военный, к тому же, весьма склонный к аналитике и теоретизированию.
Так исторически сложилось, что в самом конце XVIII века в пост-революционной Франции более был востребован авантюризм (которого было больше у Наполеона), чем искренний патриотизм (он преобладал у Гоша). Но получилось так, что одна из двух самых «блестящих» шпаг Франции конца XVIII века (Гош) перестала сверкать на полях сражений, а другая (Бонапарт) позднее сделала все от нее зависящее, чтобы о ней (Гоше) забыли как можно быстрее. Конечно, это не делает Наполеону чести, но во все времена даже великие полководцы (от Ганнибала до Суворова) не любили с кем-либо делиться воинской славой, поскольку на Полководческом Олимпе нет места для двоих, как, впрочем и везде…»
«Он давно бы уже получил жезл маршала, если бы можно было раздавать эти жезлы всем, кто их заслуживал» (Гюденн)
Сугубо факты:
Дивизионный генерал (23 мая 1800 г.), граф Гюден и Империи (7 июня 1808 г.), Сезар-Шарль-Этьен Гюден де ла Саблоньер (его не надо путать с другим дивизионным генералом Пьером Сезаром Гюденом де ла Бардельером!) родился 13 февраля 1768 г. в Ньевре (в Монтаржи) в семье королевского офицера медицинской службы Луи-Габриэля Гюдена де Валлерена (1732-) и его супруги Марии-Анны Юмери де ла Буассьер (1745-) и был племянником весьма известного дивизионного генерала (22 июля 1793 г.) Этьена Гюдена (1734—1820).
…Кстати, его не столь «звездный» дядя родился 15 октября в Ньевре в старинной аристократической семьи Нивернэ, получившей дворянское достоинство в далеком 1542 г., в 1752 г. в возрасте 17 лет поступил на военную службу кадетом пехотного полка д`Артуа, 6 марта 1757 г. – лейтенант, принимал участие в кампании 1762—63 гг. в Португалии, 20 апреля 1768 г. – капитан, в 1776 г. – командующий рекрутского депо. 20 августа 1780 г. возглавил егерскую роту 3-го батальона своего полка, во главе которой участвовал в Войне за независимость Соединённых Штатов, 25 мая 1783 г. возвратился во Францию. 14 июня 1786 г. – командир гренадёрской роты полка д`Артуа, 3 февраля 1788 г. произведён в майоры с назначением в Королевский гренадёрский полк Нормандии, 4 августа 1789 г. вышел в отставку с чином подполковника и пенсионом в 2.240 ливров. В том же месяце избран командующим Национальной гвардии Монтаржи, 9 октября 1791 г. – командир 1-го батальона волонтёров департамента Луары, участвовал в кампаниях 1792—93 гг. в составе Северной Армии, 2 мая 1793 г. – комендант Мобежа, 27 мая 1793 г. – бригадный генерал, 22 июля 1793 г. – дивизионный генерал, специальным декретом Конвента назначен командующим Армии Вандеи, но отклонил назначение, 6 августа 1793 г. освобождён от занимаемой должности, 20 сентября 1793 г. по приказу народного представителя Друэ арестован и доставлен в тюрьму Арраса, приговорён к смертной казни и чудом спасся благодаря путанице, царившей во времена Великого Террора (до конца жизни хранил список, в котором значился 13 из 36 гильотинированных). 16 ноября 1794 г. после государственного переворота 9 термидора II-го года (27 июля 1794 г.) получил свободу и 4 марта 1795 г. восстановлен в армии с чином дивизионного генерала и назначением командующим Армии Бреста, 30 сентября 1795 г. вышел в отставку, в 1800 г. – член Сената от департамента Луары. Шевалье Почётного Легиона (29 марта 1805 г. и Шевалье Святого Людовика (1 мая 1780 г.) умер 23 сентября 1820 г. в Сен-Морикесуре в возрасте 85 лет…
А вот его прославленный племянник начал свое обучение военным наукам в Бриеннской военной школе вместе с Наполеоном Бонапартом.
28 октября 1782 г. приступил к действительной службе в корпусе гвардейских жандармов, 2 июля 1784 г. переведён в пехотный полк Артуа с чином суб-лейтенанта. 1 января 1791 г. – лейтенант 48-го пехотного полка, участвовал в подавлении восстания негров на острове Санто-Доминго, 5 июля 1792 г. возвратился во Францию.
В мае 1793 г. назначен адъютантом своего дяди, генерала Этьена Гюдена, служил в составе Северной Армии в Мобеже, после ареста генерала Гюдена переведён 31 октября 1793 г. в Арденнскую Армию с назначением адьютантом генерала Феррана.
19 апреля 1794 г. назначен в штаб Северной Армии, 13 июня 1795 г. – шеф бригады в составе Рейнско-Мозельской Армии, с апреля 1796 г. сражался в составе 6-й дивизии генерала Дюгема, 14 июля 1796 г. отличился при захвате Вольфаха, в ноябре 1796 г. – начальник штаба дивизии генерала Сен-Сира, затем начальник штаба гарнизона Келя, с 20 апреля 1797 г. служил в дивизии генерала Амбера, 12 января 1798 г. переведён в Английскую Армию, а в октябре 1798 г. – в Майнцскую Армию генерала Лефевра.
5 февраля 1799 г. – бригадный генерал, в апреле 1799 г. возглавил бригаду дивизии генерала Суама Дунайской Армии, 30 апреля 1799 г. – командир бригады 4-й пехотной дивизии генерала Сульта Гельветической Армии, отличился в сражениях при Оберальпе, Сен-Готарде, Штоккахе, Месскирхе и Меммингене.
5 октября 1800 г. – начальник штаба корпуса генерала Лекурба Рейнской Армии, 23 мая 1800 г. – дивизионный генерал (утверждён в чине 28 августа 1800 г.), командир 1-й пехотной дивизии, 4 июля 1800 г. – командир 2-й пехотной дивизии, сражался при Хохштадте и Нейбурге.
22 августа 1803 г. определён в 10-й военный округ, 23 августа 1804 г. возглавил 3-ю пехотную дивизию III корпуса маршала Даву в военном лагере Брюгге и с тех пор стал одним из самых доверенных подчинённых, а также личным другом маршала.
В составе Великой Армии (Grande Armee) участвовал в кампаниях 1805, 1806 и 1807 гг., ранен в сражении 14 октября 1806 года при Ауэрштедте, осадил и принудил к сдаче крепость Кюстрин, при Пултуске своевременный приход его дивизии на поле боя решил исход сражения, сражался при Эйлау и Фридланде.
После окончания боевых действий награждён почётной должностью губернатора Императорского дворца Фонтенбло.
12 октября 1808 г. определён в состав Армии Германии, в ходе Австрийской кампании 1809 г. сражался при Танне, Абенсберге, Ландсгуте, Экмюле, Ратисбоне, Виттенау и Ваграме, где четырежды ранен.
1 апреля 1812 г. – командир 3-й пехотной дивизии I-го корпуса Великой Армии, принимал участие в Русской кампании, 16 августа 1812 г. отличился при штурме Смоленска, где лично вёл свою дивизию в штыковую атака на городские ворота, 19 августа 1812 г. в сражении при Валутиной горе во главе своей дивизии опрокинул центр русской позиции и был смертельно ранен ядром в бедро, после чего эвакуирован в Смоленск. Там и умер 28 августа 1812 г. в возрасте 44 лет, похоронен в Сен-Морис-сюр-Авейроне.
…Кстати, он был женат на Марие-Жанетте-Каролине-Кристине Крейцер (1780—1868), от которой имел пятерых детей: Сезар-Шарль-Габриэль (1798—1874), Адель (1802—1871), Мелани (1803—1874), Пьер (1808-) и Эме (1812—1877).
В 14-м бюллетене Великой Армии от 23 августа 1812 г. говорится: «Генерал Гюден был одним из самых отличившихся офицеров армии; он обладал достойными моральными качествами, храбростью и неустрашимостью» (Le gеnеral Gudin еtait un des officiers les plus distinguеs de l, armеe; il еtait recommandable par ses qualitеs morales autant que par sa bravoure et son intrеpiditе), по мнению самого Императора: «Гюден давно бы уже получил жезл маршала, если бы можно было раздавать эти жезлы всем, кто их заслужил» (Gudin il-y-a longtemps a reçu deja la baguette du marechal, si on pouvait distribuer ces baguettes a tous, qui les a merite).
Имя кавалера Великого Орла Почётного Легиона (14 августа 1809 г.) выбито на Триумфальной арке площади Звезды.
Ключевые моменты биографии Гюденна:
– Будущий дивизионный генерал (1800), граф Империи (1808), Сезар Шарль Этьен Гюден де ла Саблонньер, (13 февраля 1768, Монтаржи, провинция Орлеан – 22 августа 1812, Смоленск) был сыном офицера полка Артуа и племянником генерала Этьена Гюдена.
– Учился в Бриеннской военной школе вместе с Наполеоном Бонапартом.
– Военную службу начал 28 октября 1782 г. в корпусе гвардейских жандармов.
– 2 июля 1784 г. переведен в пехотный полк Артуа (с 1791 г. 48-й полк) с назначением в чин подпоручика.
– 1 января 1791 г. произведён в поручики.
– В составе 2-го батальона своего полка направлен на о. Сан-Доминго, где участвовал в подавлении восстания негров.
– 5 июля 1792 г. вернулся во Францию.
– В мае 1793 г. был назначен адъютантом своего дяди генерала Э. Гюдена, а после его ареста перешёл в Арденнскую армию.
– В 1794—96 гг. сражался в рядах Северной, Самбро-Маасской и Рейнской армий.
– В ноябре 1796 г. занял должность начальника Генерального Штаба генерала Сен-Сира, вместе с которым отступал из Баварии, затем – начальник штаба Кельского гарнизона, 24 дня защищавшего крепость Кель от австрийцев.
– В январе 1798 г. переведён в армию, готовящуюся к высадке на Британские острова.
– В октябре того же года был переведён в Майнцскую армию к генералу Лефевру.
– В январе – апреле 1799 г. вновь возглавлял штаб Сен-Сира.
– 5 февраля 1799 г. произведён в бригадные генералы. В апреле 1799 г. командовал бригадой у генерала Суама в обсервационном корпусе у Мангейма, а затем назначен генералом Массена командиром бригады в 4-й дивизии генерала Сульта в армии Гельвеции. Проявил себя храбрым и распорядительным командиром.
– После соединения Дунайской и Рейнской армий сначала командовал бригадой в дивизии генерала Лекурба. Участвовал в бою с русскими войсками при Сен-Готарде.
– С 5 октября 1799 г. – начальник Генерального Штаба при генерале Лекурбе в Рейнской армии. Отличился в сражениях при Штоккахе, Мёскирхе, Меммингене.
– 23 мая 1800 г. заменил генерала Вандама на посту командира дивизии. Сражался при Хохштадте и Нейбурге.
– С 4 июля 1800 г. командовал 2-й дивизией в корпусе генерала Лекурба. С 22 августа 1800 г. – командующий 10-м военным округом в Тулузе.
– 29 августа 1803 г. получил в командование 3-ю дивизию в лагере маршала Давуи с тех пор стал одним из его самых доверенных подчинённых и любимых дивизионных командиров.
– Во время Прусской кампании Наполеона 1806 г. принял выдающееся участие в сражении при Ауэрштедте 14 октября, решившем вместе с Йенской битвой судьбу Пруссии.
– Цена этого героизма была, однако, велика. Дивизия Гюдена потеряла 40% своего боевого состава.
– 29 октября 1806 г. Гюден осадил крепость Кюстрин и 1 ноября принудил её к сдаче.
– 29 ноября 1806 г. во главе своей дивизии вступил в Варшаву.
– Отличился в сражении при Насёльске. 26 декабря 1806 г. во время сражения при Пултуске появление его дивизии на поле боя решило судьбу сражения – Беннигсен принял решение выйти из боя.
– Затем участвовал в сражениях при Прейсиш-Эйлау, Фридланде.
– В 1809 г. в составе корпуса маршала Даву сражался в следующих битвах: при Танне, Абенсберге, Ландсхуте и Экмюле. В последней битве в начале сражения атаковал и захватил стратегически важные высоты Рокинга. Участвовал также в битвах при Регенсбурге и при Виттенау, был четырежды ранен в сражении при Ваграме 6 июля 1809 г.
– В августе 1809 г., не оставляя командования дивизией, получил почётное назначение губернатором императорского дворца Фонтенбло.
– С 1 апреля 1812 г. командовал 3-й дивизией I-го корпуса Великой Армии. Во время Русской кампании 1812 участвовал в Смоленском сражении. В ходе сражения при Валутиной Горе 19 августа присоединился к ведущему бой корпусу маршала Нея. Одним из первых выстрелов, сделанных из русских орудий, ему оторвало обе ноги.
– Гюден был эвакуирован в Смоленск, но там вскоре умер.
– Ему было всего лишь 44 года и 30 из них он отдал армии, дослужившись до генерала за 17 лет.