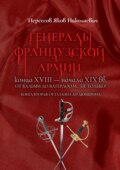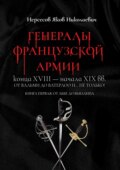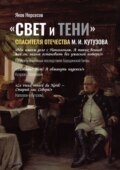Яков Николаевич Нерсесов
«Свет и Тени» «виртуальных» маршалов генерала Бонапарта: одни …; другие – …; и наконец, те,…
В конце 1813 г. Итальянская армия получила подкрепление. В ее состав прибыла итальянская дивизия, сражавшаяся до того во Франции, а также несколько тысяч обученного молодого пополнения. Затем прибыла итальянская дивизия, вернее, ее остатки, из Испанской армии. Теперь Итальянская армия насчитывала около 50 тыс. чел. и свыше 100 оруд. Но одновременно подкрепления, и куда более значительные (25 тыс. чел.), получил и противник. В результате соотношение сил еще более изменилось в его пользу. Но тем не менее на протяжении всего января и первой половины февраля 1814 г. войска Итальянской армии прочно удерживали фронт на Адидже.
11 (23) января 1814 г. закончился договор о союзе с Австрией и через шесть дней Мюрат объявил о своем переходе на сторону Шестой антифранцузской коалиции, открыв военные действия против Итальянской армии Эжена де Богарне. Он поставил своим неаполитанским войскам задачу овладеть всей территорией до реки По. В первой половине февраля 1814 г. неаполитанцы заняли Рим, Флоренцию, Модену, Парму, Феррару, изгнав оттуда небольшие французские гарнизоны, и установили взаимодействие с действовавшим на правом берегу По австрийским корпусом генерала Нугента.
Измена Мюрата поставила Итальянскую армию в крайне затруднительное положение, поскольку под угрозой оказались ее правый фланг и тыл. Богарне вынужден был направить против неаполитанцев почти треть своих сил, существенно ослабив фронт на Адидже. В этот критический момент его спасла лишь пассивность австрийского главнокомандующего Бельгарда, который, несмотря на свое более чем двукратное превосходство в силах, так и не решился атаковать войска Богарне на Адидже. Австрийский фельдмаршал полагал возможным перейти в наступление лишь после того, как Мюрат нанесет им удар во фланг и тыл. Но Мюрат и здесь не особенно торопился исполнять свои союзнические обязательства.
13 февраля Богарне объявил своим войскам о предстоящей войне с неаполитанцами. Через три дня он оставил свою позицию на Адидже и одним броском (на 15—30 км) отошел к реке Минчио (Минчо), в результате чего значительно улучшил оперативное положение своей армии. Бельгард принял этот маневр за общее отступление Итальянской армии и… жестоко поплатился за свой просчет. Быстро сосредоточив ударную группировку (24 тыс. чел.) в районе Ревербелло, Богарне нанес внезапный контрудар по выдвигавшимся без должных мер предосторожности к реке Минчио австрийским войскам (ок. 50 тыс. чел.). В результате развернувшегося 20 февраля на левом берегу этой реки сражения австрийцы были разбиты, потеряв более 8,5 тыс. чел. (в том числе 2 тыс. пленными). Потери Итальянской армии составили 2,5 тыс. чел.
Несмотря на то, что предательство Мюрата стало уже вполне очевидным фактом, Богарне из-за позиции Наполеона, все еще не верившего в измену своего родственника, не мог начать против него активных действий.
Наконец 27 февраля король неаполитанский (Мюрат) официально объявил войну Итальянскому королевству, избрав поводом для этого вылазку блокированного неаполитанцами гарнизона цитадели города Анконы. После этого многие французские генералы и офицеры, служившие под знаменами Мюрата, оставили службу в неаполитанской армии. «Неужели вы думаете, что я в душе не такой же француз, как и вы?!» – в запальчивости кричал Мюрат, обвиняя их в неблагодарности. Свой переход на сторону врага он объяснял исключительно лишь желанием спасти Неаполитанское королевство и предотвратить неизбежную внутреннюю смуту в нем. Призывая соотечественников оставаться на службе в своей армии, он обещал, что скоро обстановка изменится к лучшему. Но никакие уговоры не помогли. Абсолютное большинство французов не пожелало сражаться против своих соотечественников и, сохранив верность Наполеону, перешли на службу в Итальянскую армию Богарне. Вслед за этим Наполеон отозвал всех французов, еще остававшихся на неаполитанской службе.
Вероломство Мюрата произвело на Наполеона шокирующее впечатление. Это был первый из маршалов (не считая Бернадота, уже давно вычеркнутого из списка маршалов Франции), изменивших ему.
Правда, еще больше его поразило то, что его родная сестра Каролина, королева неаполитанская, оказалась заодно со своим мужем-предателем. Ярости императора не было предела. Но… исправить уже ничего было нельзя. Оставалось винить только самого себя на излишнюю доверчивость и самонадеянность, за свой корсиканский менталитет с его непоколебимой верой в прочность родственных уз и проявленную политическую недальновидность, чего ранее за ним не наблюдалось, но в последние годы стало проявляться все чаще и чаще.
С присоединением Мюрата к антифранцузской коалиции против армии Богарне стала действовать 110-тысячная армия противника, в то время как он мог противопоставить ей лишь 35 тыс. Таким образом, противник теперь обладал более чем трехкратным превосходством в силах. 2 марта неаполитанцы Мюрата овладели Анконской цитаделью. После многодневной артиллерийской бомбардировки, в результате которой все строения внутри крепости превратились в руины, а магазины с боеприпасами, продовольствием и другими запасами оказались уничтоженными, комендант крепости французский генерал Барбу вынужден был сдать цитадель.
Капитуляцию он заключил на почетных условиях: гарнизон покинул крепость с оружием, знаменами и всеми воинскими почестями. В тот же день неаполитанские войска заняли Ливорно, а в последующие дни – Пизу и Лукку, завершив оккупацию всей Тосканы. Следует отметить, что здесь негативную роль сыграл специальный представитель Наполеона и его давний тайный враг Фуше, заключивший соглашение с неаполитанцами, согласно которому французы оставляли все крепости Тосканы и уходили на родину, обязавшись в течение года не участвовать в боевых действиях против союзников, хотя они, не будучи побеждены, вовсе не обязаны были принимать такое условие. В результате такого предательского соглашения 4-тысячный гарнизон Генуи лишился столь необходимых ему подкреплений.
Возросшая активность противника к югу от реки По вызвала озабоченность командования Итальянской армии. Осуществив быстрый и искусный маневр, Богарне создал ударную группировку на своем правом фланге и 14 марта в районе Пармы нанес внезапный контрудар по противнику. В результате находившаяся там группировка австрийских и неаполитанских войск была разгромлена, понеся большие потери. Преследуя разбитого противника, войска Итальянской армии овладели городами Пармой и Реджио (Реджонель-Эмилия), а их передовые части вышли на ближние подступы к Модене. Но после того как прибывшие с рубежа реки Минчио войска ушли обратно, противник восстановил первоначальное положение, а затем развернул наступление на Пьяченцу. 22 марта англичане и их союзники, сардинцы и сицилийцы (войска сардинского короля и неаполитанских Бурбонов, удерживавших Сицилию), высадили крупный десант в Ливорно, который начал наступление на север, вдоль морского побережья. Вскоре англичане усилили эту группировку, и две английские дивизии повели наступление на Геную с юго-востока.
Тем временем в Италию пришло известие о падении Парижа и отречении Наполеона. Дальнейшая борьба на Итальянском фронте потеряла всякий смысл. 16 апреля там было заключено перемирие. По соглашению с союзниками французские войска покидали Италию и возвращались на родину.
Однако, несмотря на заключение конвенции о прекращении боевых действий, англичане упрямо стремились во что бы то ни стало овладеть Генуей. На подступах к этому городу развернулись упорные бои. Несмотря на свою малочисленность, французский гарнизон стойко отражал мощный натиск противника, имевшего более чем 6-кратное превосходство в силах. И только вспыхнувшее в Генуе восстание, организованное английскими агентами (на современном слэнге – «ждунами»), заставило французов оставить этот город (21 апреля 1814 г.).
19 апреля Итальянская армия оставила свои оборонительные позиции на Минчио и По, которые тут же были заняты австрийцами и неаполитанцами. А за два дня до этого, 17 апреля, она простилась со своим главнокомандующим.
Богарне сложил с себя обязанности главнокомандующего, передав командование армией командиру I-го корпуса генералу Гренье. 27 апреля он покинул Италию, выехав в Мюнхен, где находилась его семья.
На этом боевое поприще Эжена де Богарне, продолжавшееся 20 лет, закончилось. Французские войска (ок. 40 тыс. чел. и 77 орудий) повел на родину Гренье. В начале июня 1814 г. войска бывшей Итальянской армии прибыли во Францию, где сразу же были расформированы (20 июня 1814 г.).
В июне 1814 г. экс-пасынок (или Принц/вице-король Евгений, как это повелось в отечественной литературе) на короткое время (в связи с кончиной матери) прибыл в Париж. Король Людовик XVIII и союзные монархи приняли его благосклонно. Они сохранили за ним все чины и титулы, а в лице русского императора Александра I Богарне нашел даже покровителя.
На Венском конгрессе (сентябрь 1814 г. – июнь 1815 г.) союзные державы-победительницы решили судьбу Эжена де Богарне. Ему было выдано денежное вознаграждение в сумме 5 млн франков. За эти деньги его тесть баварский король предоставил Богарне княжество Эйхштедтское и даровал титулы принца Баварского и герцога Лейхтенбергского, утвержденнные на Венском конгрессе стран-победителей Наполеона.
Во время «Ста дней» Наполеона Богарне не было рядом с императором. По всей вероятности, он не верил в успех предпринятой Наполеоном попытки восстановить империю и не пожелал рисковать своим положением. Не исключено, что свою роль сыграло и его новое окружение (баварский король, жена, королевский двор), удержавшее принца от опрометчивого шага. Вполне возможно, Богарне затаил обиду на своего приемного отца, отвергнувшего пять лет назад его мать, которая скончалась 29 мая 1814 г. в Мальмезоне, будучи еще далеко не старой женщиной (в возрасте 50 лет).
В общем, как бы там ни было, среди боевых сподвижников Наполеона в его последней кампании 1815 г. Эжена де Богарне не оказалось. Доблестно сражавшийся за дело императора в 1814 г. и оставшийся верным ему до конца, он в 1815-м, как и большинство маршалов, не пожелал встать под его знамена.
Последние годы жизни Эжен де Богарне провел на своей новой родине, в Баварии и только благодаря заступничеству своего тестя короля Баварии в относительной безбедности. Большую часть времени он проводил в своих новых владениях и в Мюнхене, где в построенном им дворце основал картинную галерею, собранную в Италии. Кроме картин в ней имелось и много других уникальных произведений искусства.
После отъезда из Италии Богарне отошел от всех государственных и политических дел, уйдя в частную жизнь.
Пасынок умер после падения империи своего великого отчима достаточно молодым – лишь на три года пережив его – 21 февраля 1824 г. в Мюнхене в возрасте 42 лет от апоплексического удара (инсульт) и похоронен там же в церкви Св. Михаила. На его беломраморном памятнике работы знаменитого Кановы выбит данный ему Наполеоном девиз: «Honneur et Fidelite».
Спустя 15 лет после кончины де Богарне, в 1839 г., его сын Максимилиан женился на дочери российского императора Николая I великой княгине Марии Николаевне, положив начало русской ветви герцогов Лейхтенбергских. Этот род просуществовал в России около 80 лет, до падения династии Романовых в 1917 г. Ряд его представителей служили в русской армии…»
* * *
Эжен де Богарне занимал особое место в военной иерархии империи Наполеона.
Пройдя школу полководческого мастерства под началом близкого ему по духу генерала Макдональда, быстро став надежным, профессионалом без слабых мест, очень молчаливый, предельно серьезный и крайне внимательный к любому поручению Эжен участвовал во всех кампаниях Наполеона.
По своему происхождению Богарне принадлежал к старинному и титулованному французскому дворянству, в среде которого воинская профессия считалась традиционной. Получив хорошее военное образование и соответствующее воспитание, он посвятил себя службе на военном поприще, сначала под знаменами Республики, затем – под императорскими орлами. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов такой само собой разумеющийся факт, который сыграл решающую роль в его столь стремительной военной карьере, как родственная близость с Наполеоном. Но при всем этом нельзя отрицать и того, что без наличия соответствующих дарований сделать ее вряд ли бы было возможно. Император был прежде всего прагматиком и ценил людей главным образом по их способностям и конкретным делам. Все остальное в расчет не принималось. Примеров тому более чем достаточно.
В частности, своего младшего брата Жерома Бонапарта (короля Вестфальского) Наполеон без колебаний отстранил от командования в самом начале Русской кампании 1812 года, как только убедился в его полной военной бездарности. Тяжелую руку императора испытали на себе и многие маршалы.
Богарне пользовался большим авторитетом в предводимых им войсках. Умный, смелый, энергичный, надежный в бою, быстро и умело реагирующий на любые изменения в обстановке, он пользовался полным доверием не только Наполеона, но и своих подчиненных. Этому во многом способствовали его личные качества: равное и доброжелательное отношение к людям разного общественного положения, доступность и простота в общении с подчиненными, благородство характера, честность и порядочность, полное отсутствие аристократической спеси и надменности, великодушие и удивительная скромность. Даже в ту бурную романтическую эпоху такие люди являлись большой редкостью. Это был прежде всего человек долга и чести в полном смысле этого слова.
Он в совершенстве владел уникальным даром прямого воздействия на войска. В случае крайней необходимости Эжен, не задумываясь, мог увлекать их личным примером на решение, казалось бы, крайне рискованных или вообще невыполнимых задач, как это имело место на полях сражений при Бородино или под Малоярославцем, а также неоднократно в ходе кампании 1813 г. в Германии и Итальянской кампании 1813—14 гг.
Мужество возглавляемых Эженом де Богарне войск и его личная храбрость не раз позволяли вырвать победу из рук противника, когда, казалось бы, никаких шансов на успех уже не было. К примеру, в сражении под Малоярославцем он овладел позицией противника, которую некоторые из маршалов считали неприступной, а потому предлагали Наполеону отказаться от попыток ее атаковать. «Я вчера сражался с восьмью дивизиями противника с утра и до самого вечера, и удержал свою позицию; император доволен», – лаконично сообщал Богарне своей матери на следующий день после сражения.
Блистательную храбрость и непоколебимое мужество Богарне проявил под Духовщиной, когда, оказавшись в безвыходном положении, он с честью вышел из, казалось бы, тупиковой ситуации, когда был лишь один выход – капитуляция.
Во время гибельного для остатков Великой армии отступления из России в 1812 году Эжен разделял со своими солдатами, не делая для себя никаких исключений, все тяготы и лишения, выпавшие на их долю.
В начале 1813 г. он спас вышедшие из России жалкие остатки некогда Великой армии, брошенные на произвол судьбы Мюратом, собрал, организовал и привел их в боеспособное состояние.
О его внимании к нуждам войск свидетельствует хотя бы такой факт. Первое, что интересовало Богарне по прибытии в ту или иную часть, – как организовано питание солдат. И только убедившись, что снабжение войск организовано на должном в данной обстановке уровне, он переходил к решению других вопросов. Подобное никогда не приходило в голову его предшественнику.
В 1813—14 гг. Богарне возглавлял Итальянскую армию, во главе которой в течение восьми месяцев успешно сдерживал натиск значительно превосходившего его в силах противника. Ведя активную оборону, широко применяя маневр силами и средствами, действуя смело и решительно, он по существу парализовал активность противника до самого конца войны и не позволил ему воспользоваться своим преимуществом.
В наиболее ответственные моменты, когда боевая обстановка накалялась до предела, железная выдержка и завидное хладнокровие никогда не покидали де Богарне. Его решения всегда были обдуманными и всесторонне обоснованными. Как военачальник он не был лишен дара оперативного предвидения и умел просчитывать свои действия на несколько ходов вперед, предвидеть возможные трудности, которые могли возникнуть в ходе реализации принятого решения, и планировал проведение необходимых мероприятий, направленных на нейтрализацию таковых в случае их возникновения. В этом он выгодно отличался от многих наполеоновских маршалов.
Эжен де Богарне остался верен Наполеону до конца и предпочел безусловное исполнение своего воинского долга самым заманчивым посулам врагов Франции. Он прекратил борьбу только после падения Наполеона, а войска его армии непобежденными вернулись на родину, не склонив свои боевые знамена перед врагом. С падением империи его отчима закончилось и боевое поприще Богарне, которому он отдал большую часть своей жизни.
В событиях «Ста дней» 1815 г. участия он уже не принимал.
Не будучи маршалом Империи, он на последнем этапе полководческой карьеры Наполеона входил в число его ближайших военных сподвижников. Уже с 27 лет Богарне командует одной из наполеоновских армий, и командует, надо сказать, довольно успешно, не в пример некоторым из маршалов Империи, обладавшим куда более внушительным по сравнению с ним боевым опытом.
Анализируя военную деятельность Эжена де Богарне, можно сделать вывод, что он не был лишен таланта полководца.
Подтверждением тому является проведенная им самостоятельно последняя из его кампаний – Итальянская кампания 1813—14 гг. Имея перед собой противника, обладавшего двух, а затем и трехкратным превосходством в силах, он своими умелыми действиями сумел полностью нейтрализовать его.
Только за одну эту кампанию Богарне имел полное право претендовать на жезл маршала.
Правда, у Наполеона, по всей видимости, просто не хватило времени, чтобы удостоить своего приемного сына этого высшего знака воинского отличия. Обтянутый бархатом и украшенный золотыми орлами символ маршальского достоинства тот так и не получил. Возможно, здесь сыграла свою роль одна, казалось бы, на первый взгляд, не такая уж значительная, но весьма существенная с монархической точки зрения деталь (а к такого рода условностям император всегда относился очень щепетильно). Дело заключалось в том, что в соответствии с существовавшими во Франции историческими традициями звание маршала принцам королевского дома давно уже не присваивалось, так как подобное пожалование считалось умалением достоинства правящей династии.
Смог ли бы Наполеон преодолеть эту условность? – неизвестно. Вопрос остается открытым. На решение этого деликатного вопроса история ему времени не отпустила. Сам же император на сей счет никаких комментариев не оставил.
В памяти современников Богарне остался человеком благородной души и высоких нравственных качеств, как говорится, настоящим рыцарем без страха и упрека. Это был храбрый, без экзальтации, воин, отважный генерал и одаренный военачальник крупного масштаба. В этом качестве он неоднократно проявлял свои выдающиеся военные способности.
Как военачальник экс-пасынок вырос буквально на глазах Наполеона. Начав службу при нем юным лейтенантом, он уже в 19 лет становится полковником, а в 22 года получает чин генерала. В 27 лет Богарне назначается командующим армией, заняв, таким образом, должность, которую Наполеон доверял только маршалам, да и то далеко не всем.
Военная карьера этого благороднейшего рыцаря своей эпохи все время шла по восходящей. У него было почти все для того, чтобы претендовать на маршальство: талант (хоть и не блестящий, но немалый!), безупречная репутация преданного служаки и, наконец, родственные связи – как-никак пасынок (потом экс-пасынок) самого императора.
И, все же, маршалом этот кристально честный, доброжелательный ко всем независимо от их социального положения людям, хладнокровный всегда и везде, храбрый не напоказ, а тогда, когда надо, сын виконта и королевского генерала Эжен де Богарнэ так и не стал: его бывший отчим потерял власть…
Эжен де Богарне вошел в историю как один из наиболее доблестных боевых сподвижников Наполеона и один из наиболее талантливых военачальников наполеоновской армии.
Экс-пасынок продолжил быть человеком Наполеона и после того как миф о непобедимости его отчима развеялся окончательно. Его преданность своему экс-отчиму никогда не вызывала сомнений. Безусловно, после Даву это был самый верный Наполеону военачальник.
Так и остался Эжен де Богарне в памяти современников человеком благородной души и высоких нравственных качеств, как говорится, настоящим рыцарем без страха и упрека, чье имя выбито на Триумфальной Арке площади Звезды.
Бонапарт умел ценить личную преданность: «Если бы мне было нужно переступить через пропасть, он один протянул бы мне руку». Недаром великий Гете, лично знакомый с Эженом де Богарнэ, уже после смерти последнего, емко и лаконично охарактеризовал того: «Это был крупный человек. Такие люди встречаются все реже и реже. Вот человечество стало беднее еще на одну незаурядную личность».
Сам Наполеон напоследок так характеризовал своего пасынка: «Эжен – умелый администратор и человек высоких достоинств. Однако он, конечно, не гений. Ему не хватает твердости характера, которая отличает великих людей».