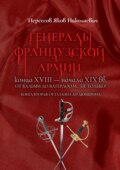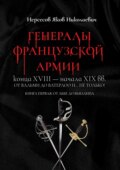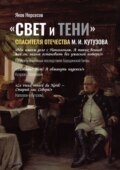Яков Николаевич Нерсесов
«Свет и Тени» «виртуальных» маршалов генерала Бонапарта: одни …; другие – …; и наконец, те,…
Вместо предисловия
Вполне понятно, что как только «генерал Бонапарт» стал раздавать маршальские эполеты, люди тут же поделили всех генералов на тех, о ком ехидно зубоскалили «И он, маршал!?» либо на тех, по поводу которого удивленно закатывали глаза «И он, не маршал!?».
Так или иначе, но теперь нам предстоит познакомиться с теми героями французского оружия наполеоновской эпохи, которые по тем или иным причинам, порой не зависящим от них, так никогда и обрели заветного маршальского жезла: одни могли, но так и не стали; другие – не… успели?; и наконец те, кто стали, но уже потом…»
Среди историков-наполеоноведов бытует мнение, что согласно негласному циркуляру по наполеоновской армии времен империи генералам, не командовавшим пехотными корпусами маршальское звание не давать!
Если это так, то воякам-бедолагам – дивизионным генералам-кавалеристам и артиллеристам – приходилось ждать… пока не выйдет из строя их корпусной начальник. Получалось, что через голову вышестоящего военачальника прыгать не позволяла армейская кастовость и субординация.
Так это или не так, но целая «декурия» блестящих генерал-полковников от кавалерии (Арриги, Думерк, Огюст Коленкур (родной брат дипломата Армана Коленкура), Лассаль, Латур-Мобур, Лорж, Мильо, Монбрен, Келлерман-младший, Пажоль, Экзельманс, д`Эспань и др.) и артиллерии (Друо, Сорбье, д’Антуар, Фуше и др.), доблестно и беспрерывно сражавшихся на всех «фронтах» Последнего Демона Войны, так и осталась без вполне заслуженного вожделенного маршальского жезла.
Правда, если для артиллеристов маршальские эполеты были нереальны (и это при том, что сам Бонапарт был блестящий математик-артиллерист в 99-й степени!), то среди кавалеристов (лихих наездников он и вовсе считал людьми не очень-то отягощенными умом и специальными знаниями!) ближе всех к ним все же были д`Эспань, Лассаль и Нансути. По крайней мере, так полагает большинство историков-наполеоноведов.
Вот лишь некоторые штрихи к портретам этих удалых вояк…
Претендовавший на маршальство, по крайней мере, по слухам, блестящий кирасирский генерал-полковник д`Эспань погиб в кровавой схватке под Асперном и Эсслингом.
Любимец парижских дам, ветеран революционных войн, герой Прусской, Польской и Испанской кампаний, отчаянный смельчак и дуэлянт, лучшая сабля французской легкой кавалерии, дивизионный генерал-полковник де Лассаль, со дня на день ожидавший вручения маршальского жезла, погиб в одной из самых последних схваток битвы при Ваграме. Шальная австрийская пуля сразила его наповал.
…Кстати сказать, удалой гусар Лассаль как-то раз запальчиво воскликнул: «Гусар, который не убит в 30 лет, не гусар, а слабак!» Самому ему было немногим более 30, когда он погиб. Эту знаменитую фразу «Гусар, который не убит в 30 лет, не гусар, а слабак!» с легкой руки одного очень популярного в России отечественного «наполеоноведа» долгое время ошибочно приписывали маршалу Ланну – другому храбрецу! Но он, в отличие от Нея, Ожеро, Келлермана-старшего и Груши никогда не служил в гусарах, как это также нередко утверждается в русской литературе – от Е. Тарле до Н. Троицкого. На самом деле лихой вояка Ланн действительно когда-то сказал нечто похожее: «Те, кто утверждал, что никогда не испытывал страха, лгуны или слабаки». Не исключено, что именно использование одного и того же выражения слабак могло породить путаницу в авторстве первой вышеприведенной фразы. Гибель Лассаля стала невосполнимой утратой для Наполеона…
А вот другой пример!
Так, один из самых ярких французских кавалеристов, потомственный дворянин и военный, драгунский генерал-полковник Нансути, начал свою карьеру уже после революции в армии генерала Моро, у которого стал бригадным генералом. Потом он оказывается под началом маршалов Мортье и Нея, где будучи командиром тяжелой кавалерии (кирасиры и карабинеры), окончательно утверждается как блестящий мастер удара «окованным железным кулаком». Именно его могучие кирасиры вместе с гвардейской кавалерией Мюрата и Бессьера обратили вспять любимцев петербургских и московских дам – красавцев-кавалергардов – в знаменитой встречной атаке в легендарной битве под Аустерлицем. Бесстрашная элита русской кавалерии, тогда понесла потери (хотя и не полегла, как это порой утверждается в популярной литературе, костьми на поле боя!), но чести русского оружия не посрамила: знамена русской гвардии сохранила. Нансути прошел все наполеоновские войны, участвовал почти во всех крупнейших сражениях – Аустерлиц, Йена, Фридлянд, Бородино, Лютцен, Бауцен, Дрезден и Лейпциг. Ставший к концу жизни шефом всех драгун, Нансути блеснул талантом кавалерийского военачальника при Бородино и в битвах кампании 1813 г., но всего этого оказалось недостаточно для получения заветного маршальского жезла.
Казалось, легче всего стать маршалами было бы пехотным генерал-полковникам, командирам армейских корпусов, тем более, что среди них имелись ст`оящие претенденты.
Одно время главным претендентом на маршальство среди генералов от инфантерии считался первоклассный генерал де Сент-Иллер. После блестяще проведенной Экмюльской операции, сам Бонапарт, восхищенный его отвагой и полководческим дарованием вроде бы пообещал ему маршальский жезл по окончании войны с австрийцами в 1809 г. Но доблестному Сент-Иллеру не повезло: закололи в следующем же бою – в штыковой контратаке под Эсслингом.
Столь же высоко котировались шансы и другого, блестящего инфантериста – Вандамма. Безусловно, Вандам был заслуженным генералом (генеральские эполеты ему вручили в 22 года!), достойно прошедшим все революционные и наполеоновские войны, Возможно, лишь его отвратительный характер помешал ему в свое время стать маршалом. О его резкости, бесцеремонности ходили легенды. Так, посчитав, что в 1809 г. после победного Ваграма Наполеон обошел его маршальством, а сделал маршалами Макдональда, Удино и своего однокашника по училищу Мармона, Вандам не находил себе места от гнева и злобы на счастливчиков и особенно на их благодетеля. Взбешенный Доминик орал, что Бонапарт всего лишь «трус, мошенник и лжец» и без его «вандаммовой» помощи «по-прежнему бы… пас свиней на своей с… ной Корсике!» В ходе поначалу удачно складывавшейся для Бонапарта кампании 1813 г. именно Вандамму судьба дала шанс схватить «жар-птицу» -маршальский жезл за хвост. Его 37-тысячный (есть и др. данные о его численности) корпус был брошен Бонапартом в тыл отступавшей деморализованной после поражения под Дрезденом армии Шварценберга. Ему следовало немедленно добить разгромленного врага. Всем казалось, что бравый генерал справится с поставленной ему лично императором задачей и… маршальские эполеты наконец-то украсят его широкие плечи.
Но «капризная девка» Фортуна рассудила иначе: потеряв под Кульмом 22 тыс. убитыми, ранеными и пленными, оказавшись еще к тому же в плену, Вандам навсегда лишился надежд на маршалат!
Более того, Вандамм на допросе у самого российского императора не изменил себе и в ответ на обличение его солдат в мародерстве и разбое, якобы ответил в крайне резкой форме: «Я не разбойник и не грабитель! И уж, во всяком случае, ни мои современники, ни будущие поколения не смогут упрекнуть меня в том, что я обагрил руки кровью своего отца!» За такую бестактность к особе Царя Вся Руси, храбрец-наглец «загремел» в захолустную Вязьму. И о маршальских эполетах уже точно не могло идти и речи…
Один из лучших дивизионных генералов Даву — де ла Гюденн – слыл большим мастером горной войны и доблестно сражался еще с самим Суворовым в Альпах за Сен-Готард. Он принимал участие почти во всех наполеоновских походах, став героем сражений при Аустерлице, Ауэрштадте, Прейсиш-Эйлау и Ваграме. Теоретически он мог бы стать маршалом, но для этого ему было нужно выйти из-под начала Даву, в корпусе которого он прослужил очень много лет. Для Даву Гюденн был абсолютно незаменим и «железный маршал» никогда бы на это не пошел. Геройская смерть последнего в ходе Русской кампании 1812 г. в боях под Валутиной Горой расставила все по своим местам.
Были шансы стать маршалом и у другого большого мастера горной войны, генерала, популярного генерала Лекурба, но он вместе с Моро подвергся судебному преследованию за откровенно республиканские взгляды, когда на дворе уже «царил» Первый консул Наполеон Бонапарт и его изгнали из армии в расцвете лет и таланта – в 45 лет. Сам Бонапарт снова призвал его в армию. Но это случилось после 10 лет вынужденного простоя, уже во времена «Ста дней», когда Последний Бог Войны остро нуждался в первоклассных офицерах высшего ранга. Лекурб полностью оправдал надежды Бонапарта, сдержав превосходящие 45-тысячные силы австрийцев Коллоредо на юго-восточной, швейцарской границе и уже на острове Св. Елены Наполеон открыто признавал, что Лекурб, покинувший это мир вскоре после Ватерлоо, был бы «превосходным маршалом Франции».
В какой-то момент всем могло показаться, что очередным маршалом империи может стать корпусной командир генерал-полковник Дюпон. Его военная карьера началась еще в 1791 г. Уже через год он отличается в легендарной битве при Вальми, а еще через год становится бригадным генералом – блестящее начало для не достигшего 30-летия Пьера-Антуана. В 1800 г. он оказывается в генеральном штабе самого Бертье и под Маренго. В составе корпуса маршала Нея Дюпон прекрасно воюет под Ульмом и Аустерлицем. Благодаря Дюпону Наполеон сумел избежать больших неприятностей в самом начале той кампании. После победоносной кампании 1805 г. на Дюпона обратил внимание сам Бонапарт. В шедевральном сражении Наполеона под Фридляндом в 1807 г. именно он отменно действует в ходе прорыва Неем левого фланга Багратиона и штыками сбрасывает русскую гвардию Великого князя Константина Павловича в побуревшие от русской крови воды Алле.
После этого репутация Дюпона в глазах императора возросла еще сильнее и в следующей войне в Испании ему уже доверяют ответственную самостоятельную операцию в Андалусии. В случае успеха сам император вроде бы пообещал генералу маршальство. А потом случилось непредвиденное или, как говорят о подобном сами французы – a la guerre – comme a la guerre. 21 июля 1808 г. ок. 10 тыс. солдат Пьера Дюпона с 18 орудиями, отягощенные огромным обозом по слухам с награбленным добром (в том числе, большим количеством драгоценной церковной утвари), оказавшись окруженным испанскими полками генерала Кастеньоса, общей численностью в 32 тыс. человек, вынуждены были сдаться в чистом поле под Байленом.
Правда, историки склонны считать, что не все в этой истории так уж прозрачно, как это потом захотела представить общественности наполеоновская пропаганда. Целый ряд неблагоприятных факторов оказался тогда против Дюпона. Так, качество его войск оставляло желать лучшего: в основном, это были необстрелянные новобранцы, плохо понимавшие, что такое война! К тому же, царила жуткая 38 градусная жара в… тени! Более того, не известно, где бродила, шедшая ему на помощь, 5-тысячная дивизия генерала Веделя. По разным причинам преодолеть все обрушившиеся на него трудности «без пяти минут маршал» Пьер-Антуан Дюпон граф де л`Этан так и не сумел. А ведь он был весьма умелым дивизионным генералом, прекрасно зарекомендовавшим себя под Аустерлицем и особенно под Фридландом, где без приказа сверху поддержал в критический момент атаку Нея. Но, как оказалось, самостоятельная «ноша» ему не по плечу: он промедлил с отходом и раздробил свои силы перед лицом численно превосходящего врага. Большинство пленных французов погибло в тюрьме; на родину вернулись лишь генералы и старшие офицеры. Такого большого позора со столь большими частями императорской армии Наполеона прежде не случалось!
Вести о Байленской катастрофе наполеоновского генерала – оказалось, и французы могут капитулировать! – со стремительной радостью разнеслись по всей Европе. Еще чуть-чуть и побежденные народы начнут «шевелиться»! Наполеон, получив это унизительное сообщение, пришел в такое бешенство, что чуть ли не с кулаками бросался на свитских генералов: «Он опозорил наши знамена, опозорил армию! Если армия, в которой слаба дисциплина, крадет церковную утварь – это еще как-то можно себе представить; как можно в этом признаваться!?» Придя в себя, французский император не скрывал желания, как бы ему по круче расправиться с «главным виновником» фиаско под Байленом. Никакие объективные причины провала его столь котировавшегося ранее генерала он не принимал во внимание. Чего он только не обещал бедолаге Дюпону, в частности: «Они должны были дать себя убить!» Байленская катастрофа, в которой по большому был виноват не один лишь генерал Дюпон, поставила жирный крест на дальнейшей военной карьере этого в целом не бесталанного военачальника.
Для поддержания императорского престижа необходим был виновник Байленского фиаско. Дюпона, как крайнего, что порой случается на войне, сделали «козлом отпущения», обвинив во всех смертных грехах: коррупции, подлости, бездеятельности, предательстве, халатности и т. п. На таких как генерал Дюпон, можно было списать все последствия роковой ошибки самого императора французов, необдуманно ввязавшегося в испанскую авантюру.
Пьер-Антуан Дюпон – лишенный всех чинов, званий и титулов, участник Вальми, Маренго, Ульма, Аустерлица и Фридлянда – надолго загремел на родине в тюрьму. Ничего изменить в приговоре истории он уже не смог: капитулянт, предатель и трус. Его имя так и не появилось в списках вечной славы французского оружия на Триумфальной арке…
Одно время всерьез полагали, что очередным маршалом может стать бригадный (!) генерал Экрош де Сен-Круа. Это конкретно предрекал ему сам Бонапарт: «Из людей такой пробы я делаю моих маршалов!» Но Сен-Круа из той невезучей «центурии», что не успела «надеть маршальские эполеты» по объективной причине: он погиб «на полпути к вершине»! А ведь как здорово он начинал свою военную карьеру: в 1805 г. Шарль-Мари-Робер – всего лишь адъютант маршала Массены, но уже после Эсслинга и Ваграма, где он воевал под началом все того же Массены, его командируют уже в чине бригадного генерала драгунской бригады вместе со своим патроном в Португалию. Именно его рискованный маневр в обход неприступных позиций англичан в сражении при Бусико, по началу неудачно складывавшемся для французов, вынудил британского полководца герцога Веллингтона немедленно покинуть обороняемые рубежи. Но 11 октября 1810 г. под Вилланфранкой жизнь и военную карьеру много обещавшего 27-летнего таланта оборвало вражеское ядро: «a la guerre – comme a la guerre»! Не так ли!?.
Парадоксально, но на закате своей фантастической карьеры, во время «Ста дней», когда решалось «пан или пропал!», Наполеон все же поступился своим железным принципом – не присваивать звание маршала генералам, не командовавшим пехотными корпусами – и сделал исключение! В критический для Бонапарта момент повезло генерал-полковнику конных егерей… Груши. Сегодня все знают, чем это назначение закончилось для судеб монархической Европы и «корсиканского выскочки», в частности.
Подводя краткий итог этому, на мой взгляд, сколь спорному, столь и любопытному прологу, следует предположить, что раздав по началу «всем сестрам по серьгам», потом Наполеон счел необходимым впредь более экономным в присвоении самого высокого звания в истории Франции. Если это так, то понятно почему немало достойных генерал-полковников так и остались в этом чине до конца империи Наполеона Бонапарта.
Впрочем, просуществуй она подольше и очень может быть, что мы узнали бы имена следующих маршалов Франции «наполеоновского разлива», например, Жерара и Клозеля, Ламарка и Фуа. Ведь сам Бонапарт уже на острове Св. Елены открыто признал, что «эти генералы были бы моими новыми маршалами». Но не сложилось или, как говорят сами французы: «a la guerre – comme a la guerre».
Правда, кое-кто из наполеоновских генералов все же стал маршалом, но уже при… Бурбонах либо, еще позднее.
Хотя, это уже другая история, которую вы услышите чуть позже…
* * *
Давайте познакомимся поближе с «героями» – о которых было столько слухов об их грядущем маршальстве – в главе с экзотическим названием «Они могли, но так и не стали…, а другие – просто не… успели?»
В том числе, с такими метеорами на революционном небосклоне Франции рубежа XVIII/XIX веков – как генералы Лафайет, Дюмурье и Пишегрю. При всех их талантах, главной чертой этих незаурядных людей был Авантюризм с Большой Буквы, который во все времена, несмотря на локальные успехи, не позволял им – «Властелинам Минуты» – долго удерживаться на авансцене Большой Истории.
Кто-то посчитает, что вряд ли следует считать генералов Дюмурье с Пишегрю, и, тем более, и самого «невоенного» из них – «Красного маркиза» Лафайета обладателями военного дарования такого масштаба, который позволил бы им всерьез претендовать на маршальство – даже виртуально. Впрочем, «о вкусах – не спорят!?»
Правда, без этих «Великих Понтовил/Понтяр» своего мутного времени общая картина всех заметных претендентов на категорию «Они могли, но так и не стали…, а другие – просто не… успели?», скорее всего, была бы неполной.
Хотя это всего лишь «заметки на полях», отнюдь не исключающие права у читателя на собственную оценку этих трех запоминающихся личностей конца XVIII – начала XIX вв.
Итак!
Часть Первая. Они могли, но так и не стали… а другие – просто не… успели?
Благородный пасынок Эжен (де Богарне)
Сугубо факты:
…Дивизионный генерал (с 17 октября 1804 г.), вице-король Италии (с 7 июня 1805 г. по 20 апреля 1814 г.), принц Венеции (17 декабря 1807 г.), великий герцог Франкфуртский (1 марта 1810 г.), герцог Лейхтенбергский и принц Эйхштадский (14 ноября 1817 г.), принц Империи (1 февраля 1805 г.) Эжен (Ежен) -Роз де Богарне родился 3 ноября 1781 г. в Париже в семье виконта Александра де Богарне (1760—1794), будущего дивизионного генерала и его супруги Жозефины Таше де ла Пажери (1763—1814).
С 1785 г. обучался в Парижском пансионе, затем в Колледже Страсбурга, после известного постановления директора Барраса «О разоружении секций Лепелетье и Французского театра» в 1795 г. 14-летний Эжен попросил аудиенции у генерала Бонапарта, чтобы лично вручить ему саблю своего отца, «которую он носил и прославил честной службой» (растроганный генерал вернул юноше оружие).
В 1796 г. поступил на военную службу в качестве офицера для поручений генерала Гоша, затем генерала Массена в Итальянской Армии, 30 июня 1797 г. произведён в суб-лейтенанты 1-го гусарского полка и зачислен в штаб генерала Бонапарта.
В 1798 г. определён в состав Восточной Армии и принял участие в Египетском походе, 20 января 1799 г. – лейтенант, адьютант главнокомандующего, отличился при нападении на Суэц, ранен при осаде Сен-Жан-д`Акра.
22 августа 1799 г. возвратился во Францию. 22 декабря 1799 г. произведён в капитаны конных егерей Консульской гвардии, участвовал в Итальянской кампании 1800 г., отличился при захвате Милана и в сражении при Маренго.
9 июля 1800 г. – шеф эскадрона. 13 октября 1802 г. – полковник, командир конных егерей Консульской гвардии, 17 октября 1804 г. – бригадный генерал, 18 мая 1804 г. – архиканцлер, 1 июля 1804 г. – генерал-полковник егерей, с 17 октября 1804 г. по 23 декабря 1805 г. – командир конных егерей Императорской гвардии.
Во время коронации нёс золотое кольцо Императора. 1 февраля 1805 г. – принц Империи и сенатор, 7 июня 1805 г. – вице-король Италии с резиденцией в Милане, с 23 сентября 1805 г. возглавлял корпус, предназначенный для блокады Венеции, 3 января 1806 г. – главнокомандующий вооружённых сил Итальянского королевства, 12 января 1806 г. – генерал-губернатор Венеции.
16 февраля 1806 г. официально усыновлён Императором Наполеоном.
Во время Австрийской кампании 1809 г. занимал с 9 апреля пост главнокомандующего в Италии, 16 апреля был атакован войсками эрцгерцога Карла при Сачиле и вынужден отступить к Вероне, к 26 апреля сосредоточил в своих руках до 60 тыс. солдат, 8 мая форсировал реку Пиаве, 10 мая переправился через Тальяменто и освободил крепость Пальманову, после чего направил правую колонну генерала Макдональда для захвата Лайбаха; центральную колонну генерала Сера – на Предильский укреплённый лагерь, а сам во главе левой колонны двинулся на форт Мальборгетто, который и захватил 17 мая. 25 мая 1809 г. нанёс поражение австрийцам при Сан-Микеле и 27 мая соединился с лёгкой кавалерией Германской Aрмии, 14 июня 1809 г. отбросил войска эрцгерцога Иоанна от Рааба и пустился в преследование, оставив отряд генерала Лористона для осады Рааба, капитулировавшего 22 июня 1809 г., после присоединения к основной армии принимал участие в сражении при Ваграме.
С 1 апреля 1812 г. командовал IV-м корпусом Великой Армии (Grande Armee) (30 тыс. преимущественно итальянских войск), cражался при Островно, Витебске, Смоленске, Бородино, Малоярославце, Вязьме, Красном и Березине, после отьезда Наполеона и маршала Мюрата возглавил 16 января 1813 г. остатки Великой Армии, которую привёл в Магдебург.
Потом Император скажет: «Мы все совершали ошибки. Евгений – единственный, кто их не наделал».
В 1813 г. тесть Эжена, король Максимилиан I-й Баварский (1756—1825) прислал к нему князя Августа Турн-и-Таксис с предложением перейти в лагерь союзников, но тот остался верен Императору («Я скорее пожертвую своим будущим счастьем и благоденствием моей семьи, нежели нарушу данную клятву») и командовал группировкой из V-го и XI-го армейских корпусов.
…Кстати, он был женат на принцессе Агнессе Амалии фон Виттельсбах (1788—1851), дочери короля Баварии, от которой имел шестерых детей: Жозефина-Максимильена-Эжени (1807—1876), супруга наследного принца Швеции и Норвегии Оскара Бернадотта; Эжени-Гортензия-Августа (18098—1847), супруга принца Гогенцоллерн-Хехингена; Огюст-Шарль-Эжен-Наполеон (1810—1835), женатый на Марии II-й, королеве Португалии; Амалия-Августа-Эжени (1812—1873), супруга императора Бразилии Педро I-го; Теоделина-Луиза-Эжени-Августа (1814—1857), супруга графа Вюртемберга Максимилиан-Иосиф и Максимилиан-Жозеф-Эжен-Огюст-Наполеон (1817—1852), женатый на Великой княжне Марии Николаевне, дочери императора Николая I-го…
После битвы под Люценом Наполеон направил его в Италию для защиты её от австрийцев, с 16 мая 1813 г. командовал резервной Итальянской армией, Иллирийскими провинциями и 27-м; 28-м и 29-м военными округами, провёл ряд успешных операций по защите Северной Италии, 8 февраля 1814 г. нанёс австрийцам поражение при Минчио и прекратил военные действия только с известием о капитуляции Парижа, 16 апреля 1814 г. подписал с графом Бельгардом мирный договор в Шиарино-Риццино, после чего передал командование генералу Гренье и в июне 1814 г. уехал в Баварию к своему тестю.
Венский конгресс возместил ему за потерю Итальянских владений 5 млн. франков, а баварский король уступил ему во владение ландграфство Лейхтенберг и княжество Эйхштедт с титулом Королевского Величества. 2 июня 1815 г. – пэр Франции.
Трижды кавалер Орд. Почетного Лениона (Шевалье – 4 декабря 1803 г., Коммандор – 4 июня 1804 г., Великий Крест – 2 февраля 1805 г.) и множества европейских наград умер 21 февраля 1824 г. в Мюнхене от апоплексического удара в возрасте 42 лет.
Имя генерала выбито на Триумфальной Арке площади Звезды.
Только ключевые события:
– Пасынок Наполеона – единственный сын его первой жены Жозефины де Богарне. Эжен де Богарне́, (в отечественной литературе зачастую именуется как «Принц Евгений», что является излишне вольной трактовкой) (3 сентября 1781, Париж – 21 февраля 1824, Мюнхен, Бавария) – дивизионный генерал (с 17 октября 1804 г.), генерал-полковник конных егерей (с 6 июля 1804 г. по 1 февраля 1805 г.), командир конных егерей Императорской гвардии (с 13 октября 1802 г. по 18 января 1808 г.) был участником таких судьбоносных битв как Маренго, Ваграм, Бородино.
– Его отец, виконт Александр де Богарне, был генералом революционной армии. В годы Террора его незаслуженно обвинили в предательстве и казнили.
– Богарне стал фактическим правителем Италии (титул короля носил сам Наполеон), когда ему было всего 24 года.
– В кампанию против Австрии 1809 г. он командовал войсками в Италии. Несмотря на неудачный исход битвы при Сачиле с австрийским войском эрцгерцога Иоанна Габсбурга, Богарне сумел переломить ход военных действий и нанес своему противнику ряд поражений в Италии, а затем в Австрии.
– Важную для французов победу он одержал в Венгрии в сражении при Раабе (ныне венгерский город Дьер), а затем отличился в решающей битве при Ваграме (ныне селение в Австрии).
– В 1812 г. Богарне был вызван Наполеоном из Италии для командования IV-м (Итальянским) пехотным корпусом Великой армии.
– В Отечественной войне 1812 г. Евгений Богарне отличился в сражениях при Островно, под Смоленском, Бородино, Звенигородом, Малоярославцем, Вязьмой, Красным, Вильно.
– После отъезда Наполеона из Сморгони в Париж и фактического бегства оставленного управлять остатками Великой армии маршала Иоахима Мюрата из России в Неаполь, он принял командование ими отвел их в Магдебург.
– В 1813 г. после сражения при Лютцене Богарне по приказу Наполеона был направлен в Италию для организации ее защиты от австрийских войск.
– После Первого отречения Наполеона Богарне всерьёз рассматривался Александром I в качестве кандидата на французский престол.
– За отказ от своих итальянских владений получил 5 млн. франков, которые передал своему тестю – королю Баварии Максимилиану-Иосифу, за что был «помилован» и пожалован титулами ландграфа Лейхтенбергского и князя Айхштетского (по другим данным – купил их в 1817 г.).
– 14 января 1806 г., Эжен женился на Августе (1788—1851), принцессе Баварской, дочери Максимилиана I, короля Баварии и Августы, ландграфини Гессен-Дармштадтской, от которой имел семеро детей: Жозефина Максимилиана Евгения Наполеоне (1807—1876), с 1823 замужем за Оскаром I Бернадотом, королём Швеции и Норвегии; Евгения Гортензия Августа (1808—1847); Август Шарль Эжен Наполеон (1810—1835), герцог Лейхтенбергский, герцог де Санта-Круз; жена с 1834 – Мария II, королева Португалии; Амелия Августа Евгения Наполеоне (1812—1873), муж с 1829 – Педру I, император Бразилии; Теоделинда Луиза Евгения Августа Наполеоне (1814—1857); Каролина Клотильда (1816); Максимилиан Лейхтенбергский (1817—1852), герцог Лейхтенбергский, князь Романовский; жена с 1839 – великая княжна Мария Николаевна, дочь императора Николая I…
– Дав слово не поддерживать более Наполеона, не принимал участия (в отличие от сестры Гортензии) в его реставрации во время «Ста дней».
– В июне 1815 г. был пожалован Людовиком XVIII титулом пэра Франции.
– До самой смерти жил в своих баварских землях и активного участия в европейских делах не принимал.
– Ему было 42 года когда он – кавалер многочисенных европейских наград, в частности, трех степеней орд. Почетного легиона (Легионер – 4.12.1803, Командор – 4.06.1804, Большой Орёл – 2.02.1805) и один из самых надежных сподвижников своего великого отчимом (прошедший с ним за 20 лет – рука об руку – через Огонь, Воду и Медные Трубы!), очень тихо ушел вслед за ним, пережив его всего лишь на три года.
«Развернутая» версия биографии наполеоновского экс-пасынка предполагает следующее:
«…Подавляющее большинство современников, а за ними и историков считали сына, незаслуженно обвиненного в предательстве и погибшего на эшафоте в годы якобинского террора (в 1794 г.) дивизионного генерала (1793 г.) потомственного виконта Александра-Франсу-Мари де Богарне (28 мая 1760, Фор-Ройяль, Мартиника – 23 июля 1794, Париж), пасынка, затем приемного сына Наполеона Бонапарта, дивизионного генерала (26 мая 1805 г.), принца империи (1 февраля 1805—20 апреля 1814 гг.), вице-короля Италии (с 7 июня 1805 г. по 20 апреля 1814 г.), князя Эйхштедтского и герцога Лейхтенбергского (14 ноября 1817 г.) Эжена (Ежена) -Роз де Богарне (в отечественной литературе зачастую именуемого как «Принц Евгений», что является излишне вольной трактовкой) (3.09.1781, Париж – 21.02.1824, Мюнхен, Бавария), очень достойным человеком считали и даже одним из возможных претендентов на маршальство.
С 1785 г. он обучался в Парижском пансионе, затем в Колледже Страсбурга.
Его мать сексапильная креолка Мари-Роз-Жозефа или Роз (именем Жозефина её стал называть именно Наполеон!) (23 июня 1763, Труа-Иле, Мартиника – 29 мая 1814, Мальмезон) родилась на о-ве Мартиника в семье богатого французского плантатора Жозефа-Гаспара Таше де ла Пажери.
После ареста ее первого мужа Жозефина, как жена «врага народа», тоже подверглась репрессиям со стороны революционных властей и несколько месяцев провела в заключении. Избежать расправы ей помог лишь термидорианский переворот (27 июля 1794 г.), покончивший с диктатурой якобинцев.
Оставшийся без родителей 12-летний Эжен был отдан на воспитание в семью столяра, который начал обучать его своему ремеслу. После освобождения мать устроила в 1796 г. сына ординарцем (офицером для поручений) к прославленному революционному генералу Лазарю Гошу, с которым по слухам очень близко познакомилась (была в страстном романе!?) в тюрьме. В этом качестве Богарне сопровождал того в Вандею и какое-то время участвовал там в боевых действиях против мятежников-роялистов, а затем был направлен в очень престижную Сен-Жерменскую военную школу.
После подавления роялистского в Париже 13 вандемьера (5 октября 1795 г.) по постановлению директора Барраса «О разоружении секций Лепелетье и Французского театра» у всех жителей столицы стали отбирать оружие.
Рассказывали, что вроде бы Жозефина послала своего 14-летнего сына Эжена, умного и здравомыслящий выпускник военного училища к командующему войсками парижского гарнизона, главному действующему лицу в усмирении мятежников с помощью артиллерии – «генералу Вандемьеру» (генералу Наполеону Бонапарту) с просьбой то ли вернуть шпагу покойного мужа (?), то ли чтобы лично вручить ему саблю своего отца, «которую он носил и прославил честной службой». (Если это – так, то растроганный генерал якобы вернул юноше оружие!?). Если принять на веру первую версию их встречи, то Бонапарт был искренне тронут красивой наружностью и благородными манерами мальчика, а также тем жаром, с которым он убеждал генерала удовлетворить его просьбу. Ходили разговоры, что отцовскую саблю (шпагу) Бонапарт ему не отдал, но вроде бы тонко намекнул, что было бы неплохо, если бы его мать – известная в высоких кругах парижская «горизонталка» (Большая Мастерица Большого Секса) – лично прибыла за нею. Ушлая креолка быстро все правильно поняла и после того как визит «дамы без комплексов» к влиятельному генералу Бонапарту состоялся, просьба ее была исполнена.