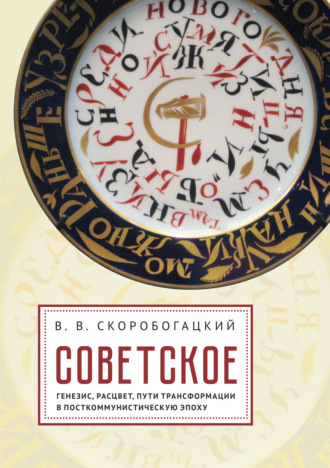
Вячеслав Скоробогацкий
Советское: Генезис, расцвет и пути его трансформации в посткоммунистическую эпоху
Русская версия «восстания масс»
Что взамен? Отталкиваться, на наш взгляд, следует от основополагающего факта истории индустриального мира, который Х. Ортега-и-Гассет назвал «восстанием масс» и который составил кульминационный пункт этой истории. С. Московичи в работе «Век толп» отметил, что в европейских странах с устойчивыми демократическими традициями восстание масс привело к изменению формы демократии, в частности, к персонализации власти (феномен де Голля)[92]. В странах же «второго эшелона» модернизации, где доминировали политические традиции авторитаризма, где молодая демократия только-только пришла на смену монархическому правлению (Германия, Италия, Россия), в 1920-1930-е годы возникли тоталитарные режимы. Для большинства из этих обществ была характерна высокая степень религиозности основной части населения. В новой ситуации место традиционной религии занимает так называемая политическая религия. Она представляет собой институционализацию революционной идеологии с присущими ей отчетливыми чертами палингенности, апелляции к архаике[93] – к мифу, к героизации прошлого, прямому или косвенному отрицанию базовых структур цивилизации (частной собственности, религии, государства, традиционной морали, семьи, «высокой» культуры). После решения непосредственно политических задач (захвата власти и установления монополии на нее со стороны революционной партии, подчинения общества) приходит время задачи сакрально-политической – антропологической революции, сотворения нового человека, способного подчинить все физические и духовные силы империалистической политике вождей[94].
Эта гипотеза, связывающая воедино тоталитаризм, модерность (восстание масс) и секулярную религию, позволяет рассматривать феномен сталинизма (и историю России) во взаимосвязи с общеевропейской историей или, говоря шире, историей индустриального общества ХХ века. Характер этой взаимосвязи нуждается в серьезном и глубоком изучении, но ясно, что попытка представить историю России в виде формационного «отставания» от Запада, а тем более «отклонения» от его пути, подменяет познание сути дела, то есть исторической реальности, бесконечными и не имеющими ни теоретического, ни практического смысла спорами о том, насколько Россия отвечает европейскому стандарту – на 50 или 70 %, сколько десятилетий понадобится нам, чтобы наконец догнать ускользающую Европу. Споры эти ведутся уже более двух столетий без особого результата, если не считать того, что мы по-прежнему не знаем своей истории («мы ленивы и нелюбопытны») и маскируем это незнание вымыслами, которые нельзя назвать мифами, ибо они – рассудочный (идеологический) продукт исключительно головной работы. У нас даже модернизация рассматривается в усеченном виде, как инструмент ускорения общественного развития («догнать и перегнать!»), когда игнорируются другие ее стороны, без которых она не дает желаемых результатов (права человека, реальная конкуренция во всех сферах, независимая судебная система, демократия и т. д.).
Более продуктивным кажется подход, согласно которому история России рассматривается как региональный вариант европейской истории. Регион, провинция – подобные определения обычно подчеркивают известную неполноценность, «второсортность» определяемого предмета. Но на деле европейской истории как таковой не существует, в реальности существует некоторое множество региональных историй: пиренейские государства, Италия, Франция, Британские острова, «большая» Германия, Польша и Литва, Скандинавия, Прибалтика, Венгрия. Взаимосвязь и единство этому множеству придает тот или иной регион, добивающийся роли «центра», стягивающего вокруг себя с определенной степенью приближения другие регионы. Европейская история Средних веков, например, начинается не с первого короля франков Хлодвига, а с Карла Великого, создавшего империю, в поле влияния которой оказались страны католического европейского Запада и его славянская (на востоке и юге) периферия, и вступившего с Византией в спор за доминирование на территории бывшей Римской империи.
Собственно, это был спор двух сверхдержав, одна из которых представляла будущее, а другая – прошлое, и он очертил культурно-политические границы того, что стало впоследствии Европой. Форма этого единства концентрична, это конус, состоящий из центра (вершины) и ряда «колец», образующих его (центра) далекую и близкую периферию. Влияние центра на эту периферию, перенос вовне культурных и других достижений, обусловливающих лидерство региона-авангарда, накладывает печать общности на региональное многообразие, расширяет пространство сосуществования регионов и культурных (в широком смысле) обменов между ними. Со временем роль центра может переходить от одного региона к другому, но концентрическая форма единства при этом сохраняется. Политическое влияние определяет контуры единого пространства, но закрепляется и устойчиво поддерживается иерархически организованное единство регионов посредством культуры, в частности, католической религии и римского наследия, если говорить о европейской истории времен Карла Великого. Сама по себе политика не может обеспечить прочного единства, пример чему – габсбургская империя Карла V, сам факт существования которой вызвал реакцию отторжения ее со стороны государств, которым Габсбурги пытались навязать роль периферии и подчинить своему влиянию.
Существование России «рядом» с Европой с самого начала появления Московской Руси на общеевропейской сцене (конец XV века) характеризуется этим попеременным действием двух факторов – политики, часто в ее крайней форме выражения (войны), и культуры. Перевес культурных связей России с Западом перед военно-политическими в послепетровское время, интенсивность культурных обменов (пусть с преобладанием «импорта» перед «экспортом») сделали XVIII век, может быть, самым успешным и самобытным в русской истории. Этот век стал временем сложения и расцвета личного начала, включая и «оборотную», негативную сторону рождения личности – «самство», отмеченное чаадаевским дедом М. М. Щербатовым в его «Повреждении нравов.».
Встреча лицом к лицу с Западом стала тем вызовом, что способствовал активизации творческих сил нации. Все это обусловило – при сохранении самостоятельности, собственного лица и, что самое главное, чувства национального и личного достоинства – рывок в культуре, разнообразные следствия которого, и политические в том числе, сказались уже в XIX веке[95]. И напротив, установка на самоизоляцию, особенно в культурном отношении (пример здесь – XVI век, «век русского одиночества»[96]), вела не только к снижению культурного потенциала страны, уровня цивилизации в ней, но и к отставанию в военном деле, к деградации социальных и духовно-нравственных основ жизни общества и государства, вплоть до угрозы распада и исчезновения государственности как таковой в период Смуты.
С чем связан региональный статус России в общеевропейском культурно-политическом пространстве? Существующие представления по этому вопросу опираются на идею разности исходных условий исторического развития на востоке и западе Европы. Согласно Н. И. Данилевскому, речь должна идти об изначальной чужеродности культур, об особом славянском культурно-историческом типе, противостоящем к тому же романо-германскому типу. Н. С. Трубецкой находил в России особую («туранскую») цивилизацию, промежуточную между Западом и Востоком, следуя смыслообразам поэтов-символистов – «скифам» А. Блока и «гуннам» В. Брюсова, посредством которых они пытались восстановить национально-культурную идентичность в условиях кризиса традиционных ценностей как в России, так и на Западе, усугубляемого мировой войной. Более поздняя версия особой цивилизации в России принадлежит Л. Н. Гумилеву, разработавшему концепцию суперэтноса. Часто пресловутую отсталость, «провинциальность» России объясняют влиянием географической среды. Систематически рассмотрел роль географического фактора в русской истории П. Н. Милюков, посвятивший этому первый том своих «Очерков истории русской культуры».
С моей точки зрения, ни разность культур, ни разность цивилизаций не следует рассматривать в качестве начальных условий, которые будто бы предопределили характер и направленность русской истории и сложные, конфликтные, пронизанные взаимным недоверием отношения России с другими регионами Европы. И то, и другое суть продукты исторического развития, а не его посылки, и потому они сами должны получить объяснение и обоснование исходя из характера русской истории, а не наоборот.
Иное дело – вопрос о роли природной среды, о ее влиянии на историю. Состояние природной среды, географические особенности, климат, геополитическое окружение – все это, несомненно, создает существенное различие в исходных условиях исторического процесса между восточной и остальными частями Европы, но все же не может рассматриваться как непреодолимое обстоятельство для успешного строительства цивилизации европейского типа. Да и в чем состоит смысл исторического процесса, как не в преодолении внешних условий, неблагоприятных для жизни людей? Ведь результаты этого преодоления, результаты истории именно и находят свое выражение в развитии культуры и цивилизации. Антропологи утверждают, что человек – единственный из биологических видов, который не имеет постоянной среды обитания и расселился по всему земному шару, исключая Антарктиду. Да и намного ли благоприятнее природные условия в Скандинавии или Прибалтике, чем в прилегающих территориях нашей страны? То, что дело не в природе, можно убедиться, сравнив соседей – Финляндию, Литву, Латвию и Эстонию, с одной стороны, Карелию, Калининградскую, Ленинградскую и Псковскую области, с другой. Дело в истории, в способности того или иного общества преодолевать неблагоприятные условия природной среды и создавать очеловеченный мир, вторую природу, или цивилизацию. Только такие общества и входят в семью исторических народов, в отличие от сообществ, проживающих в экстремальных условиях, которые делают невозможным самостоятельное, собственными силами совершаемое строительство цивилизации – Гренландия, полярный север Канады и Сибири, центральные территории Австралии.
Поэтому в поисках ответа на вопрос о факторах, определяющих региональные особенности цивилизации в России, включая и такие ее параметры, как отсталость и провинциальность, мы должны исходить из положения, что это результаты, порожденные историей, во-первых, и детерминированные изнутри, во-вторых. Общество, находящееся в историческом развитии, обладает определенной степенью независимости от внешних, в том числе и исходных условий и предпосылок, и способно достраивать необходимые условия в случае их отсутствия. Такая саморазвивающаяся система (или органическое целое, в терминологии Маркса) преобразует воздействия внешней среды в соответствии с особенностями внутреннего строения. И, соответственно, можно предположить, что важным фактором, определяющим особенности цивилизации в том или ином регионе, является феномен государственности. Именно государственность, выполняя функцию цивилизационного кода, придает индивидуальность тому или иному обществу[97], определяет историко-типологические характеристики «местной» культуры, политики, социальной структуры, темп и направление исторической динамики – все то, что создает условия и возможности для цивилизации европейского типа в том или ином регионе, даже не относящемся к Европе с географической точки зрения. Например, в английских и французских колониях в Северной Америке в XVII–XVIII веках.
Фундаментальная, базовая характеристика российской государственности, как мы указывали выше, корпоративность. Это тот определяющий элемент внутренней среды, который представляет собой своеобразную призму, преломляющую внешние влияния и распределяющую их «следы» во внутреннем пространстве системы. Он определяет характер заимствований – что именно заимствуется, в каких областях, для каких целей. Не менее важно, что он определяет также и способ интерпретации заимствованного, включая его переделку (переосмысление) под потребности системы и в соответствии с существующими нормами и правилами. Так, например, в середине XVIII века в России господствующий класс перешел на французский язык – не только потому, что он играл роль общеевропейского языка «высокой» культуры (наподобие латыни в Средневековье) и был в моде при королевских дворах Германии, на которые постоянно оглядывался Петербург, но и потому, что благодаря этому нововведения канализировались в относительно обособленном пространстве жизни дворянства, преимущественно частной, «домашней» (быт, образование, чтение, общение). В публичной же сфере (армия, государственное управление, деловая жизнь) сохранялся русский язык, подвергнутый частичной секуляризации (введение Петром I гражданского алфавита).
Принцип (начало) корпоративности не только опосредует заимствования, переводя их на язык местной культуры и социума; благодаря его влиянию возникает средостение, задающее определенную дистанцию между «своим» и «чужим». В ментальном плане этот зазор проявляется в виде изначального недоверия к чужому, в хронологическом – в виде запаздывающего, выборочно-случайного обращения к новому, в семантическом – в виде принципиальной разности языков, в силу чего вещи, ключевые для успешного усвоения чужого опыта (разделение государственной власти на относительно самостоятельные ветви, права и свободы человека, неприкосновенность частной жизни и тому подобные), либо не имеют аналогов в русской действительности, либо получают превращенное выражение.
Восстание масс в его российском варианте, то есть преломленное через призму корпоративности, и есть акт рождения и вызревания советского.
Взятый в этом ракурсе («восстание масс»), феномен сталинизма обретает многомерность и относительную самодостаточность. Это обстоятельство принципиально для наших дальнейших рассуждений. Мы останавливаем на нем внимание, поскольку в рамках европоцентристской парадигмы сталинизм выступал чем-то производным от исторической «магистрали», отклонением от нее, ее тенью, обратной, вывернутой проекцией цивилизации на мир варварства и «азиатчины». С этой точки зрения он изначально воспринимался как химера, которая рождается во тьме и исчезает в лучах восходящего солнца Разума вместе с прочими заблуждениями, счет которым открыл еще Ф. Бэкон. Предлагаемый нами ракурс рассмотрения «заземляет» феномен сталинизма, возвращает его в реальность, укореняет на почве местной культуры и истории. Как восстание масс «там», в Западной Европе было неким итогом истории индустриального общества, так и в России сталинизм – результат ее собственной истории, как она протекала в период реформ и контрреформ второй половины XIX и в первые десятилетия ХХ века. Результат – не значит что-то неизбежное, не имевшее альтернативы, но это уже другая проблема, проблема детерминации исторического процесса (динамическое – статистическое, «конкуренция» возможностей, одно- или многолинейность, «развилки» истории, альтернативность и т. п.).
Взгляд на сталинизм как на вполне закономерный или, по крайней мере, имеющий объективные основания продукт истории, а не ее, истории, «ошибку», идет вразрез с устоявшейся традицией его изучения, согласно которой возможность его возникновения связывается главным образом с индивидуальными и психологическими факторами, отмеченными в свое время Лениным в «Письме к съезду». Этот зауженный взгляд на проблему сталинизма обусловлен элитистским подходом к ней. В научной литературе, причем не только критической (по отношению к Сталину), но и апологетической, доминирует образ сталинизма, каким он сложился в сознании образованного класса, образ, взросший на почве исторического опыта и коллективной памяти этого класса[98]. Это сталинизм с точки зрения интеллигенции. Причем сама эта точка зрения базировалась на мощном и устойчивом мифе о том, что единственной оппозицией советскому режиму были либералы из числа представителей истеблишмента, к которым причисляли также (без известных на то оснований) участников диссидентского движения[99]. При этом слово «либерал» в его советской семантике стало, по существу, синонимом человека, оппозиционного режиму вне зависимости от его мировоззрения и политических установок, собирательным по отношению к любым «уклонам» от генерального курса – оба хуже, будто бы ответил Сталин на вопрос, какой из уклонов, правый или левый, хуже.
Высказывая критические замечания по адресу отечественных либералов, я не хотел бы оказаться в одном лагере с теми, кто сегодня атакует либерализм как антипатриотическую идеологию, носители которой непременно финансируются иностранными организациями и спецслужбами, являясь к тому же лицами «некоренной» национальности, космополитами и русофобами по определению. Но вместе с тем я уверен, что ни это, ни какие-то другие обстоятельства не могут ограничить право на его критическое осмысление. На мой взгляд, либерализм в России советского и постсоветского периодов обладает одной особенностью – он не фундаментален, не основателен. Его жизненный корень – не знаменитая локковская триада «жизнь – свобода – собственность», которую естественный индивид был готов отстаивать всеми доступными ему средствами, включая и восстание против государства. Потому в первую очередь, что ни частной собственности, ни данной от рождения свободы как совокупности неотчуждаемых прав, ни защищенных обычаем и законом условий «нормальной» жизни, жизни по собственному усмотрению, советский человек, говоря словами из песни Высоцкого, не знал, а часто и не хотел. Кантовская автономия индивида, понятием которой суммируется весь этот объем естественных прав человека, оставалась феноменом, чуждым советскому образу жизни.
Жизненный корень отечественного либерализма проистекает из органической реакции человеческого существа против чудовищного произвола и давления государственной и идеологической машины; давления, стесняющего осуществление порой даже биологического минимума – сносное жилье, кое-какая одежда, достаточное количество еды, облегчение условий труда. Это скорее даже действие инстинкта социокультурного самосохранения. Но чтобы действие этого инстинкта превратилось в протест, в сознательную позицию, необходимо главное – чувство человеческого достоинства. Отсутствие его у образованного общества было, согласно Пушкину, тем чудовищным обстоятельством, которое превращало это общество в «чернь», в холопов, ищущих выгоды раболепным служением высшему лицу и презирающих ум, совесть и честь. Относительной, частичной компенсацией отсутствия этого чувства было образование. Русская интеллигенция оказалась тем сословием, которое в образовании искало путь не к знанию (самому по себе), а к правде и справедливости, к достойной жизни. Согласно С. Булгакову, русская интеллигенция – это окно в Европу, окно, добавлю от себя, открывшее образованному классу картины европейской жизни, загадочные и соблазнительные для стороннего наблюдателя.
Иными словами, отечественный либерализм в его осознанном выражении – феномен книжный, заимствованный по своей сути[100], и сводится он к той смысложизненной установке, на которой держится сословное единство интеллигенции как образа жизни, чувства и мысли «вопреки» ненавистной реальности, держится ее групповая идентичность и идейная сплоченность. Содержание же этой установки – всякий раз ситуативная реакция на гнет власти, на ее действия, сопротивление внешнему давлению и отвоевывание неких пространств, свободных от официального контроля, обратная сторона такого отвоевывания – бегство из публичных «пространств ликования» (М. Рыклин). И такое отвоевывание пространств, свободных от контроля, самоцельно, это бесконечное движение, в котором процесс важнее результата, это движение без реальной цели и, соответственно, без реальной основы, которая придавала бы этой цели средства, условия и границы осуществления. Для само(бес)цельного движения никакой результат не является достаточным и приемлемым хотя бы на определенное время. Все выше, и выше, и выше…
Такой либерализм становится неофициальной версией гражданской религии, религии протеста, которая черпает духовную энергию в противостоянии своему официальному антиподу. Это советский протестантизм, отщепление от официальной политической религии. Эта неофициальная, «катакомбная»[101] религия изначально неполитична, даже контрполитична, ибо ищет средства осуществления не в реальности, а в сфере нравственного, гражданского долга перед народом. Либерализм советской и постсоветской эпохи – это полурелигиозное служение идее свободы, у которой (свободы) в силу ее сакральности нет конкретных очертаний[102]. По этой причине отечественные либералы постоянно испытывают острую потребность в духовном вожде, Вожатом, который бы дал актуальное толкование идее. А найдя его, сбиваются в группы сектантского толка, единые в преклонении перед Словом Учителя и разделяемые истолкованием этого Слова. Потому-то они и не смогли создать маломальски действенной политической организации в той исторической обстановке, когда наконец-то сложились условия не только для протеста, но и для переустройства основ советской жизни. Более того, именно в этот момент они добровольно вступают в зависимость от политических властолюбцев, как будто не замечая, что поддерживают тех, кто в очередной раз перечеркнет их надежды на осуществление вековой мечты.
Смерть А. Н. Сахарова стала роковым событием в истории позднесоветского либерализма.
На зауженный, сословно-элитистский характер представлений о том, что оппозиционность – исключительная привилегия творческой и политической верхушки образованного класса, неоднократно обращал внимание А. И. Солженицын. Связывая Большой террор преимущественно с процессами 1937–1938 годов, которые имели известную степень гласности и получили отражение в документах и иных многочисленных письменных источниках, в том числе и неофициального характера, мы оставляем при таком подходе вне поля зрения миллионы безымянных жертв, принадлежавших к низшим слоям населения и не оставивших после себя ни переписки, ни дневников, ни воспоминаний. Во второй главе первого тома «Архипелага ГУЛАГ» («История нашей канализации») он пишет:
Не боюсь, однако, ошибиться, сказав: поток 37-38-го ни единственным не был, ни даже главным, а только, может быть, одним из трех самых больших потоков, распиравших мрачные зловонные трубы нашей тюремной канализации. До него был поток 29–30 годов, с добрую Обь, протолкнувший в тундру и тайгу миллионов пятнадцать мужиков (а как бы и не поболе). Но мужики – народ бесписьменный, ни жалоб не написали, ни мемуаров. С ними и следователи по ночам не корпели, на них и протоколов не тратили – довольно и сельсоветского постановления. Пролился этот поток, всосался в вечную мерзлоту, и даже самые горячие умы о нем почти не вспоминают. Как будто бы русскую совесть он даже и не поранил. А между тем у Сталина (и у нас с вами) не было преступления тяжелей.
И после был поток 44-46-го годов, с добрый Енисей: гнали по сточным трубам целые нации и еще миллионы и миллионы – побывавших (из-за нас же!) в плену, увезенных в Германию и вернувшихся потом. Но и в этом потоке народ был больше простой и мемуаров не написал.
Примечательно это замечание в скобках – «и у нас с вами не было преступления тяжелей»: сужение точки зрения на масштаб преступлений сталинизма, сведение их до репрессий 1937–1938 годов делает сторонников этого подхода, независимо от их намерений, соучастниками Сталина, хотя бы только и в нравственном отношении («даже и не поранил русскую совесть») – не заметили, не придали значения этим многомиллионным потерям. Так – будни коллективизации и индустриализации, тяготы послевоенного времени. А кому тогда было легко? Во всяком случае, когда в вину режиму ставится только пресловутый 1937 год, это означает косвенное согласие со всеми остальными преступлениями режима как исторически неизбежными и плодотворными шагами по пути прогресса. Лес рубят – щепки летят. Не трогайте только реликтовых сосен. «Мы живем, под собою не чуя страны.» Отсюда же следует, что в рамках «либерального» подхода проблема сталинизма решается на фоне старой дилеммы русской интеллигенции XIX века: образованное, активное, исторически мыслящее меньшинство – и апатичное, дремлющее большинство. «Ты проснешься ль, исполненный сил, / иль, судеб повинуясь закону, / все, что мог, ты уже совершил, / создал песню, подобную стону, / и духовно навеки почил?» Соответственно, борцы со сталинизмом и его жертвы – интеллигенция. Народ же безмолвствует, более того – неблагодарный, он часто оказывает режиму молчаливую поддержку.
Если же мы рассматриваем феномен сталинизма через призму «восстания масс», то привычная трехцветная (белое и черное на сером фоне) картина многократно усложняется. «Молчаливое большинство», «темный» народ («серость») распадается на различные группы со своими установками и интересами, со своей оценкой происходящего. Уже в ходе Гражданской войны стало очевидным это многообразие позиций как в «обществе», так и в народной среде, не сводимое к делению на «красных» и «белых» (которые, заметим, сами были далеко не однородны внутри). И для того, чтобы упорядочить это многообразие, нужна совершенно иная система координат, а не та, в которой интеллигенция привычно отводила себе одно из первых мест: государство (Они) и революция (Мы).
Одним из главных результатов «восстания масс» было разрушение вертикальной оси, вдоль которой выстраивались отношения господства и подчинения. Эти отношения, как скелет, поддерживали социокультурную иерархию, распределение социальных групп относительно центра власти и соответствующие дистанции между ними. Существовавший институциональный порядок накладывал на все происходящее в обществе отпечаток традиции, ограничивая размах социальной динамики, порождаемый стихийными процессами развития капитализма, всемирной торговли, науки, техники, индустриализации и урбанизации. Он сдерживал взрывные процессы в обществе, загоняя его движение в историческую колею преемственности, обусловленности прошлым[103], но, как оказалось, лишь до поры до времени. Восстание масс было сродни эйнштейновской революции в физике, разрушившей ньютонианский мир малых скоростей.
Ньютонианский мир малых скоростей – как образ, как модель социальной реальности – и был предметом для теоретического описания в духе европоцентристской парадигмы, был тем миром, где эта парадигма была уместна, соответствовала его духу – империалистической установке на мировое первенство, в экономике прежде всего, но (следовательно) и в культуре, и в науке, и в организации социальной и политической жизни также. Часть этого мира – либерально-интеллигентская картина мира, в которой интеллигенция (образованный класс) составляет противовес господствующему классу, революционную контрэлиту этого общества. Контрэлита монополизирует право на активный социальный протест, на сопротивление, на нравственное противостояние господству зла, на руководство «темным», «простым» народом, еще не проснувшимся к исторической жизни (в ее гегелевском истолковании). Надо отметить, что империалистическая установка не была свойственна только политике крупнейших капиталистических держав, которая (политика) и привела к Первой мировой войне. К ее осуществлению стремились и советские вожди революционной России и СССР. Ее проявления отчетливо видны и в попытках администрации США «руководить» миром в эпоху глобализации. Эта установка покоится на базовом представлении о мире, в структуре которого динамичный («передовой») центр – авангард мирового прогресса – окружен полупатриархальной, «отсталой» периферией.
Миссия центра состоит в том, что он должен привести в движение, «подтянуть» до уровня передовых стран либо способствовать их пробуждению к активной, «цивилизованной» жизни.
В новом мире структура отношений, в том числе и по поводу власти, определялась взаимным расположением, сцеплением (тяготением) и столкновениями различных социальных групп и организованных структур (политические движения и партии, религиозные организации, государство, экономические корпорации и ассоциации и пр.). Еще одним следствием восстания масс стало то, что лишенное традиционной опоры в виде иерархически устроенного общества государство как бы повисает в воздухе, утрачивает привычную монополию на власть, точнее, на обеспечивающие ее источники (ресурсы). Поэтому государство (и не только в России, но везде, где прошло «восстание масс») было вынуждено менять свою форму, функции, режим работы в кардинально меняющихся социальных обстоятельствах. Затянувшийся на многие десятилетия процесс обновления, перерождения государства привел к замене государства веберовского типа (рациональной бюрократии) его сервисной моделью, сложившейся в русле «нового государственного менеджмента» последней трети ХХ века.
Новое государство, возникающее в процессе «восстания масс», является результатом социального конструирования, а не эволюционного (в смысле Дарвина) движения общества в исторической колее, шаг за шагом приспосабливающегося к внешней среде своего существования. Социальное конструирование вообще является конститутивной чертой европейского модерна, определяющей лицо современности, ее особенности в последние полтора века. Фаза эволюционно-приспособительного существования государства характерна для Нового времени, когда в основу бытия государства был положен принцип управления делами общества согласно государственным интересам. «Государство вовсе не есть естественно-историческая данность, которая развивается в своей собственной динамике, государство вовсе не таково. Государство. коррелятивно определенному способу управлять»[104]. Но способ управления согласно государственным интересам, продолжает Фуко, рождает правительственную рациональность, суть которой – во внутреннем, то есть правовом самоограничении возможностей государства влиять на жизнь общества[105]. Становление либеральной («буржуазно-демократической») модели управления, состоящей в ограничении действий правительства и, соответственно, в повышении степеней свободы частных организаций и граждан, усиливает спонтанность, стихийность социальных процессов, приводит к возникновению разного рода кризисов, столкновений и в конечном счете завершается мировой войной. Что-то подобное увидел в происходящем Ленин, проводивший прямую связь между стихийным характером истории, буржуазной (либеральной) демократией, рыночной экономикой с ее конкуренцией и кризисами перепроизводства, с одной стороны, и империалистической войной 1914–1918 годов, с другой. В этом отношении революция для него есть не только реакция масс на историческую катастрофу, но и возможность перейти к сознательному управлению развитием общества. Так или иначе, но массовый взрыв и быстрый распад структур прошлого не только дают возможность, но заставляют решать задачу социального конструирования реальности, в большевистском ли его варианте или каком-то ином. Важно, что в России только с этого момента по-настоящему уходит в прошлое традиционное общество и начинается Модерн как таковой, современность в ее строгом значении.


