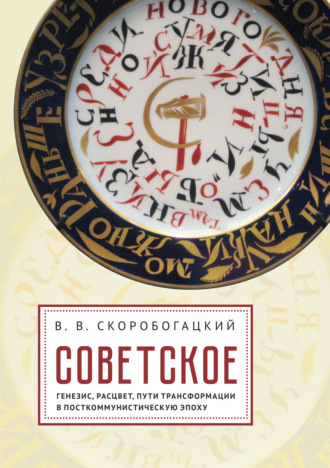
Вячеслав Скоробогацкий
Советское: Генезис, расцвет и пути его трансформации в посткоммунистическую эпоху
Принимая в целом эти утверждения, мы только хотим уточнить, что речь идет скорее о влиянии духа корпоративности, характерного и для романа Чернышевского «Что делать?», который, по словам Ленина, всего его перепахал в юные годы, и для духовной атмосферы, в которой складывалась идейная и политическая оппозиция режиму самодержавия в 1860-е годы. Ценностно-смысловой стержень этой атмосферы задавали крестьянская реформа и ее влияние на крестьянскую общину. Втягивание сельского мира в процессы индустриализации и урбанизации, встреча традиционной культуры с городской придавали перспективам развития общества раздвоенный, альтернативный характер: или «капитализм» (как путь в Европу), или «самобытный» путь реконструкции, обновления основ, «традиции». Ленин отказался от чисто западнического выбора, казавшегося неизбежным для марксиста, целиком принял этот дух самобытности, «наследство» 1860-х годов, и положил принцип корпоративности в основу организации партии и определения стратегических целей (программы) борьбы с царизмом[79].
Так родился большевизм, соединивший в себе генетику русского социализма и новейшую социалистическую теорию, классический марксизм[80]. Отпечаток этой генетики можно видеть, например, в трактовке заводского пролетариата как новой исторической формы крестьянской общины – общины, перенесенной в условия индустриализма и городской жизни, под воздействием которых совершается перековка крестьянина в рабочего – сознательного пролетария, умеющего подчиниться дисциплине. Пролетариат в понимании Богданова – Ленина и был носителем советского. Эта состоящая из бывших крестьян пролетарская масса, схваченная (согласно «Анти-Дюрингу») железным обручем фабрично-заводской организации, собственно, и есть инобытие деревенской общины в пространстве массовой культуры русского города эпохи «первой» индустриализации. Новая, более высокая, отвечающая требованиям современности форма существования общины в индустриальном городе, в условиях технической цивилизации – фабрика, альфа и омега социалистического проекта. Фабрика рассматривалась как институт не только экономический, но и социальный (пролетариат, организованный как класс), и культурный (ядро новой цивилизации), и даже политический.
В известной степени уступка большевиков «местной» (национальной) культурно-политической семантике старого народнического социализма, которая была обусловлена общекультурными факторами, способствовала их отходу от ряда классических основоположений марксизма. Возможность подобной теоретической эволюции уловил еще в 1883 году Плеханов, который в первой своей марксистской работе «Социализм и политическая борьба» указывал, во-первых, на неизбежное развитие теории социализма[81], а во-вторых, на преломление и видоизменение смыслового содержания ключевых понятий этой теории в процессе их использования в политической практике: «Примеры перерастания теории практикой очень нередки в истории человеческой мысли вообще и революционной мысли в частности. Внося то или иное изменение в свою тактику, подвергая тем или иным переделкам свою программу, революционеры часто и не подозревают, какому серьезному испытанию подвергают они общепризнанные в их среде учения. Многие из них так и умирают в тюрьмах или на виселицах, вполне уверенные в том, что они действовали в духе именно тех учений, между тем как, в сущности, они были представителями новых тенденций, возникших на почве старых теорий, но уже переросших их и готовых найти новое теоретическое выражение»[82].
К этому можно добавить, что часто основные понятия заимствованных теорий используются в практической работе как лозунги для мобилизации масс и получают смысловое наполнение в зависимости от ситуации и стоящих перед революционной партией задач. Эта судьба и постигла понятие социализма (коммунизма) в русском революционном движении. При этом в интерпретации его содержания и исторического смысла наблюдалось определенное смещение от классического (Энгельс) представления о коммунизме как прыжке из царства «железной» необходимости, стесняющей и уродующей индивидуальную и социальную жизнь человеческих масс, в царство свободы, к специфически российскому истолкованию его как устройства общества на началах равенства и социальной справедливости. Истолкование советского как формы зарождения социализма на почве российской действительности способствовало решительному обновлению Лениным теории социалистической революции. Но поскольку социализм рассматривался по-прежнему как стратегическая цель революции, советам он отводил роль инструмента для привлечения народных (в первую очередь крестьянских) масс к союзу с рабочим классом, подчинения тех и других руководящей роли партии большевиков. Так имя существительное («советы») превратилось в прилагательное. Но даже при таком оборачивании смысла советское наполнило идеологическую абстракцию социализма живым актуальным содержанием. Призыв «Вся власть Советам!» был не только лозунгом политической мобилизации и объединения разнородных масс, задачей тактического характера[83], но имел и стратегическое назначение. Он играл роль актуальной цели, переводя отвлеченную идею социализма на язык, понятный широким массам, составляя ее (идеи) прикладную сторону и придавая жизненный смысл и практический характер социалистическому проекту.
После победы большевиков в Гражданской войне советское стало cтруктурно-сeмантической основой конструирования нового мира.
Глава 2
Проблема сталинизма в контексте восстания масс
А теперь настало время задаться вопросом, что такое сталинизм. Сталинизм – загадка нашей истории ХХ века и первых десятилетий начавшегося XXI-го. Найти ответ на этот вопрос – значит определить не только причины трагедии, происшедшей со страной в ХХ веке, последствия которой мы переживаем и поныне, но и перспективы того, что в конце 1980-х называли возвращением в историю, возвращением в цивилизацию. И в первую очередь потому, что сталинизм, что бы мы ни понимали под этим сегодня, не есть творение и детище исключительно Сталина и узкой группы лиц, деливших с ним власть и тяжесть принятия преступных решений.
Если бы это было так, то после его смерти, после отстранения от власти его сподвижников проблема разрешилась бы сама собой, простым ходом времени. Но сталинизм – это массовое, коллективное историческое деяние, в которое сознательно или против своей воли была втянута подавляющая часть населения страны, и взрослые, и дети, стремительно взрослевшие в пограничных обстоятельствах эпохи, «века-волкодава». Более того, это действия людей, помноженные на мощь социальных стихий, вырвавшихся откуда-то из потаенных глубинных пластов нашей истории, подспудно вызревавших в этой глубине в течение нескольких столетий и залегавших на неведомых нам горизонтах. Это выброс коллективного бессознательного нашей истории, судороги рождения – чего? Рождения советского – нового мира, роль архитектора которого выпала на долю Сталина. И такое сопоставление проблем советского и сталинизма, на мой взгляд, дает возможность понять, что сталинизм – одно из ключевых явлений нашей истории, что это зеркало, в котором мы можем и должны увидеть себя, обнаружить в себе способность не просто дойти «до края», но и заглянуть туда, где открываются бездонные пропасти рукотворного зла. Пропасти, о которых первым рискнул заговорить автор «120 дней Содома». И понять, что это не исторический «вывих», не литературный эпатаж, а будни того режима властвования, который мы связываем с именем Сталина. Сталинизм и советское – с того самого момента, когда советское обретает самость и существует на собственной основе – неразрывно связаны друг с другом связью часто не очевидной, но от того не менее прочной.
Образы русской истории: между Западом и Востоком
Литературы по проблеме сталинизма – гора с Монблан высотой[84], разнобой точек зрения на него – колоссальный. В отечественных работах академически-научного плана доминирует постановка проблемы сталинизма, восходящая к докладу Хрущева на ХХ съезде КПСС: сталинизм – что это, отклонение от Учения, от ленинского наследия, извращение духа марксизма-ленинизма или продолжение ленинизма в новых условиях, которые сложились после победы большевиков и откладывания сроков мировой революции в передовых странах Запада? Спор этот сводится к несложной дилемме: или все дело в личности Сталина – или это проявление исторической необходимости.
По существу, это спор о фикциях: и то, и другое – вещи, не поддающиеся определению. Можно приписать Сталину любые психические аномалии и болезни, до паранойи включительно. Бумага, согласно поговорке, вытерпит все. Но эти утверждения, даже со ссылкой на авторитет академика Бехтерева, лишены научной достоверности. Тем более, что та эпоха слишком многое склонна была объяснять простым заключением – «паранойя». Сходный диагноз («шизофрения») выносит поэту Ивану Бездомному специалист по черной магии Воланд, под маской которого Булгаков выводит князя тьмы. А может быть, не только та эпоха стремилась, что называется, спрятать концы в воду, помещая корень проблемы в непроглядную тьму человеческой души, но и более поздняя, наша, когда несогласие с существующими порядками «специалисты» из КГБ времен Андропова квалифицировали как результат психического расстройства, подвергая диссидентов принудительному лечению в соответствующих учреждениях. Это во-первых. А во-вторых, современная наука не в состоянии объяснить, каким образом психические особенности человека, даже находящегося на верху пирамиды власти, могут определить ход исторических процессов в такой сверхсложной и чрезвычайно поляризованной социальной системе, как переходное общество. Скорее наоборот, пребывание в поле облучения абсолютной властью может губительно сказаться на психике человека. Ведь ни Калигула, ни Нерон не были злодеями от природы.
Если и имеет смысл обсуждать проблему паранойи применительно к Сталину, то с точки зрения не психиатрии, а стратегии поведения властвующего. Э. Канетти говорит о подобном достаточно распространенном типе вождя: «Властителя, который отодвигает от себя опасность, можно отнести к параноидальному типу. Вместо того чтобы бросить вызов и выйти на бой, вместо того чтобы решить свою судьбу в открытой схватке, он пытается всякими приемами и ухищрениями перекрыть дорогу судьбе. Он создает вокруг себя пустые, хорошо обозримые пространства, чтобы заметить и предотвратить любую опасность. Сторожить приходится со всех сторон, ибо в нем постоянно жив страх перед возможным окружением: врагов много, и они могут наброситься отовсюду одновременно. Страшней всего опасность за спиной, где ее трудно заметить вовремя. Поэтому у него глаза повсюду, и самый легкий шорох от него не ускользает, ибо за ним могут скрываться враждебные намерения»[85].
Неоспоримое свидетельство такого типа властвования – право вынести смертный приговор, который будет исполнен, а сама власть оказывается победой над смертью[86]. Но не над судьбой, которая мстит за это уклонение от встречи другой встречей – со смертью, нескончаемым переживанием ее присутствия здесь и теперь. Отказ от роли героя, от открытого столкновения с опасностью ставит такого властителя перед многоликим и одновременно безликим противником, перед смертью как таковой. И когда смерть становится единственным способом властвования, он спускается в царство мертвых, теперь сам он живой мертвец, упырь. Его поведение кажется окружающим алогичным, чем-то противоестественным и болезненным, но это не психическое заболевание. Это душевный ожог в результате соприкосновения миров (живого и мертвого), которые чужеродны друг другу и разделены онтологически, самой природой вещей[87]. Уже наличие у одного человека права обрекать на смерть другого ставит первого (властителя) по ту сторону границы, отделяющей жизнь от смерти. А когда такие «встречи»-казни становятся регулярными, планово организованными и систематическими, становятся массовидными практиками органов государственной власти, можно подумать, что параноидальный психоз охватил не только государственный аппарат, но и подвластное ему население, ликованием встречающее очередное известие о разоблачениях «врагов народа» и их казни.
Насколько все это имеет отношение к Сталину – вопрос, который требует изучения. Вместе с тем характеристика, приведенная Э. Канетти, кажется вполне правдоподобной в отношении Сталина. В романе Л. Фейхтвангера «Успех» в качестве эпиграфа приведены высказывания нескольких исторических персонажей о судьбе, в том числе и сталинское. Так вот, согласно Сталину, большевики (маска, за которой он скрывался отнюдь не из скромности, говоря о себе в третьем лице) не признают судьбы, ибо история творится людьми. Отрицая судьбу и дегероизируя действительность, он приоткрывал тайну – стремление к власти было для него средством компенсации страха смерти. И в этом утопическом стремлении – корень того безумия, которым была рождена террористическая машина власти. Излучаемая этой машиной атмосфера безотчетного страха («госстраха») умножала социальную базу режима по мере того, как охватывала все большие и большие массы людей. Но все это, повторю, только предположение…
Историческая необходимость, закономерность, «красная нить» истории – вещь проблемная не в меньшей степени. Апелляция к исторической необходимости, к закономерности возникновения сталинизма в конечном итоге оборачивается банальной констатацией рабского духа российского общества, обреченного на деспотическую форму правления. Со времен ли Ивана Грозного, как об этом писал Р. Пайпс, или прямо от монголо-татарского ига следует отсчитывать начало «повреждения» русской национальнокультурной ментальности – в рамках данной концепции это уже мелочи, детали непринципиального характера.
В последнее время тезис о закономерности сталинизма («тезис непрерывности», как его называет С. Коэн), доходящий до утверждения о его неизбежности, получил распространение, особенно на фоне популярности, которую приобрела с конца 1990-х годов тема «власти-собственности». Эта тема за полтора столетия пережила эволюцию, исходным пунктом которой были размышления Маркса о так называемом «азиатском способе производства». С самого начала она включала в себя принципиальное признание этого способа производства теоретической аномалией, за которой стоит отклонение в развитии восточных обществ от той магистрали, по которой двигались «исторические народы» романо-германского мира – в полном соответствии с «Философией истории» Гегеля. Вместе с тем надо уточнить, что фиксация некого феномена в качестве теоретической аномалии не обязательно означает отрицание этого феномена, но часто подталкивает к вопросу о назревшем изменении теоретико-методологического подхода, о расширении или изменении самого поля зрения, в котором рассматривается этот феномен. В частности, для Маркса это стало побудительным мотивом в обращении к России как исторической проблеме. Если в 1840-1850-е годы «проблема России» решалась основоположниками учения исключительно в отрицательном плане, то позднее Маркс (в отличие от Энгельса) увидел в пресловутой русской специфике шанс на успех европейской революции, в которой в одно целое сольются два потока – техническая мощь и организованность западного городского пролетариата и социалистические устои русской крестьянской общины. Об этом он прямо писал в «Письме в редакцию “Отечественных записок”». Там же он открещивался от гегелевско-манчестерианского европоцентризма: «Ему (журнальному критику. – В. С.) непременно нужно превратить мой исторический очерк возникновения капитализма в Западной Европе в историко-философскую теорию о всеобщем пути, по которому роковым образом обречены идти все народы, каковы бы ни были экономические условия, в которых они оказываются…»[88]
Здесь отчетливо просматриваются концептуально-методологические параллели между образом «Востока», отклоняющегося от основной линии развития мирового духа, и «сталинизмом», который рассматривается как отклонение от «подлинного» марксизма, движущегося в русле развития мировой цивилизации и составляющего, согласно Ленину, вершину этого развития. А за образом «сталинизма» как отклонения от Учения просматривается более общее положение об отклоняющемся (от чего?) развитии России на всем протяжении ее истории. И если варяжские князья, будто бы основавшие и крестившие Русь, еще удерживали ее в границах европейского культурно-политического пространства, то монгольское завоевание «сорвало» страну с европейской орбиты и забросило в таинственные и пугающие миры «азиатчины», восточного деспотизма. Одним словом, идея К. Н. Леонтьева об аморфности славянства, не способного к историческому самоопределению и испытывающего потребность в упорядочении, оформлении и структурировании с помощью какой-то внешней силы (варяги, Византия, Золотая Орда, немцы в петербургский период, марксизм, «Чикагская школа» в 1990-е годы), сохраняет свою действенность и в современных спорах о судьбе России.
Последовательное развертывание образа «Востока» как исторической аномалии, как отклонения от западного «образца» – в виде ли «азиатского способа производства» (Маркс) или «восточного деспотизма» (К. Виттфогель) – в конечном счете обернулось простой и небезвредной тавтологией. В последние годы появились концепции, в которых феномены власти-собственности, восточного деспотизма и «азиатчины» не просто отождествляются друг с другом, но сливаются в виде идеологического конструкта «русской власти». Появление подобного конструкта – очередное свидетельство не только теоретической капитуляции перед лицом «проблемы России» (если таковая существует), но также национального самодовольства, самолюбования и гордыни («вот мы какие!»), служащих апологетике сталинского и любого иного деспотизма. Неотъемлемая составная часть апологетики деспотизма – обоснование очередной версии казенного (из государственного бюджета финансируемого) «патриотизма». Патриотизм по-русски заключает в себе значительную долю холопской гордости «сильным» (деспотическим) государством и неотделим от культа его очередного вождя. Причем этот быстро впадающий в самодовольство патриотизм вполне органично уживается с гипотезой об азиатской «порче», некогда постигшей «славеноросскую» натуру. Первым воплощением этой гипотезы было классическое евразийство 1920-х годов, относившее этнический тип русских к симбиозу славянского и туранского элементов. Собственно говоря, почвой для возникновения русского национализма с особым («цивилизационным») уклоном – от возрожденного евразийства до «русской власти» – являются смутные подозрения насчет «нечистоты» русскости, которые находили и находят в национализме свое выражение.
Отличительная черта русского национализма, исповедующего тезис о цивилизационной «особости» России, – его принципиально неполитический, отчасти иррациональный характер веры вопреки очевидному: верую, ибо абсурдно. Порой кажется, что вера эта – не что иное, как сублимация затаенного, от самих себя скрываемого комплекса неполноценности, компенсация культурно-политической травмы, полученной в историческом прошлом. И проявляется эта сублимация в виде неискоренимой ксенофобии; порой кажется даже, что она – прирожденное свойство русской души. Это неприязнь ко всему чужому, скорее – опасливое отталкивание чужого, за которым (отталкиванием) – боязнь чужого как чуждого и враждебного, несущего неясную угрозу. Смысловой нерв ксенофобии, ее почти метафизический стержень – антисемитизм, в котором ксенофобия находит свое полное выражение, самообоснование и самооправдание. Это конечное объяснение всему и вся в русской истории, окончательный и безапелляционный ответ на вопрос: кто виноват? Такой вопрос гораздо важнее традиционного «почему?», поскольку в семантике языка русских националистов отвлеченная и безликая причина обретает зримый облик «лица», потенциального носителя вины.
И это сближение темы сталинизма, его природы, с одной стороны, и русского этнокультурного национализма, с охотой идущего на службу деспотическому государству, с другой, отнюдь не случайно. С определенного момента оба эти феномена функционально выступают сторонами единого целого.
Иначе говоря, анализ сталинизма традиционно ведется в русле философско-исторической концепции России, в рамках которой по существу рассматривается не историческая (а значит, многомерная, «многоукладная») реальность сталинизма, а его образ, заданный парадигмой отклоняющегося развития России, то есть манчестерианско-гегелевской по своим принципиальным установкам парадигмой европоцентризма. Сталин – как и Иван Грозный и Петр I – только персональные знаки, будто бы свидетельствующие о «неевропейском» характере русской истории, о несоответствии ее образцу/стандарту. И эти же фигуры – предмет споров в нашем обществе, разгорающихся по мере того, как актуализируется проблема национальной идентичности и на повестку дня встает вопрос: кто мы?
Искажающее влияние европоцентристской парадигмы проявляется в принципиальном отвлечении от культурных, человеческих и даже политических измерений жизни общества, когда некие социально-экономические и технические показатели берутся как системные и определяющие. Опыт же ХХ века, опыт успехов и неудач стран-лидеров индустриального мира, показал, что даже с точки зрения макроистории решающее значение в достижении успехов (например, устойчивого экономического роста) имеют именно эти исключаемые из рассмотрения параметры, особенно культурные и гуманитарные. А уже тем более с точки зрения микроистории, на уровне повседневности, где поверяется подлинная, человеческая цена успеха. В оправдание той цены, которой достигнуты внешние показатели сталинской Системы, приводят слова из речи, будто бы произнесенной Черчиллем в парламенте по поводу 80-летия Сталина: Сталин принял Россию с деревянной сохой, а оставил с атомным оружием[89]. Эта формула – несомненный продукт идеологического мифотворчества, важная смыслонесущая часть сталинианы, активно используемая сегодня в идейной полемике. Что сказали бы ее авторы, узнав, что атомная бомба окажется по силам и Северной Корее – одной из самых бедных стран мира с наиболее жестоким политическим режимом. Но об этом современные апологеты Сталина предпочитают умалчивать – слишком уж нежелательные выводы вытекают из подобного уравнения.
Опасная иллюзия, сопровождающая парадигму европоцентризма, – возможность и даже необходимость догоняющего развития, развития любой ценой, не считаясь ни с людскими жертвами, ни с культурными утратами. Лес рубят – щепки летят. Количество достижений в экономике и технике значит больше, чем качество жизни человека, да и сама жизнь. При этом ссылаются на неизбежные тяготы модернизации. Но можно ли называть модернизацией предпринятую Сталиным реконструкцию общества в соответствии с образцами, которые он заимствовал у Ивана Грозного и Петра I? Вписывалась ли в реалии России ХХ века модель сверхцентрализованного государства с ключевым для нее (модели) институтом абсолютной личной власти правителя, не вызвало ли осуществление этой модели попятное движение и деградацию социальных, политических, хозяйственных структур, девальвацию культурных ценностей и их совсем не ницшевскую, а скорее оруэлловскую переоценку, сопровождавшую аннигиляцию человеческого в человеке, которую И. Бродский назвал антропологическим оползнем?
И все это – полвека спустя после того, как С.М. Соловьев в «Лекциях о Петре Великом» заметил, что история не место, где мальчики бегают взапуски. Каждое общество существует в особом природно-географическом и геополитическом ландшафте и идет своим путем. Эти пути часто пересекаются, добавим мы, но никогда не совпадают и не повторяются.
С точки зрения апологетов сталинизма, его историческая суть и назначение – в противопоставлении России и Запада, противопоставлении, доведенном до края, до степени антагонизма, борьбы не на жизнь, а на смерть[90]. Но это столкновение не военное, не политическое, не культурное: и войны, и политические конфликты, и отчужденность культур – все это только оболочки, внешние формы, скрывающие его действительную суть – метафизический раскол. Поэтому основной фронт этой борьбы, как ни странно, проходит не по границе между Россией и Западом, а внутри России. Именно внутри затаился враг-оборотень, чужой в облике своего. В таком представлении сквозит недоверие к собственному народу, проступают те самые подозрения насчет «нечистоты» русскости. В нем есть что-то эсхатологическое, есть предчувствие конца света и неизбежной расплаты с оборотнями, схваченное еще в послании старца Филофея великому князю Василию Ивановичу: «В день Страшного суда расплату получат и с еретиками будут осуждены за то, что обратили свет во тьму и истину в ложь…» И тогда сталинизм предстает как религия искупления, достигаемого через массовое жертвоприношение – кощунственную пародию распятия Христа.
Против веры научные аргументы бессильны. И для того, чтобы вернуть анализ сталинизма на почву реальности, сделать предметом научного исследования, надо выйти за пределы, заданные парадигмой европоцентризма. Ее основания уходят в тысячелетнюю историю религиозно-политического противостояния между вторым и первым Римом, между Византией и Европой. Исчерпанность этой парадигмы стала очевидной со времени выхода в свет книги Шпенглера «Закат Европы». Характерно, что в том же 1918 году Блок в своих «Скифах» проводит сходную мысль: «О старый мир! Пока ты не погиб, / пока томишься мукой сладкой, / остановись, премудрый, как Эдип, / пред Сфинксом с древнею загадкой! / Россия – Сфинкс…» Ощущение если не конца света, то, по крайней мере, кризиса картины мира, сложившейся на основе антитезы «Европа – Россия», было широко распространено по обе стороны линии фронта, разделявшей воюющие армии. Речь идет не только о фальсификации (в смысле К. Поппера[91]) теоретической аксиоматики, но и об исторической изжитости той реальности, которую она конституировала.


