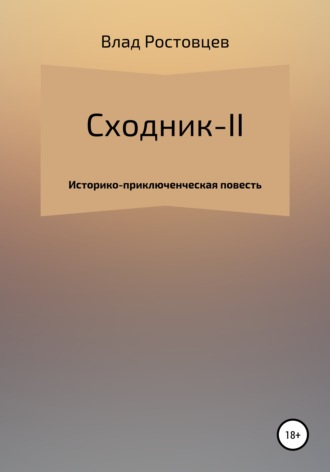
Влад Ростовцев
СХОДНИК-II
I
… Сожитель избыточно эмоциональной Тихомиры, чуть не лишившей десятского зрения, а неправедным было сие намерение, лютое, выглядел ухоженным и с аккуратно постриженной бородой.
Явно свежевыстиранная рубаха – по-домашнему, навыпуск, была лишь чуть примята ото сна и выглядела, будто токмо вечор пошита.
По всему смотрелось: соблюдался он в уюте, сытости, да и под строгим приглядом, а о хмельном, похудев и словно помолодев, даже мечтать забыл!
«Во, что делают сливки, а еще и масло из них, с теми, кто ослаб крепостью духа! Вконец переменился Негослав! Выбыл из рядов. Не пойдешь с таковым по бабам або в разведку! А ведь было: подавал надежды…», – мысленно удостоверились ловчий с десятским и молча опечалились.
– О чем расшумелись, други? – промолвил Негослав, неторопливо почесывая грудь сквозь рубаху. – Не возразили ли чем любезной моей?
– И не собирались даже! – открестился Шадр, токмо что уличенный, что подкатывал к той с намерениями блудного свойства, нарвавшись на нелюбезность, и опасавшийся продолжения разбора своей недостойности, позорящей честной мужской род. Ибо презренны соблазнители, не достигнувшие взаимности у объектов своих вожделений! – Привели мы мальчонку из печенежского стана, она же предположила, что обижаем сей.
А иное замыслено нами…
– Вот и выкладывайте! – встряла Тихомира, еще не вполне остыв и уверенно читая в мыслях неудачливого ходока по ее вдовью честь, из-за оплошки коего Нечай едва не стал убогим и сирым калекой с пустыми глазницами, добывающим на черствый хлеб насущный, вымаливая подаяния.
– Не ведаем мы, кто оный малец, спасенный Нечаем от рабства и обмененный на хомут, кем прозывается и чем питается, ведь даже накормить его не можем, хотя голодны и сами. А Негослав – истинно разумник отроду, и права ты была, пригрев такового, да и возвысив почти до себя самой, сведущ в печенежском наречии. И решили мы обратиться к тебе, дабы помог он по настоянию твоему, – замысловато ответствовал Шадр с присущим ему хитроумием, ублажая тщеславие домовладелицы и пребывая в уверенности, что верно оценит Тихомира тот респект, понеже не бывает женщин, кои отвергли бы адресную лесть, возвышающую их в собственных очах.
Да ведь и не отвергла! – мысленно простив негоднику грехи его.
– Будь по-вашему! – заключила она. – Настою! Ведь доброе у мя сердце…
Негослав, коханый мой, пособи дружкам своим! Расспроси ребятенка, не кормленного!
Негослав разом приосанился, понеже не бывает мужчин, кои отвергли бы ласковое женское слово, возвышающее их в собственных зенках. И о чем-то спросил малого, подвинутого вперед Шадром, на говоре, понятным лишь им.
О чем вещал коханый трезвенник, уж непригодный для хождения с ним в разведку и туда, где намного слаще оной, сотоварищи могли токмо предполагать.
Однако Шадр ощутил, что плечико, за кое держал мальчугана, напряглось при первых словах Негослава, а вслед отчасти обмякло. И мало-помалу начал он лопотать – очевидно, понимая самодеятельного толмача.
А Тихомира явно приступила сопереживать – вероятно, реагируя на мимику мелкого по годам и росту печенега; сотоварищи же взирали на ее сожителя, пытаясь угадать, о чем речь, по выражению его лика.
Содержательный диалог старого и малого продолжался не столь и долго. Поелику на всем его протяжении Нечаю лишь единожды привиделся накрытый стол – с добрым ковшом медовухи и бычьим мясцом с вертела, поданным крупными кусками, хотя допускал он и компромисс в виде молочного поросенка в нежной корочке и лучше бы с хреном; меж тем, на маршруте следования сюда данный мираж являлся ему аж осьмикратно, неизменно вызывая обильное слюноотделение.
– А и вызнал! – огласил Негослав, завершив. – Осиротили мальца! Зрел он, что пал его отец, зарубленный, ведь в суматохе не успел надеть доспеха, по неосторожности снятого им пред сном. И забился сей под телегу, откуда его извлек некий при оружии. Дале и вы объявились, да и забрали с собой…
– Се за него заступился я, и чуть живота не лишился! А Нечай, спасший мя второй раз за ночь, предотвратил продажу в рабство, – вклинился в повествование Шадр, внося ясность. – Поведай ему о том, дабы помнил, кому обязан.
Негослав покосился на любезную свою – та кивнула в знак дозволения. Вслед и поведал он – на печенежском. И наново ощутил ловчий, что напряглось щуплое плечико под его шуйцей.
– А мать-то его где, и чем кормить голодное дите? – справилась Тихомира.
– Осталась в кочевом стане, до коего не один день верхом, ведь скоро рожать ей. Отец же, предполагаю, взял с собой сына, ибо происходит из рода печенежских вождей, а потомство их – сам замечал в плену – приучают к ратному делу сызмальства. Зовется же, я о малом, Тимаром.
По своему невольничьему знанию и не сомневался я насчет кормежки у печенегов. А оный подтвердил: баранье, говяжье и лошадиное мясо – в вареном, копченом, соленом и сушеном виде. Припоминаю: не разводят они домашнюю птицу, не ведают вкуса куриных яиц. А свинине – противятся, равно и рыбе…
Пользуют мясную юшку, приправленную просом. Не пренебрегают и разваренным ячменем.
«Я же сей миг не стал бы противиться жареной свининке, и даже шмату сала! – подумал Нечай, ощутив очередной выброс слюны. – И уж точно не отказался от пары курей, тушеных, умяв их до косточек. Медовуха же может и подождать!»
– А молочное?! Употребляют ли его кочевые? – всполошилась Тихомира.
– Употребляют, – успокоил ея сожитель. – Чтут они сушеные творог и молочные пенки, не сторонятся сметаны. Одобряемо ими и топленое масло. А из кобыльего молока делают бражку – однако не для ребятни она…
И опечалилась хозяюшка!
– К столу, а уж пора накрывать его, не успею я вытопить масла. Нет у мя такового творога: непривычен он в Киеве. А что за диво – сушеные пенки, даже и не ведаю. Привыкли мы в доме обходиться без копчений и солений, мясных: токмо вред от них! Держу у себя в леднике лишь пару свиных рулек – на случай прихода сестер моих с мужьями, а получается: не годятся и они для махонького кочевого… О конине же и баять брезгую! К дневной трапезе, ясно, расстараюсь на вареную говядину и юшку с просом, сбегав допрежь на торг. Еще и пирог выпеку! И курицу потушу на пробу – вдруг ему понравится? Ноне же смогу побаловать лишь сметаной, сливками да пареными репками…
«Лучше бы мы пожаловали днем!» – незамедлительно вывел Нечай, богатырского размаха в плечах и вельми уемистого чрева, далекий от глубокого чувства к репкам. Хотя его оголодавшее нутро уж изготовилось обратиться в отвратный достойным утробам конформизм, готовое поддаться чуждому вегетарианству, заведомо поступаясь принципами!
– Да полно о том! – воскликнула вдруг Тихомира. – Дите приголубить надобно, а я, неразумная, об еде развела…
И взяв того за руце, бережливо притянула к себе и прижала к груди своей, задушевно молвив, а он понимал, будто:
– Без отца ты ноне, и мамка твоя далече! И некому пожалеть тя из родичей…
Не дрожи: никто отсюда не выгонит и не отдаст злым людям! Накормлен будешь, выкупан и обстиран. Халатик твой заштопаю, и спать уложу на самом мягком. Дале – решим со спасителями твоими, а не оставлю в беде!
Со словами сиими, проникновенными, погладила она его по взлохмаченным волосенкам. И словно ударило изнутри ребятенка! Зримо задрожал весь, однако крепился, аки мог, ведь малой, а будущий муж! И лишь две капельки протекли по щекам его, печенежским, до оконечностей скул…
II
– А вслед, – продлил Шадр свое повествование, не всегда адекватное истинности, ведь о собственных промашках умалчивал он, а о многих тогдашних мыслях Нечая не мог и ведать, – все мы прошли в дом. Тихомира увела мальчонку по лесенке в верхнюю комнату.
Вернувшись, уведомила, что уложила печенежца, дабы пришел в себя и накормит его там же – отдельно от нас, дабы успокоился.
И принахмурился Негослав, податливый и послушный ей! Понеже горница являлась опочивальней, а иного места спать на перине и любиться с уютом, боле и не было. Ведь нижний этаж на четверть занимали верстак для костного резания и две полки с инструментами, оставшимися Тихомире от отца. Была еще и полка с товаром на продажу, понеже настояла хозяйка, дабы Негослав освоил и новое для себя ремесло: не беда, что задешево пойдут на торге его поделки, а все прибавка в доход семьи!
И обменялись мы с Нечаем взорами понимания: сколь ни ухожен примак, а не хозяин он в доме! Невмочь ему стукнуть кулаком по столешнице, даже и с твердым характером. А у Негослава и не водилось такового…
Вроде и теплынь, а чегой-то зябко стало. Видать, старею… Поднес бы хвороста, а то уж пламя никнет.
– Хитрован! – подумал внимательный слушатель бывалого ловчего, неторопливо ступая под звездным тмутараканским небом лета 1009-го в сторону, где еще с вечера заготовлена была изрядная куча хвороста, а едва стемнело, Шадр передумал о месте костра, отнеся его шагов на тридесять. – Верно сказывал Путята: «В Киеве каждый себе на уме!». Не то, что мы, вятичи, простодушные и доверчивые! – взять хотя бы мя…
Явно соврал он насчет зябкости, да и костер убыл лишь чуть.
А захотелось ему проверить, спит ли воспитанник его – вовсе уже не малой, а в старшем отроческом возрасте на ближнем подходе к младости. Уже и на щеках у него пробивается, а жидкой бороденка будет, когда возмужает! – не бывает у печенегов густых бород…
По возвращении с охапкой топлива заезжий торговец ювелирной всячиной, прибывший в сей край по коммерческой надобности из дальней Земли вятичей, будто бы оставив дома любимую жену Драгомиру, бывшую, согласно легенде от своего натурального старшего родича и Осьмомысла – личного его наставника в разведывательном промысле, брюхатой уж третьим, высказал, будто невзначай:
– А и крепко спит отрок – даже не шелохнулся…
Дале, насытив огнь, присел он, простодушный и доверчивый, изготовившись к продолжению рассказа, в коем боле всего занимал его десятский именем Нечай, крепко выручивший в Царьграде, где нынешний Радислав пребывал Молчаном. И было то чрез седмь лет от излагаемых Шадром событий.
– Разом жарче стало! И зябкость моя отходит, – констатировал выходец из Киева, себе на уме. – Пора и вернуться к рассказу. А из высказанного мной ране, запомни: аще останется вдовой жена твоя, ведь рисковое у тебя тайное ремесло, а у княжеского палача вострая секира, ни один примак не сравнится с тобой в ее памяти!
Ибо явно ты из тех, кои могут врезать кулаком не токмо по столешнице, а уважают таковых бабы, хотя лишь в душе! – открыто же, из вредности, и не намекнут…
– Да с чего ты взял оное?! – вскипел возмущением Радислав.
– А с того! Не провести тебе старого добытчика зверя и птицы! Не бывает торговцев, столь сведущих в ловитве!
Месяца не прошло от твоего прибытия, а уж выдру добыл, чего даже мне не удалось тут доселе. Сам же и ошкурил ее без единого изъяна, а сие вовсе невозможно для того, кто охотится, якобы, лишь на досуге!
Промысловик ты, и вельми знатный! – редко доводилось встречать таковых. И не токмо матерый ловитвенник, а натасканный и на иное, ежели вспомнить, что изловчился передать ту выделанную шкуру в дар княгине нашей, зело недоверчивой к племени твоему, языческому.
А ты и болотную рысь взял, а вслед изготовил чучело, коим наново порадовал княгиню. Вслед не осталось у мя сомнений: отнюдь не тот ты, за кого себя выдаешь! И с недобрыми намерениями…
– Эко, влип я! Ведь сознавал, что рискую с теми добычами и могут заподозрить, однако надеялся, что пронесет… А иначе и не приблизился бы к княгине – в надежде, что и князю представлен буду. Придется скоро прибегнуть к общему нашему знакомцу, допрежь не опоздал! – мигом сообразил Радислав, он же урожденный Молчан.
И прибегнул:
– А вот друг твой, Нечай, не угрожал мне зловещим тоном. Поелику благороден он, не в пример тебе!
– Нечай благороден? Уж не спятил ли ты?! Истинно насмешил мя! Да к тебе-то он чем причастен?! Кривду несешь… Не введешь в заблуждение, и не надейся!
– Отвечу, чем. Виделся с ним запрошлым летом в Царьграде, где пребывал он пентархом – командиром над пятерыми варангами из Варяжской стражи при тамошнем василевсе.
Недолго был и декархом – во главе десятка, да изрядно изувечил свово начальствующего, не поделив с тем полюбовницу, отчего и вернули его в прежний чин… Из вятичей он, равно и я, а родом с брегов реки Нары. В Варангу же направили его из Киева за отличие в той битве с печенегами, о коей ты мне рассказывал, будучи и сам героем.
Широк Нечай в обхождении с женским полом, а превыше всего увлекся в Царьграде церковными – монахинями и послушницами. И получает от них за пылкость свою подарки, кои вскоре проматывает. Вдобавок сии его и добрым вином потчуют, ибо изобильны ягодами ухоженные монастырские виноградники… Ежели жив еще, ведь у него поход за походом из-за увлеченности василевса войнами, наверняка восстановлен в декархах, а может, и приподнят выше, ведь доблести в нем на троих, а мощи – и боле, с таковыми-то плечищами! А пожелаешь, приведу и приметы в облике…
– Обойдусь и без них. Уже поверил, узнав Нечая по повадкам. Истинно он! – ни в чем не меняется. И о том, что вятич он с брегов Нары, сам от него слышал. А из Царьграда он не раз мне и малому, еже еще были мы в Киеве, передавал гостинцы с уволенными из Варанги по возрасту и тяжким ранениям…
Одного не возьму в толк: благородство-то его в чем?
– Крепко выручил он мя. Век не забуду! Аще встретимся, воздам ему сторицей…
– Получается, он с тобой заодно?
– Догадлив ты! – уклончиво, однако же с глубоким подтекстом, ответствовал торговец ювелирной всячиной, он же, по разнообразию талантов своих, не токмо коммерческих, искуснейший охотник, умелый скорняк, да и таксидермист не из последних, еще удалец и везунчик на попечение внутреннего гласа.
Сей и подсказал! – телепатически и незамедлительно:
– Срочно подольстись к ловчему! Падок Шадр на неумеренную похвалу! Она – его пята Ахиллесова. И хотя не ведомо тебе оное крылатое выражение, упомяну, что довелось мне лицезреть слепого сказителя Гомера въявь; ежели б, по ветхости лет, не хромала у него дикция и не шамкал по причине беззубости, впечатлил еще боле!
И учти: потому он взъелся на тя, что ревнует к охотничьим подвигам и опасается конкуренции. Ведь до твоего прибытия был незаменимым. Расстарайся, сколь можешь, а развей его огорчения! И набейся в младшие друзья ему, уступив старшинство и восхваляя его трофеи…
Будешь умел и вкрадчив в том, проникнется он к тебе, а допускаю, пособит и украсть емкости с нефтью, ведь затаил на Киев великую злобу за свое изгнание! А сам и повинен был, ибо браконьер, и из личной корысти злостно прикончил княжеского оленя на мясо и рога, продав их на торге за добрую цену…
И сразу же разбежался Радислав фонтанировать лестью на своего ночного визави, начав с того, что преклоняется пред охотничьими умениями Щадра и каждодневно завидует, понимая: ни за что не достичь ему таковых вершин!
– А дрохвы?! – воскликнул он, невежливо тревожа сонную ночную тишь, упомянув пред тем ловчие подвиги Шадра едва ли не по всей линейке тмутараканской фауны, исключая лишь сусликов и полевок. – Мыслимое ли дело добывать – да раз за разом! – столь осторожных птиц неимоверной величины?! Мне о таковом и не мечталось! Ты же и тут превзошел! Ибо щедро дано тебе от неба, и сам к тому прибавил! Крут Нечай-богатырь, а ты – впятеро круче!
– Да уж! – отозвался ловчий, уже потеплев к подозрительному коммерсанту и не скрывая полного согласия с его восторгами в свой адрес. – К дрохвам могут подобраться совсем немногие! Из лучших в обеих ловитвах киевского Владимира вем таковых, опричь себя, лишь двоих, а и то не вполне уверен в них…
А ты, зрю я, разбираешься в умениях! Хвалю!
– Благодарствую за похвалу, однако предпочел бы обучение под твоим началом! Поелику, зело уступая тебе в мастерстве и ловитвенном опыте, наделен я прилежанием и послушностью старшим. И пущай никогда не дотянуться до тебя, а превзойду всех иных! И гордиться мной, своим учеником, будешь!
– Помыслю о том на досуге. Не обещаю, а надейся! Все ж, пора и продолжить, – молвил потенциальный наставник. И перешел к продолжению…
III
Накрепко запомнилось курсанту Ратше, наново ставшему Молчаном по возвращении в родное городище, жаркое лето 1003-го, оказавшееся ровно 950 лет спустя, вслед за переменой политического климата, напротив, холодным.
Ведь славной выдалась ловля банды и главаря! – в чем по прошествии многих столетий аналогично преуспели Глеб Жеглов и Володя Шарапов, не зря просидевшие всю ночь в целях пресечения разухабившейся малины.
В том же вельми отдаленном от Ратши веке имелась и еще одна знаковая схожесть с делами давно минувших дней из старины глубокой, подразумевая легендарную речь пред телекамерами некоего верховного главнокомандующего суверенной державы, населенной россиянами, понимаешь, представлявшими неведомый дотоле этнос.
Причем, его извилины, сплошь в загогулинах, утомило вовсе не солнце – подозрительной величины, предвещающей репрессивные меры от сотрудников НКВД, коими может быть схвачен за самое-самое даже враждебно-мохнатый шмель на душистый хмель, облачившийся, заметая следы, в гимнастерку комдива РККА – с эмалированными ромбиками из красной меди в петлицах. А все же не обломилось им с цаплей серой, сиганувшей от них в камыши!
«Операция очень и очень тщательно подготовлена; скажем, если 38 снайперов, то каждому снайперу определена цель, и он все время видит эту цель. Она – цель – перемещается, и он глазами, так сказать, перемещается, постоянно, постоянно, вот таким образом. Ну и по всем делам – как задымить улицы, как дать заложникам убежать. Когда заложники разбегаются, их трудно убивать…».
Под началом Невзора, не прибегавшему к задымлению, оказалось 44, сам он – 45-й, что превышало число снайперов из зимы 1996-го. И невозможно предъявить ему, аки некоему главкому, за хмельные пляски и помахивание тестикулами на ростовской эстраде. А разве пытался дирижировать, пошатываясь спьяну, германским оркестром? Вовсе нет! Однако и у него не получилось выстругать без сучка и задоринки, избежав форс-мажора…
В обильных листвой ветвях затаились трое с луками наизготовку. Курсант Ратша залег в вымоине – шагах в сорока от болота: сыровато, а что поделаешь?! На древо не полез он, ибо помехой стали бы сулицы. А для вящей скрытности его закидали валежником, сохранив определенную возможность для наблюдения по прямой, и токмо – явно не доставало ему обзорности!
Впрочем, вскочив по свисту Шуя – кодовой команде к бою для всей засады, твердо рассчитывал он выпустить прицельную стрелу в лошадь главаря, приметы коего ему описали: в шлеме с наносником и бармицей, защищавшей – сзади и с боков – выю и плечи, в пластинчатом доспехе с наручами.
И хотя Ратша исполнился внутреннего протеста, что наново, ажно при захвате Булгака, придется ему поражать неповинную животину, альтернативы не было! Поелику поразить столь защищенного главаря первой же стрелой – малоумная фантазия…
Аще же не выйдет из строя лошадь от первой стрелы, надлежит подбежать поближе и метнуть в нее две сулицы, оставив третью для попытки поразить главаря в зенки – мимо наносника. А дале – вся надежда на топорик!
В подмогу, допрежь не успели спуститься трое лучников, в задачу коих входила нейтрализация сопровождения главаря – одного, ехавшего рядом, и двоих чуть позади, чьи шлемы не были укреплены бармицами и наносниками, должны были подскочить Шуй, а ему отдал свою булаву Невзор, и надежно замаскированный пред тем, лежа неподалеку от Ратши, курсант Избор с кистенем. Расчет был на то, что не отбиться главарю от ударов булавы сзади и ударов кистеня сбоку, а еще и Ратша с сулицей и топориком. Должны были подскочить и два инструктора, вооруженные и копьями.
И по всему выходило: трындец разбойному беспределу на Земле вятичей. Не увильнуть лиходеям от неминучей кары! Понапрасну намылились слинять втихую! И оставалось лишь дождаться их, да прикончить…
IV
– Аще зело проголодаешься, не станешь противиться и сметане со сливками! Не скрою: вынужденно и со скорбью прикончили мы и пареные репки – по две на брата. И ничего боле не предложили нам, героям обороны Киева. Пусть навсегда останется сие на совести той хозяйки!
А она, не подавая и виду, сколь опечалены мы таковым приемом, далеким от радушия и щедрого хлебосольства – с десятком-другим блюд, а половина из них мечталась нам мясными, начала выведывать, что собираемся делать с высвобожденным из руце Звяги сыном знатного печенега.
Однако ни я, ни Нечай не ведали, что и баять. Ведь непривычными были мы возиться с малыми, а сей еще и по-киевски не понимал! Не имелось у нас и своей кухни, где готовили бы ему. И не собирались подсушивать для него творог с молочными пенками, вытапливать сливочное масло, варить ячменные каши и заготавливать конину, коптя ее вслед. Да наше жалованье никогда и не осилило бы закупку лошадей на убой!
– Зачем же тогда выменяли оного на хомут и за ручонки тащили до самого Подола, будто козу на веревке, упертую? – невежливо справилась Тихомира.
– Да ведь спасали! – был наш ответ.
– Спасти, аки вы, бестолковые, самое простое дело. А главное – выходить! У, мужичье пустое! Токмо и умеете самое легкое – зачинать. А кто будет за вас донашивать, рожать, выкармливать, воспитывать и обихаживать? Мало от вас проку для подрастающего поколения! – высказала она без учтивости.
И не соображала та малоумная, что прорвись мимо нас печенеги, некому бы было донашивать и некого воспитывать да обихаживать. Не бабы, неблагодарные, отстояли Киев!
– Простила бы ты им, Тихомирушка, – вякнул Негослав, прихвостень.
– Отнюдь не уверена, что прощу! – огласила та, суровая, глянув на сожителя, дернувшего встрять в сурьезный разговор, ажно на кусачую живность, от коей, досаждающей, всего себя покарябаешь. – Хотя и зарекаться не стану…
Многое будет зависеть от их поведения впредь. Аще не станут возражать мне, все возможно!
Воздержусь угадывать, что помыслил тогда Нечай. Я же постановил для себя: «Проще тягаться в бою с печенегом, что при оружии и в доспехах, неже с буйной сей!». Слыхивал от заезжего варяга, что случаются меж ними особливо дикие, кои, нажравшись отвара из мухоморов, теряют остаточный рассудок и прут на встречных, аки туры, потревоженные в пору их гона. Лишь тремя секирами разом возможно завалить оных! Вот и Тихомира суть такова!
Вслед изложила она мне и Нечаю, упершись неласковым взором в целях нашего устрашения и подчинения ей:
– Решила я: забираю от вас мальчонку! Вам он – незачем, а нам с Негославом – в радость! Ведь нет детишек в жилище нашем…
Дабы по-честному было, верну тебе, десятский, за тот хомут двумя курями, а ощипывать и потрошить будешь сам. Тебя же, ловчий, награжу за содействие пятком яиц, токмо что снесенных, хотя и недостоин их ты…
А не узрели мы радости на лике Негослава! И для приличия чуток поспорив с его благоверной злыдней, согласились не ее условия. Понеже лучшего для всех выбора и придумать было трудно! Исключая лишь прихвостня…
При том, что я осерчал на Тихомиру за унизительный всего пяток, а Нечай всерьез затаил злобность за ея недостойную леность, ведь не дело дружинника-героя – курей потрошить, домашних, еще и ощипывать! Чай, не дичь!
Взамен она разрешила нам изредка проведывать нашего печенежца. До своего убытия в Царьград Нечай успел повидаться с ним с десяток раз, всегда приходя с подарком. И потянулся к нему малой, явно расположившись за сердечность того, да и вразумлен был Негославом, ведавшим с наших слов, посредством чьей доблести спасся от невольничьего плена.
Тихомира с первого же дня переименовала сего Тимара в сходное наречие и стал он Тимошкой, ведь с обращением в новую веру пошла во всем Киеве мода давать ребятне греческие имена. Да и имя хозяйки дома начиналось похоже…
И уже вскоре, обученный Негославом, называл он ее «мамой» и «мамочкой», отчего та вся расцветала и млела.
На прощание подарил Нечай Тимошке, коего, подросшего, ноне зову Тимохой, а порой уже и по-взрослому: Тимофеем, глиняную свистульку да ножичек костяной. И диво! – когда обнял его десятский, то и тот обнял, сказав по-киевски, хотя и не вполне чисто: «Дядя Нечай» …
С тех пор хаживал туда я один – всегда с каким-то детским лакомствс торга, а единою подарил и детский лук для добычи стайных горобцов, оказавшийся вельми по душе малому, за что чуть не прикончила мя его воспитательница! Ибо, начав тренироваться с оружием тем, оказался он столь ловок, что насмерть поразил стрелой лучшую из несушек, пасшихся на заднем дворе.
И подумал я тогда же: «Растет охотник! Пора обучать!». Вслед обратился к Тихомире с предложением: время от времени забирать Тимошку с собой, в полевой лагерь нашей малой княжеской охоты, дабы резвился там на свежем воздухе и мало-помалу вникал в премудрости ловитвенного промысла, ведь надобно было думать и о будущем.
Едва заикнулся, Тихомира встала на дыбы, затрясла копытами и изрыгнула множество напраслины, одна иной пуще!
Лишь раз возразила отчасти верно, вспомнив своего покойного мужа, павшего от кабаньих клыков. Когда же выдохлась, приступил я к ее вразумлению:
– Гавкучая ты, Тихомира, а не по делу! Понеже не ведаешь, о чем мелешь! Ведь неразумием своим не доведешь ты Тимошку до доброго!
И аж взвилась она, наново вызверившись:
– Гавкучая я, по-твоему, и неразумная? А ухватом по спине не хошь?
– С ухватом успеется, – не оробев, ответствовал я. – Однако очевидно: губишь малого, в том и сумлений нет!
– Да чем же гублю его, старый ты охальник? – чуть сбавила она в тоне, почуяв твердость мою.
– Тем, что сидит он у тебя взаперти, дитя степей вольных, и чахнет! Даже на улицу выводишь его токмо рядом с собой. А и без того сторонится его, узкоглазого и смуглявого, прочая детвора. Сама ведаешь: жесток Киев к иноземцам, начиная с раннего возраста!
А подрастет, чем ему заняться? Не обучен ремеслам он, и нет у него влечения к ним, ибо по крови кочевник! Случись неладное с тобой, а годами ты уже отнюдь не девица и даже не молодуха, что с ним станется? Чем на пропитание себе добудет? Негослав, а и он не вечен, не будет столь заботлив, аки ты, понеже лишен по природе своей материнского чувства, да и трое собственных у него… Думала ли о том? Навряд ли!
Со мной же радостно будет Тимошке на природе-то! Окрест – волюшка! А воздух?! – вздохнешь, и пьянеешь…
Все ловчие и помощники их в нашей ловитвенной дружине расположены к мальцам и никогда не обидят, еще и приветят. И дразнить, ажно сверстники его в граде, не станут. Еще и вдосталь напробуется доброй дичины, изготовленной на костре. Не одним же молочным питаться будущему мужу!
Не приметила ты, понеже не соображаешь в ловитве, что у Тимошки явная склонность к охоте! Посему и несушку твою упокоил. Я же – ловчий из самых знатных, и многому обучить смогу.
А годков чрез седмь-осьмь он и сам начнет промышлять.
Не оспорить тебе, вдове славного Порея, что добычливые ловчие уважаемы во всем Киеве, несмотря на род и племя их. И многие девицы из самых пригожих с радостью пойдут за такового под венец!
По неведению упомянула ты того секача. Ни в нашей малой княжеской охоте, ни в большой, ни в любой ловитве и близко не подпустят тех, кому не вышли двадесять лет, к травле кабанов! – таков общий обычай.
Порей же пал по беспечности, пойдя на клыкастого в одиночку, ибо мечтал прославиться меж нами. Однако напомню: при жизни его завидовали тебе многие прочие жонки, что отхватила примерного охотника, с коим дом – всегда полная чаша! Соглашайся, что дело баю, невзирая, что обделила мя яйцами, ведь пяток отнюдь не пятьдесять! – из сущего недоброжелательства своего, ложного и огорчительного…
И надолго призадумалась она, ведь нечего возразить было, супротив предложенного мной, а то, что и я пекусь о мальце, представлялось ей очевидным!
Оценив же со всей тщательностью мои резоны, спросила, надолго ли собираюсь брать Тимошку в полевой лагерь, и сколь частым будет сие.
Ответил, что для начального раза ненадолго, ибо, по всем приметам, скоро начнутся дожди, за ними может и похолодать, и ясно, что не помешала бы ему и теплая одежка про запас. Другой же раз случится лишь весной, а стало быть, преждевременно предполагать о нем. На том и поладили с ней…
– Не уразумел я, вняла ли оная Тихомира вежливой укоризне твоей насчет яиц? Добавила ли хотя бы еще с десяток? – ляпнул поперек неспешного повествования, устного, лже-Радислав, чьи ухи устали внимать обилию ненужных подробностей. Увы! – избыточно резвый язык его порой опережал движение мысли, предерзостно нарушая должную субординацию, что не украшает!
И запоздало спохватившись, пожалел он, мнимый торговец ювелирной всячиной и липовый муж вымышленной жены на фальшивых сносях, о сей прыти. Да уж выпорхнули скоропалительные слова, облегчившись на лету насмешливой двусмысленностью.
А к полному удивлению нештатного сходника внешнего сыска Секретной службы Земли вятичей, бывалый ловчий воспринял выражением искреннего сочувствия те не вполне достойные экивоки вкупе со зряшными обиняками и опрометчивыми околичностями.
– Зажала! – выдохнул он с очевидной досадой, ибо еще с младости вывел себе, аки императив: «Оскорбительна мзда без щедрого наполнения!». – Не дождаться доброго от берсерка в поневе!
Дальнейшее изложение пошло, не в пример прытче. Ибо надо же когда-нибудь и закругляться, коли на горизонте начались изменения!
«Алеет Восток, взошло Солнце, в Китае родился Мао Цзэдун!» – ассоциативно всплыла из глубин подсознания внутреннего гласа, подслушивающего, любимая песня напрочь отмороженных хунвейбинов. Впрочем, тут же отключил он в себе хоровое исполнение сего хита из дальнего будущего, осознав, что днесь – летний рассвет из 1009-го, и время рождаться великому кормчему наступит еще нескоро – примерно чрез 1884 годика с гаком…
V
– Преображают нас лета-то! – раздумчиво вывел Молчан. – Вот и ты, представляясь Избором, оказался на поверку Борзятой. Вместе охотились на лиходеев, а ноне скрадываешь насквозь честного вятича, будто лесного злодея!
– А и я, Борзята от отца с матерью, понятия не имел, что ты, прозываясь Ратшей, являешься тайным Молчаном. При том, что оба мы ведали о ложности наших тогдашних прозвищ…
Что до честности твоей, отнюдь не уверены в ней мои начальствующие, предполагая, что мог переродиться ты, ступив на чуждую тропу. Ведь стать изменником можно даже на смертном одре!
– Что слышу я?! – воскликнул бывалый охотник, заподозренный в недостоверной и бездоказательной честности, вздев руце от явного возмущения. – О, горе мне, ставшему свидетелем явного нарушения прерогатив! А беспощадно карается оное Высшим советом старейшин и проклинается на века нашими главными волхвами! И уж извиняй: не смогу я зачерпнуть на память о своем боевом друге Изборе, чуть не зажулившем оберег с выи лесного главаря, горстку твоего теплого праха! Понеже твои секретные останки предадут огню втайне – без уведомления не токмо товарищей по выслеживанию, а и домочадцев…





