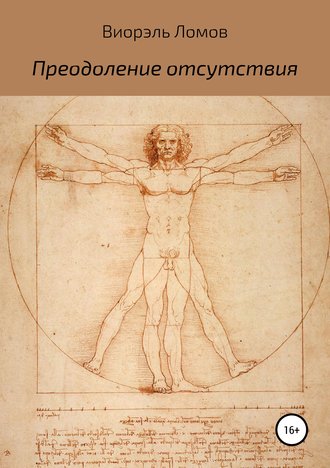
Виорэль Михайлович Ломов
Преодоление отсутствия
Глава 65. «Площадь Воздаяния»
А когда после сна мы продолжили наш путь, то опять оказались в огромном сводчатом зале с земляным полом, устланном серой листвой высохших иллюзий, деревянными грубо сколоченными столами и скамьями, с факелами вдоль осыпающихся стен. Место это, оказывается, называлось «Площадью Воздаяния». Если красная краска на стене не врала. Надписи на стенах обычно говорят правду. И было все то же: и скамьи, и люди, и мерзость, и нищета. Монумента не было, жаль. Монументы бодрят. Сестра прижалась ко мне.
Прошел, озираясь, сутулый мужчина. Он шарахался от встречных и дребезжащим голосом подбадривал себя:
– Я славный Архип Кузьмич, зять бабы Зины. Я славный Архип Кузьмич, зять бабы Зины.
Не ведал Архип Кузьмич: боязливым в озере гореть. Заметив нас, он подошел ко мне. Обрадовался. Чему?
– О! И вы тут? А на меня в парке рысь прыгнула. На самом-то деле это желтый пакет запутался в ветвях и трепетал на ветру: фыр-р-р, фур-р-р… А мне показалось: рысь. Вот и не выдержало сердчишко, – он жалко хихикнул. – Я славный Архип Кузьмич, зять бабы Зины…
Не иначе как сквозняком занесло Джозефа Пью. Рассказчик точно описал его. Пью приставал ко всем по очереди, как банный лист:
– Ножи точить, бритвы править! Кого обуть, кого раздеть? Лужу, паяю, золото скупаю! Кровь пускаю, грехи отпускаю!..
И все, за неимением всего, отмахивались от него.
Желтый Пью, взметнувшись под потолок, упал, как коршун, на бедного зятя бабы Зины.
– Золото! Золото! Покупаю золото! – проорал он над ухом Архипа Кузьмича.
Тот грохнулся замертво, а Пью с диким хохотом упал на стол, за которым сидел с дружками пьяный ухажер Сестры и уговаривал очередную банку сивухи, почесывая волосатую грудь.
– Гвазава! – взвыл Пью. – Вот ты где! Ты что мне всучил в прошлый раз?!
– Смотри, – Рассказчик кивнул на хорошенькую, явно не из этих мест, женщину. Публика расступалась перед ней, пялила глаза. Красавица, как одинокая волна, шла по серому залу, и видно было, что у всех душа, как пена, поднимается к горлу. Лицо она прикрывала платком. Услышав вопль «Гвазава!», она вздрогнула и подошла к столу, за которым волосатый пьяница отбивался от настырного Пью. Она похлопала Пью по плечу. Тот обернулся, поклонился даме и исчез. Бывший ухажер Сестры взял женщину за плечи и захохотал: «Ты! Ты!» Красавица опустила руку с платком. В носу у нее, как у туземки, висело большое золотое кольцо.
– Далеко же ее занесло в раскаяниях, – пробормотал Рассказчик. – Не узнаешь? Это Елена, жена Хенкина.
К нам подошла большая группа женщин, состоящая из одних близняшек. Они так и шли парами, рука об руку.
– А это еще что за «ручеек»? – встрепенулся Боб. – Сыграть, что ли?
Они подошли к Бороде и выстроились перед ним. Я насчитал семнадцать пар.
– Где он? – спросили первые две, с луками за спиной и полупустыми колчанами.
– Кто?
– Брательник твой? Ему одного раза мало было, так он нас два раза отправил на тот свет, да еще так зверски. Где он?
– Да откуда же я знаю? – ответил Борода. – Я ему не пастух.
– Понял теперь, – спросил Рассказчик, – почему он не пошел с нами? Ему там спокойнее будет. Представляешь, если сюда явятся утопленники из аномальной зоны, в шкурах и с поднятыми руками? Сотни тысяч утопленников.
– А где тут Боб? – к нам подковыляла не иначе как сама королевна бомжей, принцесса сточных ям и помойных акваторий. Вид у нее был, если сказать жуткий – ничего не сказать. В жилистой черной руке она цепко держала клюку. Не менее цепкие глаза, казалось, видели одинокие крошки и семечки в карманах достойных граждан. Несло от принцессы, как от студенческой столовой.
– Ну, я Боб, – представился Боб. – Чего изволите, мадам?
– Поклон принесла издалека…
Боб учтиво поклонился, воротя нос в сторону.
– Из старинной богатой Фландрии. От прелестной девочки Жанны и старого шарманщика Карло, у которого я проторчала в жопе триста пятьдесят лет. А дай-ка я тебя поцелую! – и она вцепилась в Боба. – Давно не целовалась ни с кем!
Боб отшатнулся, едва успев молвить:
– Я не достоин такой высокой чести, сударыня! – однако тут же был крепко схвачен за руки двумя дюжими мужиками.
– Достоин, достоин! – ласково сказали они. – Дал нам один глаз на двоих, поманил бабами, завел в лес, лишил там одноглазого царя последнего глаза (царского!) и бросил, сукин сын, на произвол судьбы! Сколько лет искали то бабу, то Боба. Целуй, фея, целуй! Крепко целуй. Взасос.
Фея, вцепившись в Боба и прицелившись к его губам, с некоторой обидой произнесла:
– И это за всю мою доброту!..
– Сколько тебе говорить, – рассердились мужики, – не делай людям добра! Целуй, не рассусоливай!
– Ты не боишься, Рассказчик, что и к тебе нагрянет такая же орава и начнет целовать взасос?
– Не боюсь. Бояться надо тем, кто всю жизнь лузгал семечки, пока не пролузгал всю свою жизнь. А я, увы, только пересказчик чьих-то творений или действительных событий. Это вот такие творцы усатые необдуманно плодят детей, а потом бросают их, безусых, на произвол судьбы, да и сама жизнь плодит, а нам, тварям, увы, не дано! Мы побираемся крохами с их стола!
– Не юродствуй.
– С меня спрос, как с зеркала. Разбить, конечно, можно, предварительно глянув в меня лишний раз и смахнув пыль. Но чтобы учинять с меня спрос – увольте! К тому же, я никого, кажется, не убил, даже в мыслях. Это вот с тех, кто боевики ставит, с тех по большому счету спросится. Кстати, это «Малая Площадь Воздаяния», а есть еще и «Большая…» Туда не пойдем, вот там с них и спросят. Это как Большие и Малые Лужники, и нужники, соответственно, при них.
– Сдрейфил, однако. Побледнел, как венецианское зеркало. В Лужники не побежишь, в Большие? Ну, да ладно. Оставим мертвых мертвым. Что же тогда было с Данте?
– Да ничего не было. Он же не выдумал ничего. Это был всего-навсего гениальный, но репортаж. Как у папы Хэма, мама миа, из Испании. Он, правда, описал не этот угол, а тот, куда его затащил Вергилий. Просто Вергилию самому не хотелось тут встречаться кое с кем, вот он и повел Данте через парадный подъезд. А чаще сюда приходят черным ходом. Да ты не бойся: ни Гектор, ни Патрокл, ни двенадцать троянских юношей не будут доставать тебя здесь, они уже достали Гомера. Правда, пощадили слепого старика. На первый раз. За правду. Надо ослепнуть, чтобы лучше видеть ее.
– Боб! – воскликнул Борода, уславший девичий «ручеек» куда-то вдаль. – А ведь один из этих мужиков был Гомер, а второй – Кутузов!
– Где же тогда Сократ, Рассказчик? – спросил я. – Или Саня Баландин? У меня уже в голове мутится. Где я был? Там и не ад, и не чистилище, и не рай, насколько я смог разобраться. Так что же там? Или в самом деле Афины?
– Они там, куда и нам дай Бог попасть с тобой, – вздохнул Рассказчик. – И не так важно, Сократ то был или Баландин. Важно, что ты спас их, а тем самым спас и себя. Они продолжают жить, независимо от причитающегося им воздаяния, кары или вознаграждения. Это не важно для них. Они живут чем-то более высоким, чем другие. Вон, поинтересуйся у Бороды, чем живут художники, которые всю жизнь расписывают храмы? (Борода буркнул что-то крайне неприличное). Я сам-то только-только стал понимать это. Вот ты ценой своей жизни спас кого-то из них, тем самым спас и себя. А где те, кто был с тобой на галере, кто так яростно бился всю жизнь только за собственную жизнь? Кстати, скоро ты их увидишь.
Рассказчик отвел меня в сторонку.
– А что ты меня никак не спросишь о Фаине? Где она?.. – он помолчал. – Как-то нехорошо получается: все, кто были там, все они здесь, а ее нет – ни там, ни тут. Вот тебе последние откровения Филолога. Ты как-то спросил меня, почему я предал ее. Помнишь, с этой длинноногой поэтессой в начале ума? Фаина – это Мимоза, Дима, да-да, Ми-мо-за. Думаешь, зачем я занимался мифотворчеством и всем вам морочил голову пустой болтовней, нимфами и самородками, этим придурком Пью? Это же я ей памятник воздвиг, «нерукотворный» памятник. Что я еще мог для нее сделать? Это она, Дима, она, вечно живущая и вечно умирающая, прекрасная и желанная, и она везде – и тут, и там, и в Греции, и в Австралии, и где нас нет, и где мы еще есть, и где нас никогда не будет, и никто никогда, ни один мужчина в мире, включая самого бога любви, не сможет сказать: «Она – моя!»
Рассказчик круто развернулся и ушел.
«Бедняга, – подумал я. – Как же поразили его когда-то эти тревожные желтые цветы! Всю жизнь окрасить в придуманный кем-то цвет! А может, все-таки это лучше, чем бесцветная жизнь?»
И я еще долго бродил по площади, здороваясь со всеми кряду, так как все они, вроде, были мне и знакомы, но все как бы из другой жизни. В которой, как оказалось, один цвет – цвет тревоги. Ко мне подошла женщина, которую я поначалу принял за цыганку.
– Здравствуй, соколик. Ты не знаешь меня, ну, да ты и знать никого не хочешь! Полено-то все тогда о тебе верно сказало, вот я только зря Нате не сказала о том. Хотя, разве это спасло бы вас? Ступай, еще свидимся.
Глава 66. Иди и смотри
Рассказчик скитался где-то много часов. Не иначе как из часов этих где-то разбит роскошный парк. Потом пришел и сказал:
– Сейчас немного поспи, а потом, видишь, туннель ведет наверх? Иди и смотри. Один. Потом поговорим с тобой. А пока отдохни, наберись сил.
Я спросил его:
– Ответь мне, Бога ради, почему здесь есть все, но нет никого, кто был со мной рядом в детстве: ни мамы, ни папы, ни бабушки с дедушкой? Какие это были райские дни!
Рассказчик вздохнул:
– Ты сам и ответил, почему. Потому что все они остались в том раю.
– Да, там был рай.
– А в Монте-Мурло, вспомни, разве не был рай? Рай везде, где нас любят.
– Зачем же тогда мы все покидаем тот рай?
Мне снился необыкновенно солнечный день с синим сиянием неба. Женщина уходила вдаль, оборачивалась и махала мне рукой. Я лежал в траве… Теплый ветер шевелил мне волосы… По шее приятно елозила травинка…
Проснулся я в четыре часа. Минутная стрелка на круглых больших часах только что дернулась и застыла на двенадцати. Я всегда просыпаюсь в это время, когда звериные инстинкты уже засыпают, а человеческие еще не пробуждаются. Время равновероятное и для добра и для злодейства, время, в которое можно проверить колеблющуюся душу. Хорошо в это время разрешать свои сомнения, не губя, быть может, при этом свою душу. Свечи обычно гаснут в это время.
Перешагивая через спящих, я вышел в туннель. Он мне почему-то напомнил «вентиляционные» шахты египетских пирамид, которые направлены на Пояс Ориона. В таком случае, этот громадный зал не что иное, как гигантская усыпальница царей. Здесь и пойдут наши души в вечность и сольются с ослепительным сиянием звезд. Что скажете мне на это, профессор Фердинандов? Так об этом просить – и дадут? Или не просить – и все равно дадут?
В туннеле тоже спали, вдоль стен и посреди прохода. Я едва нашел себе уединенное место и сел на остаток ящика, привалившись к стене. Беспокойно мне было, как никогда. Я думал, я искал выход. Выход был один – в той стороне, где был сюда вход. И одному мне не выйти. Вот так и зреют в истории бунты. Надо одному – а делают все! Я сидел и мысленно говорил Рассказчику, непонятно зачем говорил, да еще так вычурно! В последний раз?
«Вообрази себе, мой друг, огромный-преогромный шар с зыбкой нефиксированной поверхностью. И эта поверхность изрезана бороздками и канавками. Канавок несчетное число. Они причудливо переплетаются друг с другом, переходят друг в друга, подныривают тоннелем или перелетают, как акведук. По каждой из них летит чья-то жизнь, как граммофонная игла или магнитофонная головка. При этом она извлекает из трепетного профиля самые разнообразные голоса и звуки, мелодии и ритмы. Все это пульсирует и бурлит, сливается и клокочет. И гремит под управлением невидимого Дирижера грандиозная космическая симфония. Разумеется, в миноре. Хотя… Каждая ощущающая точка скользит по поверхности, последовательно окунаясь в то состояние, которое вечно находится на том самом месте, куда до нее наверняка погружались мириады других ощущающих точек и где многие нашли либо свой конец, либо свое возрождение… Ты знаешь, меня всегда занимало взаимоотношение прошлого, настоящего и будущего. Так вот, это не три составные части времени, а одна неразрывная ткань его; они существуют одномоментно и даны, как говорится, на века. И удобнее всего предположить форму этой данности в виде такого вот шара, плодородный верхний слой почвы которого изрезан ходами червей, населявших, населяющих и тех, что будут населять его».
Я услышал чей-то вздох за спиной. Оглянулся – никого. Это ты, Рассказчик?
– Если тебе стыдно за убогость людей, смири свою гордыню, – услышал я его голос. – И оставь свои умопостроения. Они никому не нужны. Иди и смотри.
Туннель круто поднимался вверх, своды его давили, впереди дергались в конвульсии полета летучие мыши.
Вдруг я понял: смерть за спиной.
И тут же позади раздалось рычание и, судя по взметнувшейся тени на стене, громадный пес кинулся на меня из расщелины туннеля.
В голове промелькнуло – нет, не успею – ни повернуться, ни защититься, ни даже вскрикнуть.
И я шел, как шел до этого, шел, куда шел.
За моей спиной ревел, бесновался и прыгал под самые своды туннеля неистовый цербер, а из мрака свистел и подначивал его неведомый хозяин, гремя металлической цепью.
От рева собаки сыпались камни со свода, а мне на минуту заложило уши.
Но я шел, не оглядываясь.
Подумаешь, тень за спиной! У нее за спиной еще одна тень. Вот он где мир теней…
Главное, не бояться, решил я. Ничего, никого, никогда.
И цербер отстал. Слышно было, как он заскулил в чьих-то безжалостных руках.
И вот я на страшной высоте, на каменной площадке, на краю отвесной скалы. И нет ветра, нет солнца, нет луны и нет звезд. Громадная долина внизу как бы дышит и источает бледный свет, словно она – бледный конь смерти. Белые горы охватывают справа долину полукольцом, их вершины теряются в бледном мраке свода, слева мерцают черные воды бескрайнего моря, а между водой и сушей, как живая, кипит бурая пена. На белой стене гор жутко пляшет одна громадная бесформенная серая тень. Как тень костра, потухшего миллион лет назад. Нет на самой равнине ни гор, ни ущелий, ни рвов, ни круч, нет ни ям и ни скал, ни домов, ни деревьев, нет ни травы, ни цветов, ни ручьев, ни пещер, ни озер и ни рек, нет ни огня, ни дождя, ни земли и ни снега – поле, голое поле, на котором все как на ладони. И смрад, жуткий смрад пропитал все пространство. Из-за смрада пространство трепетало, как дым, и плясало серой тенью на горной стене. Я пригляделся и вздрогнул. Вся долина шевелилась, она вся кишела мириадами белых червей. От них и шел бледный свет, как от гнилушек. И тут я увидел, что у этих личинок лица людей, но безглазые лица, и рты их открыты, но крика в них нет. Личинки кишат и безмолвно сжирают друг друга, но число их не убывает, ибо из моря, из темных мерцающих вод, из бурой прибрежной пены к ним ползут и ползут всё новые черви, разинув в крике немые рты и вперив в небо ненавидящие пустые глаза… И нет им конца.
– Се человечество! – раздалось за моей спиной.
Я обернулся. На бледном лице Рассказчика горели безумием глаза.
– Не бойся, я не брошусь туда, как Борода. Вергилий не показал Данте эту адскую кухню, он ему показал фасад, выставку достижений. У него даже в аду избранные, чей грех так явен и мерзостен, а здесь все остальные, с мелкими грешками, все-все, ибо нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил. Вот они в наготе своей, и не надо им ни наказаний, ни кипящих озер, ни диких птиц и зверей, ни ледников, ни землетрясений, они сами наказывают себя. Господь наказывает лишь тех, кого любит, а эти забыты им. Это долина самоубийц. Я бы ее назвал «Харакири-дол», – Рассказчик даже тут был верен себе. – Ты стремишься сюда? Молчишь? Ты сюда хочешь привести всех тех несчастных, что вверятся тебе? Не смотри на меня, это уже решено где-то выше: они пойдут за тобой. Они готовы. Вот только – готов ли ты? Куда бы ты ни повел их, ты их приведешь туда, вниз. Видишь, черви ползут из вод? Видишь пену? Это тоже они. Это с разбитых галер идет пополнение. И твоя галера вся там. Каждый день уходят галеры и каждый день тут царит пир. У каждого в жизни были желания, и каждый здесь получил то, что желал – каждый ест каждого, но никак не может насытиться и никак не может поесть.
– Полагаю, я это вижу в последний раз, – сказал я.
Рассказчик пожал плечами.
– Скажи мне: горяч ты или холоден? – спросил он. – Только не говори, не знаю, или что ни горяч, ни холоден. Кто ты?
– Я обжигаю, как лед, доволен?
– Вполне! – ответил Филолог.
Глава 67. Возле шестого зала
Возле шестого зала на городской площади собралась огромная толпа. На лицах людей отсвет горящей в фонарях ворвани, отсвет горящих в душах страстей. Булыжник мостовой, булыжник голов и кулаков, душ булыжник. Как много камня в одном месте! Как странно, лучшие памятники трепетной нежной жизни – из камня.
Когда на телеге провезли вора на казнь, на лицах зевак появилась детская радость и дикие проблески мысли. Не успели осужденного столкнуть с телеги, как поймали еще одного вора с поличным. Скрутили его, оттащили к месту казни и швырнули к ногам палача. День давал богатую пищу уму и изысканные развлечения для трудящихся масс. Есть ли более приятное зрелище, чем наблюдать, как вешают, сжигают или отрубают голову преступнику, укравшему у тебя трудовые гроши. Есть ли большее наслаждение, как видеть ужас на лице вора, видеть, как он обмочился от страха, вдыхать жирный смрад костра, слышать душераздирающие вопли, сменяемые почти ласкающим ухо потрескиванием костра, сопение и надсадное мясницкое хеканье палача, а следом – глухой стук скатившейся головы, недоуменно продолжающей взирать на покидаемый ею мир. И в этот миг, когда голова катится по земле, вся Вселенная вдруг начинает вращаться вокруг нее.
Человеческое – ничто нам не чуждо.
Возле дороги стоял книжный киоск. Киоскер со сморщенным, как у Шопенгауэра, лицом помахал мне рукой. Я подошел к нему. Он обнял меня, смахнул слезу.
– Как там Наталья, Манюся, Колянчик? Дима как? – спросил он.
– Нормально, – ответил я.
Хотя в душе моей была долина червей.
– Эротический журнальчик не хочешь взять? С картинками. Есть детективы.
Он нагнулся, стал рыться под прилавком, но астматически закашлялся и махнул мне рукой – мол, ищи сам – отошел в сторонку и закурил. Я увидел сборник Франсуа Вийона. Стал листать его, он еще пах типографской краской.
– Стихи совсем свежие, только что написал, – сказал киоскер.
«Свежие, как твое личико», – подумал я. Что-то неладное было с моей головой. Выдержала бы давление собственных мыслей! И мысли, как белые черви. Пожирают друг друга. Только затем, чтобы дать место новым мыслям!
– Кстати, вон он со своим приятелем Перчиком. Слово напишет, а тот тут же ахает. Такая притвора! Так и живет ахами за его счет. А тот – простофиля!
Из-за поворота донесся стук колес. По булыжнику прыгала карета. Возница без нужды погонял кнутом лошадей. В карете сидел, судя по карете, лошадям, костюму и бесстрастному лицу, знатный вельможа. Чуть дальше к тому месту, где трудился палач, поперек дороги лежал мертвецки пьяный оборванец. Возница оглянулся на вельможу – гнать?
– Постой! – остановил тот его.
Созвал народ: бродяг, проституток, не пойманных еще воров, торговок, мастеровых.
– Разбудите эту свинью. Пусть убирается, не то поеду прямо через него. Только, чур, за него не браться. Будите, хоть в колокол бейте. А если найдется смельчак и оттащит его в сторону – смельчака засеку. Ну, будите, будите ближнего своего! – хохотнул он.
Он был очень доволен. Его полное розовое лицо излучало довольство, которое может излучать только безраздельная власть. Никто не трогался с места, все молчали, боясь даже окриком попытаться разбудить пьяного. Вельможа промокнул батистовым платочком губы, тронул кучера за плечо шпагой, так что у того вылетел клок ткани вместе с подкладкой.
Скрипнула ось, колеса завертелись. Лошади, запрокидывая головы и кося глазами, пританцовывая, двигались на лежащего человека. Вот откуда появились гуигнгнмы. Лежащий не шевелился. Душа его уже стала собираться в рай.
Толпу душило любопытство. Тут из толпы выскочил взлохмаченный человек и, ругаясь, оттащил бесчувственное тело на обочину.
– Ты кто?
– Я тот, кого ты высечешь.
– Засеку, хочешь сказать.
– Скажу: хочешь засечь.
– Ты, наверное, не хочешь, чтобы я тебя засек? – не унимался вельможа.
Он вроде как стал еще более доволен жизнью. Он был по природе своей циркач. Ему, наверное, нравилось жонглировать словами, как чужими судьбами и жизнями, – у некоторых эта страсть врожденная.
– Гусь очень не хотел идти на вертел и только поэтому обжирался зерном и нагуливал жир.
– Да ты шутник.
– Гусь тоже шутил, когда его поймали. Он гоготал. Он думал, с ним будут говорить о боге.
Вельможа смеялся, вытирая батистовым платочком слезы. Толпа вокруг хохотала.
– Ступай! Лови дукат! – вельможа покатил дальше.
– И для поэта и для ката – награды лучше нет – дуката! – воскликнул молодой нечесаный человек и, поцеловав монету, почтительно поклонился отъехавшей карете – своим не менее острым, чем язык, и к тому же заплатанным задом. – Перчик! Глянь-ка, что у нас! Два дня теперь можно не писать, не ахать.
– Ай да Франсуа! Ай да Вийон! – смеялись горожане и качали головами: такое не часто увидишь – вместо побоев дукат!
С громом прокатила королевская карета с эскортом придворных пугал. Во все века эскорт один и тот же, если приглядеться. Меняются только короли. Остановилась. Высунулась царственная рука с вытянутым указательным перстом – он был длинный-длинный, до границ империи, – и ткнула в пьяного, лежащего у дороги.
– Пьяный? – спросил брезгливо резкий голос.
– Пьяница, ваше величество.
– Карл! Карлос! Король! – закаркала толпа.
– К богу надо обращаться по-испански, – в уважительно-гробовой тишине произнес Карл, – к возлюбленной по-итальянски, к лошади по-немецки, к пьянице по-русски. Есть кто-нибудь, говорящий по-русски?
Я сделал три шага вперед.
– Рыцарь? И говоришь по-русски? Что за орден?
– Граф Горенштейн, сир, – ответил я с поклоном. – Орден «Дружбы народов».
– А, немец, – сказал король. – А скорее, самозванец. Я лично не знаю Горенштейна. Ну да все равно. Вас много, а я один. Не обессудьте, многие из вас – мне на одно лицо. Правда, я не сир. Сир там, – он ткнул пальцем направо. – Франциск. А там – сэр! Генрих! – хрипло засмеялся он.
Я никак не отреагировал на эти подробности, я просто думал: «Сир, сэр – один сор».
– Кар! – послышалось сверху. – Карл!
– Немцу, и правда, только с лошадью говорить, – сказал Карл кому-то в карете. – Граф, окажите любезность, как только этот оборванец соблаговолит пробудиться, пригласите его от моего имени на завтра ко мне во дворец на костюмированный бал. Это будет лакомый кусочек, – обратился он опять к кому-то в карете.
– Натюрлих, Маргарита Павловна, пардон, Горенштейн! – крикнул он на прощание мне, и карета с громом укатила.
Путь Юпитера всегда сопровождается громами. Даже если он направляется к Венере.
Придворным пугалам доставляло удовольствие затоптать какого-нибудь ротозея. Это одна из самых лакомых придворных затей. Особенно приятно потоптаться по кому-то из своих. Люди рассыпались с их пути, а на дороге остался лежать самый страстный почитатель, самый подобострастный поклонник, который в этот час оказался ближе всех к их милостям.
Вот и увидел я, наконец, рабов на конях, а князей ходящих, подобно рабам, пешком.
Однако, как кружится голова и плывут в разные стороны мысли и образы. Как их поймать, удержать и направить в нужное русло? В голове воспоминания, как короткие вспышки трамвайной дуги во тьме. Куда несет меня мой трамвай? В Галерах я помнил одно: мне надо спасти Сократа. А что мне делать сейчас? Кто подскажет?
– Возьму? – показал я киоскеру сборник Вийона.
– Конечно, бери, – сказал киоскер. – Заходи как-нибудь. Вместе легче ждать.
«Чего ждать, – подумал я, – светлого будущего? Так это оно ждет нас. Странный человек».
– Хорошо, зайду.
С ворами было покончено. Люди нехотя разбрелись, ища себе других развлечений. Им, конечно же, было бы интереснее наблюдать с утра до вечера, как кончают с ворами, но тогда на ночь глядя было бы труднее найти еще какое-нибудь развлечение для души.
Я пробирался среди наскоро сколоченных лавок, будок, сдвинутых рядами бочек, ящиков, сундуков, широких и узких подвод, с которых торговали солью, вином, мясом, овощами, горшками и прочей кухонной утварью. Цыганки продавали сигареты и губную помаду, доставая их из-за необъятной пазухи, гадали по углам денежным простофилям, шептались о чем-то со стражниками. В тесном кружке на земле дрались тощие петухи. За столом тягались в силе на руках. В телеге, укрывшись рогожей, елозила парочка, а под телегой сладко спала старуха. Ей, наверное, снилась любовь. А может, пончик. Жизнь шла своим чередом.
Куда-то запропастились мои спутники, или я сам оторвался от них? У меня, от обилия лиц и мыслей, еще сильней закружилась голова. Как проблески солнца сквозь густую листву, вспомнил вдруг Кавказ, Ахилла, Сонику…
Мне навстречу попадались люди, которые, судя по всему, узнавали меня и приветствовали. Я спрашивал у каждого:
– Кто ты?
Они на миг огорчались, потом лица их прояснялись и они вслух объясняли сами себе причину моей забывчивости:
– Да, ведь целая жизнь прошла.
– А какой сегодня день? – спрашивал я у всех.
– День? – спрашивали они. – Время так бежит. И не поймешь куда – вперед, назад?.. Какой день? Зачем нам день? Зачем нам время? Что его – солить? Нам бы узнать, какой сейчас век. Да и то не к спеху. Ты вспомни: мы убивали время день за днем, пока оно не убило нас.
– Я что-то не понимаю вас.
– А зачем вообще что-то понимать? Разве недостаточно просто быть?
– Смотря кем.
– Опять двадцать пять. Зачем быть кем-то? Будь самим собой. Никем.
– Думаете, я знаю себя? Я знаю, что мне надо попасть в шестой зал. Вот он, передо мной.
– Ты заблуждаешься. Это не шестой зал. Шестого зала нет в природе, как в Англии нет тринадцатого номера дома.
– Зато он есть во Франции. Нет, ребята, вы меня не путайте. Нет шестого зала в природе, но он есть в моем уме. А я еще, слава богу, пока в своем уме. В «Камере находок» я его не видел.
Мимо меня, осторожно ступая босыми ногами, прошла хорошенькая девушка в длинной ночной рубашке. Она с беспокойством озиралась по сторонам черными глазами, на длинной шее билась жилка. Она задержала на мне взгляд и, коснувшись меня рукой, молча прошла мимо.
– Кто это? – спросил я у слепого, оказавшегося рядом.
– Ты не знаешь ее? – спросил он. – Это Наталья из Сургута.
– Что она делает тут?
– То же, что и ты. Смотрит по сторонам.
– Она испугалась чего-то? Куда она бежит?
– Куда и все, – сказал слепой. – Не видишь, что ли?
– Не путай Рыцаря, – поправил слепого зрячий. – Она без очереди зашла сюда. Ей теперь далеко возвращаться. Успеть бы.
– Успеет, – заверил слепой.
– До чего успеет? – спросил я.
– Как до чего? До третьих петухов.
– Что-то я хотел ей сказать… – пробормотал я.
– Как прикажешь, Рыцарь. Рыцарю – Наталью из Сургута!
Несколько темных фигур бросились догонять ее.
– Вы не так поняли меня, – сказал я.
– Да, мы поняли этак, – согласились они. – Этак и делаем.
Фигуры вернулись.
– Ну, и где она? Разгильдяи.
– Она исчезла, сеньор. Сударь.
– Товарищ. Я вспомнил – я кореец из Северного Вьетнама, товарищ Го.
– Она исчезла, товарищ Го-сударь. Превратилась в сову. А может, в ворону. Ты не разобрал? – спросил один другого.
– Жаль. Они все исчезают из моей жизни. И эта, как ее. И другая. И еще кто-то был… А эту, говорите, Еленой зовут?
– Натальей. Из Сургута.
– А-а… Значит, Троя в Сургуте. Вон оно что… Ошибся Шлиман.
– Зачем трое? Одна всего – Наталья.
«Наталья? Что они мелют! Она же летит сейчас где-нибудь в вышине…»
В фонарях догорал жир. Они чадили и гасли. Сгущалась темнота. Возросло беспокойное оживление. Как за минуту до премьеры: вот-вот разойдется занавес и на полутемной сцене явятся актеры. Что представят они нам? Что будут представлять собой? Кого и зачем? Внезапно вспыхнули с двух сторон прожектора. Люди загалдели, завертели шеями. Прожектора чертили потолок и стены, как будто искали в воздухе врага. Как при вспышке молнии, из темноты возникли одухотворенные лица, белые и почти прекрасные.
Рядом со мной, в темно-желтом кимоно и высокой шапке, со свитком в руке стоял изможденный человек, похожий на Николая Островского, только с восточным разрезом глаз.
– Стократ благороднее тот, кто не скажет при блеске молнии: «Вот она, наша жизнь», – продекламировал он и представился: – Басе.
– Акутагава, – сказал я.
Басе встал на колени, положил прямо перед собой руки ладонями вниз и смиренно попросил у меня прощения за некоторые свои стихи:
– Они так грубы и многословны в сравнении с вашей «Странной историей», Акутагава-сэнсей.
– Ну что вы, что вы, маэстро, – сказал я. – Дорогою тьмы, исходящей из сердца, слепые идут. Что это я? Это же не ваши. Сыграем-ка лучше в «го». Эй, вы там! Дайте-ка сюда доску и фишки! 361 – не правда ли, в этом числе есть какая-то магия?
– Да, – согласился Басе, – это число дней в солнечном году без числа времен года; змея, заглотившая свой хвост и выплюнувшая четыре зуба мудрости; это трехголовый шестикрылый однохвостый дракон.
И тут Басе закружило в толпе и он исчез.
Все вокруг меня вдруг забегали и что-то потащили, понесли, покатили по земле. Как когда-то в музее и еще где-то… На месте, где только что отпустили грехи, а заодно и души карманным ворам, быстренько сколотили из бочек, телег и досок не то баррикаду, не то трибуну, и на ней возле микрофона замаячило несколько приземисто-тупоугольных и несколько вертикально-остроконечных деятелей – пять-шесть лишившихся разума Дон-Кихотов и столько же Санчо. Лишившись разума, они стали полностью взаимозаменяемы. Они по очереди брали микрофон и призывали к чему-то безликую толпу – либо спокойно и обнадеживающе, либо хлестко и раздражающе; и слышно было, как низкий голос в ритме авлета бубнил за их спинами: «Регламент… Регламент…» Очередную галеру несло на скалы.
Масса темных людей слушала их, как всегда, ничего не понимая, но одобрительно или негодующе шумя. Это было заметно по тому, как они реагировали на выступление лысого военного. Генерал сказал: «Мы пойдем налево!» – и все заорали: «Налево! Налево!», а когда через пять минут он, оговорившись, сказал: «Мы пойдем направо!» – все так же дружно заорали: «Направо! Направо!» – и зааплодировали себе. А для военных – что налево, что направо – всего лишь одно из двух направлений движения, по лысой голове трудно определить, в какую сторону она наклонилась.







