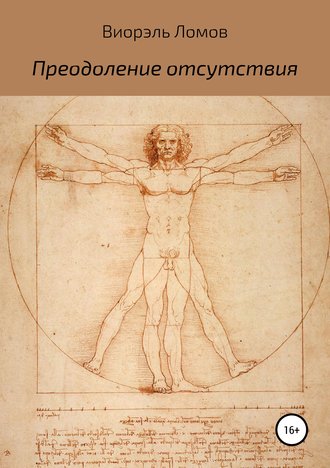
Виорэль Михайлович Ломов
Преодоление отсутствия
– Чья это музыка? – спросил я.
– Чья? – загадочно переспросил старичок.
На стене висел старинный портрет молодого мужчины, не чуждого удовольствий, с ясным выражением округлого лица в обрамлении густых вьющихся волос, открытым чистым лбом, большими насмешливыми глазами, женскими губками и ямочкой на подбородке, не придававшей, однако, его облику решительности. На портрете по-французски было написано: «Ум начинается там, где кончается здравый смысл».
– Гельвеций, – представил старичок мужчину на портрете. – Клод Адриан. Собственноручная надпись. Оригинал. Вернее, оригинал оригинала.
Мне показалось, что Гельвеций холодно улыбнулся.
– Картотеку? Или хотите посмотреть живьем?
– Живьем, если не возражаете.
– Не возражаем. Иначе зачем мы здесь? Говорят, просвещение ума идет в ногу со смягчением нравов. Отталкиваясь от этого тезиса, я могу предположить, что где-то есть Центр (или филиал, как у нас) утерянных нравов. ВЦУН. Но это уже не моя задача. Это, скорее, знают путешественники, – он посмотрел на меня и продолжил: – В самом большом зале хранится разум политиков, военных, журналистов. Он находится вот в этих сосудах, напоминающих посуду «Цептер» и, кстати, таких же экологически чистых и дорогих.
– Что, другие профессии не удостоились чести быть представленными в этом зале?
– Нет. Разум, как известно, дается на всю жизнь, а потерять его можно в одно мгновение. Так вот, тут разум тех людей, которые теряют его на протяжении всей жизни. По крупицам. Теряют безвозвратно, без надежды когда-либо вернуть. Они заранее мирятся с этим, a priori, так сказать. Не в состоянии аффекта, вдохновения или отчаяния, экстаза или смертельной опасности, а заранее зная, что заниматься этим делом, которым они занимаются, и оставаться при здравом разуме – невозможно. Что в конце концов придется чем-то поступиться, и им известно чем – разумом. В этих сосудах разум напоминает клеклую полбу, в этих – пищевую соду, а вот здесь, в этих баках, в виде обогащенного до 90% урана. Если туда подать информацию, в которой много воды, можно превысить критическую массу, и тогда здесь начинается самоподдерживающаяся цепная реакция. СЦР! И все это разносится к чертовой матери, почище Чернобыля! – с удовольствием заявил старичок. – Представляете, весь мир заливается бреднями сумасшедших. Как соловьиными трелями.
– Неужели так много сумасшедших? – спросила Гера.
Старичок снисходительно улыбнулся:
– Могу заверить вас, сударыня, число «в-ум-вошедших» в сотни, тысячи, в миллионы раз меньше числа «с-ума-сшедших». Вон там направо (конкретно) семь этажей занимает разум деградировавших стариков, которые смотрят телевизор, ничего не понимая, следя за движением фигурок, как кошки, и убеждены, что их никто не кормит и все морят голодом. А вон там чуть левее (на дисплее) можно увидеть, как в разуме зарождается жадность: достаточно одного кристалла жадности, и этот кристалл начинает с бешеной скоростью создавать кристаллическую решетку, которая потом заковывает весь разум.
– Скажите, а кто-нибудь приходит сюда в поисках своего утраченного разума?
– Вы не поверите: нет, никто. Очевидно, с утратой разума одни (и их большинство) обретают долгожданный покой, другие – возможность безоглядно заниматься любимым делом, третьи – что называется, балдеть.
– А еще, Гера, на высоком посту ум человеку совсем не к лицу, – добавил я.
– Совершенно верно, – согласился старичок. – «На высоком посту даже посредственный человек весьма редок». Так считает Гельвеций.
Гельвеций опять улыбнулся. Я спиной почувствовал это.
– Неужели не пришел ни один раскаявшийся человек, потерявший на минуту голову, а с ней и разум, и оттолкнувший в запальчивости друга, жену, брата, сына, мать? – спросила Гера.
– Вы знаете, даже те, кто потерял голову весьма натурально, как, например, Томас Мор или Людовик XVI, или те, кто позировал Верещагину для его «Апофеоза войны», – и те не интересовались, что сталось с их разумом.
– Разумеется. Ведь они обрели покой, – заметил я.
Мне показалось, что наша беседа стала походить на литературный вечер у камина при свечах и клавесине в сумасшедшем доме. Уютно, но тревожно. Уютно от контакта с абсолютом и тревожно от осознания его относительности.
– А их разум, между тем, находится здесь в целости и сохранности, вот в этих драгоценных сосудах. Драгоценных – не формой, разумеется, а содержанием. Огонь, так сказать, мерцающий в сосуде. Вот, полюбуйтесь: это – разум Томаса Мора, а здесь – Людовика XVI. А вон там – верещагинских персонажей, из них, думаю, можно будет слепить неплохой апофеоз потерянного разума.
– Они чем-то отличаются? Можно посмотреть?
– Дело в том, что однажды Пандора уже приоткрывала – из чистого любопытства – крышку сосуда, и вы знаете, чем это кончилось.
– Вы хотите сказать, что заключенный в этих сосудах разум может вернуться к людям?
– Мне не хотелось бы разочаровывать этих несчастных.
– А откуда же тогда вы знаете, как выглядит потерянный разум политиков и журналистов?
– Очень просто: его выдерживают какое-то время, а потом поставляют на Хамский целлюлозно-бумажный комбинат, где и делают туалетную бумагу отличного качества.
– Скажите, а вот те, кто, потеряв разум, оболгали праведников, погубили целые народы, сюда тоже не приходили?
– Они иногда темными осенними вечерами скулят под дверьми, но не заходят. На них действует запрет.
– Какой запрет?
– Запрет профессий. Слышали о таком?
– Приходилось.
– Вы, скорее всего, слышали о другом запрете – на профессии. Везде по-разному было. Где-то коммунистов не допускали к работе по определенной профессии, где-то капиталистов, где-то белых, где-то черных, где-то евреев, где-то арабов, где-то женщин, где-то мужчин, где-то детей, где-то стариков. Перечислять можно бесконечно, жизнь ведь многовариантная…
«Да? – подумал я. – Занятная версия».
– Но запрет профессий – это несколько иное. В Галерах с незапамятных времен действует закон, по которому совершенным политиком считается только тот, у которого потеря разума идет в полной пропорции с его карьерой (эквидистантно, так сказать), и вершин власти может достичь лишь тот политик, кто к этой вершине подходит, как говорится, с головой, о которой можно с гордостью заявить, что она «tabula rasa», «чистая доска». Подходит, не уронив своего достоинства…
«Пустой башке легче катиться с вершины лобного места, – подумал я. – С громом».
– Только в этом случае он сможет не посрамить свое имя на столь высоком поприще и прославить Отечество. Одно условие ставится ему: запрещено возвращаться к прошлому, нельзя оглядываться назад, как Орфею, а скорее даже, семейству Лота. В прошлом есть что-то сакральное. Вот этот запрет и распространяется на политиков, военных и журналистов. Некоторые из них, уже отойдя от дел, раскаиваются в своих поступках, деяниях и преступлениях и хотят вернуться к прежним своим радостным дням, но стоит им зайти сюда, как разум, который находится здесь на сохранении, мгновенно будет уничтожен.
– Там что, заряд?
– Зачем же? Происходит элементарная аннигиляция.
– Выходит, в известном смысле они обделены: не могут прийти на могилку, как все нормальные люди.
– Как нормальные – да, не могут. А где вы видели политиков или журналистов – нормальных людей? Военные, кстати, еще изредка встречаются, но это военные не по призванию, а скорее, по необходимости. А вот политики и журналисты вырастают исключительно на черном поле призвания, из семян злаков, злачных семян, пораженных спорыньей. Политики по необходимости (не перевелись и такие, но их не так уж много) плохо кончают: трибунами и эшафотом. Запомните! – старичок строго посмотрел на меня.
– Вы хотите сказать, что нормальных людей среди политиков вообще нет? – удивилась Гера, а я подумал, почему бы и нет.
– Я позволю себе прикоснуться к великой тени: нормальный человек и политик две вещи несовместные.
– Скажите, а где у вас хранится разум мудрецов? – спросила Гера.
– Такого не держим, – неожиданно сухо ответил старичок. – Чрезвычайно скоропортящийся продукт. Капризный и мелочный. И нуждается в постоянном уходе за ним. Мудрецы главным образом хранятся в Центре. Если нам увеличат штаты, тогда подумаем. И потом, как правило, мудрецом может стать лишь тот, кто еще не потерял разум, а уж коли стал мудрецом, то, как правило, и не потеряет его. Хотя всякое случается. Вот, например, Свифт, Акутагава. Их разум в следующем зале, вон на той полочке. Свифт много лет с ужасом ожидал конца, начиная с головы. И дождался. А чуть дальше – Эмануэль Сведенборг.
– Здесь? – я с благоговением смотрел на три серебристых сосуда, заключавших в себе золото человеческого ума. – А рядом с ними кто?
– Это? Гоголь.
– Да вы что? У вас же квинтэссенция разума человечества!
– Да, как магнитный полюс. Вроде и есть, а подойдешь ближе – нет. У нас и Ван Гог имеется. И Врубель. На следующей полке. И Гаршин. Вот он. И Леонид Андреев. И сын его, Даниил. Пожалуйста. И Август Стриндберг. И Петр Яковлевич Чаадаев. Тут особый случай. И Эдмон Ростан. И Бодлер. И Репин. И Эдгар Аллан По. Смотрите какой. И Марсель Пруст. И Флобер. Вас это удивляет? И Верлен. И Хемингуэй. И Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Последние трое лежат рядом. И Нострадамус – у него особый сосуд, форму которого он предсказал в одном из своих катренов. Вот безумец Ликург.
– И вы говорите, что не держите разум мудрецов! Да вам позавидует любой музей мира!
– Может быть. Музеи – они ведь и возникли из зависти. Увы, ни с одним музеем мира мы не поддерживаем связь. Неразумно это. И потом, с чего это вы взяли, что они – мудрецы? Мудрецы неизвестны миру.
– Да, тут запросто и самому потерять разум, – сказала Гера. – Не боитесь?
– Мне уже терять нечего. Мой разум, кстати, между Ван Гогом и Нострадамусом. Вон там. Он стал снисходителен ко мне, мой разум. А раньше не мог терпеть всю эту мою плотскую оболочку и рвался, рвался из нее. Дорвался. Лежит в горшке. Мудрец. Как я без него? Прекрасно! А вот здесь разум старика ипохондрика Байрона. Он разжигал свою ипохондрию поэмами, а заливал ее содовой водой, по пятнадцати бутылок за ночь. Но этого количества, видимо, для СЦР не хватило. Тем самым он, наверное, предохранил себя от разжижения мозгов.
Мне снова показалось, что я нахожусь в сумасшедшем доме, и внимание мое рассеялось.
И он отверг всю мудрость мудрецов и погубил весь разум неразумных…
– Вы не слушаете меня? – спросил старичок. – Напрасно. Голоса и речи, произнесенные в доме печали, не затрагивают ваш ум и сердце, а здесь – другое дело: вы сочувствуете, сопереживаете, понимаете. Я же вижу по вашей реакции. Это настоящий разум, не китайский или турецкий ширпотреб. Однако, благодарю вас за внимание. На этом разрешите небольшую экскурсию завершить. Вон там, кстати, в уголке – Достоевский Федор Михайлович, рядом с Александром Сергеевичем. Нет, не с Грибоедовым. С Пушкиным. Как только он подумал: «Не дай мне бог сойти с ума…» – так сразу и определил свою судьбу. С чего бы он, спрашивается, стал так настойчиво, день за днем, искать себе преждевременную смерть? И вообще, должен сказать вам, если что и несовместно, так это разум и слава. Ведь что такое слава – это то, что ты отобрал у других, и рано или поздно тебе придется за это ответить.
– Ну, а чей разум хранится здесь под № 1? – спросила Гера. – Я хочу сказать, чей разум попал сюда первым?
– Как чей? Разумеется, Прометея. Он ведь открыл эру разума. У человека до него был только раздвоенный мозг, а Прометей вложил туда расщепленный разум. Вот человек и рвется между разумом и воображением. Кстати, материю человек смог расщепить именно таким вот расщепленным разумом… Да вот, возьмите хоть гениального двоедума Гофмана. Вот в этом, наполовину золотом, наполовину серебряном, горшке. Его хронический дуализм, кстати, не самая тяжелая форма болезни. Самая тяжелая и чаще других встречаемая болезнь – хроническое убожество. А вообще-то сохранить разум может только безумный, то есть человек без души.
– Что-то я не вижу здесь представительниц прекрасного пола, – сказала Гера. – Несколько странно и обидно.
– Вы, мадам, прямо как мисс Марпл или Сомерсет Моэм, во всем хотите, обличая мужчин, уличить женщин. Разум – он мужского рода. А любовь – женского. И там разум только помеха.
– Я так полагаю, – сказал я, – что в этом случае где-то должен быть еще и Всемирный Центр потерянной любви (ВЦПЛ)? Хотя бы как отделение ВЦУН?
– Я восхищен! Конечно же, да! Есть, есть такой центр, и тоже в России (Россия – вообще центр черт знает чего!). И находится он в зарослях кустарникового дуба на юге Амурско-Зейского плато, ближе к Селемдже…
– Благодарим вас, – сказала Гера. – Чем мы обязаны вам? Какая плата здесь за показ? И в чем, в баксах?
– Бросьте. Разум оценить невозможно, тем более в долларах. Его нельзя увидеть. Разум можно понять только разумом. Если в саду разума распустились цветы, туда залетают, как пчелы, слова, мысли, образы со всего света. Но если сад мертв, его не посещает никто, он никому не нужен. Если вы что-то поняли, это и будет мне плата. Как улучите время, заходите. Кое-что покажу.
– Благодарим вас. Непременно заглянем еще. Посетители вас не балуют?
– А кому нужен разум, даже утерянный? От ума, прав Саша, только горе. Да еще рога на лысине. Разве можно, находясь в здравом уме, заниматься такими пустяками, как безумные страсти?
– А как же тогда понимать слова Цицерона о том, что умный человек никогда не бывает простым гражданином, но всегда настоящим государственным мужем?
– Здесь хранится и его колбочка.
– Скажите напоследок, а утерянный разум миллионов – он что, тоже где-то здесь?
– Согласно «Перечню», он вылеживается здесь десять лет и, если не востребуется (а как вы знаете теперь, он не востребуется), прессуется и отправляется на переработку. Из него готовят дрожжи, муку и пищевые добавки.
– Кому? Животным?
– Зачем же? Животным – животное. А человеческий разум – для повышения в человеке уровня человечности. В основном идет в детские учреждения.
– А если этот разум был испорчен, с гнильцой, дьявольский был разум?
– Это не беспокойтесь. Система стерилизации разума была разработана еще немцами во время второй мировой войны. Уникальная технология.
– Вы хотите сказать, что и сегодня существует что-то вроде Бухенвальда и там обрабатывают и перерабатывают человеческий разум?
– Бухенвальда не существует. А Блоксберг как был, так и остался. Там же, на Гарце. Да вы сами можете убедиться в этом. Возьмите с собой шариков, флажков и посетите те места, скажем, в ночь святой Вальпургии, накануне Первомая, и все увидите воочию. Разнузданно, конечно, но интересно. Кстати, если вас интересует разум музейных сторожей и смотрителей, – старичок тронул меня за плечо, – он на той полке.
Я вспомнил вдруг Гулливера. Его путешествия, пожалуй, были все-таки путем разума к самому себе. Не для того же Сократ вернул разум с неба на землю, чтобы он навсегда исчез с земли? Потерявшие разум уже не обретут мудрости.
Когда мы с Герой возвращались к себе, она спросила задумчиво:
– Кто сказал, что Винсент Ван Гог был сумасшедшим? Это вокруг него все были сумасшедшие.
– Спроси об этом лучше Бороду, – сказал я. – Отрезал себе мочку уха острой, как его взгляд, бритвой и – что, этого оказалось достаточно, чтобы его счесть умалишенным? Во время бритья, глядя на себя в зеркало, наверное, многие были близки к тому, чтобы полоснуть себя бритвой по глазам и не видеть больше ничего. Ван Гог, видимо, устал от слов, устал от звуков и не хотел больше ничего слышать, рука дернулась чисто рефлексивно, полилась кровь, и сразу же погасли, исчезли навязчивые слова и звуки, и организм зажил только собой и только своей болью. И вообще, кто сказал, что в человеке частица божественного разума? Скорее это античастица.
Глава 58. Черные бабочки тьмы
Свою историю Галеры вели от Атлантиды. Двенадцать тысяч лет назад бог-громовержец бросил на золотые весы два жребия смерти: один – топографическую карту Атлантиды, другой – дипломный проект Посейдона «Галеры». Жребий Атлантиды тут же резко опустился вниз, словно притянутый черным магнетизмом Аида, а жребий Галер взмыл вверх, как пушинка. И тут начались катаклизмы: таяли ледники, обрушивались астероиды, сотрясалась и разламывалась земля, в пучину вод погружались материки, а из бездны морской к небесам вздымались скалы. В один день и бедственную ночь в пучину вод погрузилась и Атлантида. А с морского дна на другом конце земли поднялась мокрая суша, которая быстро просохла и приняла современный вид. Немного погодя тут и возникло первое поселение, равного которому еще не знал тот мир. Именно тогда, по легендам и мифам, сюда добрались потомки атлантов и основали этот самый древний и вечно вольный город Галеры, который поначалу назывался Кроманьон. Иерихон и Чатал-Гююк были основаны уже потом, много веков спустя, а от Мемфиса, который вдвое моложе Галер, остались одни развалины да пальмовые рощи, в которых сейчас пасутся барашки. Любимыми и наиболее часто употребляемыми словами граждан Галер во все времена были атланты, титаны, боги, герои и вулканы.
Вулканическая деятельность в Галерах не прекращалась ни на минуту, но носила подспудный характер и наружу прорывалась не так часто. Глухой подземный ропот и легкое, как бы в ознобе, содрогание земли нет-нет, да и ощущалось. Земля жила своей жизнью. И ей было мало дела до людских дел, если, конечно, они не перехлестывались. В этом нам пришлось вскоре убедиться самим.
***
Как-то утром, когда Гера еще не оделась и не навела свой утренний марафет, я сидел у окна и рассеянно глядел на озеро, к которому уже так привык, что даже не мыслил себе проснуться, глянуть в окно и не увидеть его или увидеть что-нибудь другое (хм, а что же хуже?). Водный простор успокаивал и возбуждал одновременно. Он как бы мял меня в своих мягких лапах, как сырник или котлету, перед тем как бросить на золотую сковородку дня, а я покорно и благодарно ждал этого, прислушиваясь к собственным текучим ощущениям и расплывчатым образам.
В полутора-двух километрах от берега на воде появилось белое пятно, оно стало расползаться в стороны, потом середину его прорвал огромный бурун, еще один, еще… Вода забурлила, закипела, как в кастрюле. Видимо, велись какие-то подводные работы. Там вчера маячила плавучая буровая вышка. Впрочем, нет, вышка была немного в стороне от бурунов. Вода продолжала ровно кипеть.
Гера попросила меня застегнуть ей бусы. Я стал соединять у нее на шее два крохотных крючочка и у меня сладко заныло сердце. Ее волосы щекотали мне нос. Я не вытерпел и чихнул. Гера засмеялась. Почти соединенные крючочки распались. Я снова терпеливо стал соединять их. Эта процедура занимала каждый день не менее десяти минут, но она нам обоим доставляла явное удовольствие. Теперь у меня нестерпимо зачесалось ухо. И я вынужден был опять прервать свою скрупулезную работу. Наконец крючочки соединились.
– Может, их разогнуть немного? – спросил я.
– А зачем? – улыбнулась Гера.
– Действительно, зачем? – улыбнулся я.
Бурлящее пятно между тем выросло в размерах и уже захватило буровую вышку.
– Бурлит? – спросила Гера.
Она подвела губы, глаза. Женщина, как часы, нуждается в ежедневной подводке. Только тогда у нее не пропадет ни одной минуты.
– А что, уже бурлило?
– Да было как-то.
Буруны стали расти, вышка закачалась на них. Мы вышли на набережную и сели на скамейку, поджидая наших друзей.
– Что-то пить хочется, – сказала Гера.– Сегодня с утра начинает жарить. Тебе жарко, наверное?
Я пожал плечами. Вышка качалась с еще большей амплитудой. Через несколько минут вода в месте бурунов тихо тронулась с места и стала закручиваться, все быстрее и быстрее, пока не образовался мощный водоворот в виде огромной воронки. По красивой кривой с изящным поклоном скользнула буровая вышка и бесшумно исчезла в глотке водоворота. Мы молчали. Молчали и подошедшие Боб, Борода и Рассказчик. Воронка как бы застыла и маслянисто поблескивала, но в ней иногда закручивались и исчезали какие-то предметы, в том числе и лодчонка с беззвучно орущими рыбаками.
– Ужас какой, – произнесла наконец Гера. – Что это?
– Харибда, – сказал верный себе Рассказчик.
За четверть часа, что мы провели в созерцании воронки, ничего нового в ней не добавилось, и мы пошли завтракать. В вечерних новостях в разделе «Погода» кратко сообщили о появившихся бурунах. О буровой вышке и рыбацкой лодке ничего не сказали. Спал я беспокойно и, просыпаясь, видел, что Гера тоже не спит. В окне плавала огромным белым шаром луна. И засасывала все мои мысли. Как Харибда.
– Полнолуние, – сказал я.
– Да, время семейных свиданий.
Я посмотрел на нее. Ее лицо белело, как луна, и было такое же загадочное и манящее.
– Ты же знаешь, я не могу.
– Да мало ли что я знаю, – сказала Гера. – Я вот точно знаю, что ты мне уже один раз долдонил, как семиклассница: не могу, не могу. Однако смог.
– Когда это? – вырвалось у меня.
– Да было дело. Забыл, что ли? Немудрено. Это было в тот вечер, когда вы объявились в Галерах. Ты что, действительно не помнишь? Я уж думала, притворяешься. Напились вы тогда в ресторане, как свиньи. Боба девицы подхватили, Борода с Рассказчиком, обнявшись, шли по синусоиде, так что здание тряслось, а ты со стула встать не мог. Ерзал, как муха на липучке. Я тогда случайно оказалась в ресторане, задержалась после работы. И чем ты понравился мне? Железяками, наверное. Ну, думаю, железный мужик. Первый раз такого встречаю. Ты так сосредоточенно поднимал себя, что я чуть со смеху не лопнула. Думаю, надо помочь бедняге, не встать ему с этим грузом прошлого со стула. До кровати тебя кое-как доволокла. Раздела и все такое…
– Что «все такое»? – похолодел я.
– Да все. Все, что может быть в таких случаях, и так, и эдак. О чем не надо жалеть. И о чем не обязательно помнить. Ты, кстати, с этим прекрасно справился. Все было железно. Ни черта не помнишь! Ведь не узнал же, когда через несколько дней меня представили вам. Ох, и злилась я на тебя! Я к нему с вопросами, улыбка во весь рот, а он на меня, как баран на новые ворота, смотрит и мычит.
Хорошенькое дельце! Мне было не до шуток. Во-первых, неужели я так надрался, что ничего не помню? Не зловещие же, в конце концов, провалы в памяти имени Степы Лиходеева? Я без напряжения могу восстановить тот вечер чуть ли не по минутам. Не отрицаю, двоилось изображение, временами даже троилось, как в триптихе, но совсем не исчезало, не было этого! Да шутит она! Я посмотрел на Геру. В глазах ее, обращенных к окну, помещалось по одной луне, и она глянула на меня, как кошка, так что у меня внутри все оборвалось. И мне почему-то пришла мысль, что кошки только сначала дико орут и катаются по полу, а дела свои делают бесшумно и яростно… Я невольно вздрогнул. А во-вторых, стал усиленно думать я, во-вторых, что мне теперь делать со своим контрактом? Ведь я, нарушив его, не просто лишился заработка, я отрезал себе навсегда обратный путь домой. Где он теперь, мой дом, кто я теперь, как не вечный жид, не Эней с Анхизом? А в-третьих, и это на сегодня главное, что же теперь делать? В затылок будто кто-то вогнал лопату и меня затошнило от боли.
– Гера, у тебя есть какая-нибудь таблетка? От головы.
– От головы ничего не поможет. Так же, как и от сердца, – сказала она. – Дай-ка сюда свою голову. Клади мне на живот. Не бойся, не съем.
Она положила ладони мне на затылок, потерла за ушами, помассировала – и боль ушла, чувствовалась лишь теплая тяжесть ладоней. В животе у нее что-то пискнуло. Гера засмеялась:
– Это пищит мое сдавленное желание.
Я просунул руки под простыню и положил их Гере на вздрогнувший живот. Уши мои, я чувствовал это, горели. И весь я горел, как в огне. И снова я ничего не помнил, а утром Гера опять сказала, что все было хорошо. Слова ее повергли меня в смятение, я был уверен, что на этот раз у нас с ней точно ничего не было. Хоть пломбу в другой раз ставь, усмехнулся я. Или пояс верности. Впрочем, это не укрощает, а только распаляет страсть.
Когда я сел на постели, свесив ноги и недоумевая, куда же подевались мои доспехи, я машинально посмотрел в окно, увидел воронку и вспомнил все вчерашние события, и почувствовал смутное беспокойство. В воронке что-то темнело, острым углом поднимаясь вверх, как острие канцелярской кнопки.
– Смотри, – сказала Гера, – оно движется, – она обняла меня и я сразу же успокоился. Я вспомнил, как она обнимала меня тогда, в первую нашу ночь. Точно так же, как и во вторую. У ласки нет эпитетов. И, холодея, вспомнил какие-то предыдущие ночи. Я закрыл глаза, но воспоминания не обрели от этого ясности.
Оно, острие, в самом деле двигалось, на глазах увеличиваясь в размерах и поднимаясь все выше и выше. Было похоже на камень или обломок скалы. Рассказчик, когда увидит, наверняка назовет его краеугольным камнем мироздания. Будет ли только он созидающим камнем?
– Что-то мне это не очень нравится, – сказала Гера. – Как-то тревожно. Растет и растет. И будет расти без конца.
– В природе ничего не бывает без конца. Вырастет. Окаменеет. Потом разрушится или прольется чем-нибудь. И снова станет маленьким.
– Ах ты какой, – погрозила мне пальчиком Гера. – Не помнит он ничего!..
Вечером, когда мы утомленные вернулись с садовых участков старых знакомых Геры, мы увидели, что на месте острия выросла приличная остроконечная скала. Она продолжала расти и ночью, так как утром занимала уже половину окна. Это была даже не скала, а настоящая гора в несколько сот метров диаметром.
– Кончит расти, поедем на нее загорать, – сказала Гера, прыгая на меня и валя обратно в постель. – Она такая же теплая, как ты. Ты куда это? А утренняя молитва? Клади-ка руки сюда…
Через два дня сформировался остров в его окончательных очертаниях. На него никто не рисковал высадиться, так как чувствовалось, что еще что-то произойдет. Еще через три дня невидимые гигантские руки стали мять остров, как пластилин, вылепив из него то ли подкову, то ли постоянный магнит, полюсами направленный в сторону Дворца. Средства массовой информации по-прежнему не придавали этому странному явлению никакого значения. Видимо, в нем не было ничего экстраординарного. Посередине острова был хорошо виден кратер неопределенной глубины, диаметром никак не меньше километра. Плоский срез острова проходил где-то на высоте Дворца, а из кратера ровно в шесть часов вечера вырвался на высоту телевизионной башни первый столб пара и пепла. Подул сильный ветер, пригнул упругий столб к воде и понес его на Дворец. Пошел черный теплый снег. Отдельные снежинки были громадные, как бабочки, и такие же живые. Все попрятались по домам. По стеклам ползли черные бабочки, шевеля крылышками и заглядывая к нам в номер. Они шуршали и липли к стеклам, оставляя все меньше и меньше пространства для обзора.
– Мне страшно, – сказала Гера, поджав под себя ноги. – Мне очень страшно. Смотри, они уже облепили все окно. Они сейчас выдавят стекла, ворвутся к нам, облепят нас, – Гера передернулась. – Они такие мерзкие, липкие и теплые. Это Бог наказывает нас.
Глухо заурчало где-то ниже дворцового подвала, ниже озерного дна, зазвенели висюльки в люстре, с противным скрипом отворилась дверца шкафа, с тумбочки съехала книжка и, зацепив ключи, упала вместе с ними на пол, произведя такой грохот, что казалось, рухнула скала в ущелье. Гера прижалась ко мне. Видимо, нервы ее были напряжены до предела.
– Сейчас треснет окно, – в ужасе прошептала Гера. – Занавесь его покрывалом.
Я прикрепил покрывало к багету. В окне была сплошная чернота. Она лежала мертвым слоем, не шевелясь, не вспархивая крылышками, только молча и злобно давила на стекло. Что там творилось на улице – трудно было даже представить. Тишина наступила мертвая. Молчал город. Молчал Дворец. Молчали подземные и небесные силы. Молчали мы. Все будто прислушивалось к неслышным кошачьим шагам невидимой черной опасности.
– Как там наши ребята? – сказала Гера.
– Позвать?
– Не надо. Это Бог наказывает нас, – эта мысль не оставляла ее. – Нет, не человечество, не Галеры. Что ему человечество? Что ему Галеры? Что нам они? Он наказывает нас. Нас с тобой. Меня и тебя. За наши грехи, за наши и ничьи больше. Обними меня. Я столько пережила из-за тебя…
Я смотрел ей в глаза. В них больше не было лун, в них была ласка, для которой, как я сказал, нет эпитетов.
– Бог не наказывает, – сказал я. – Бог не препятствует нам наказывать самих себя.
В это время по булыжнику мостовой проскакали лошади. Они, должно быть, вырвались из загона в цирке, что был за углом, и бешено неслись, скорее всего, навстречу своей погибели. Судя по доносившимся звукам, пепла на мостовой было мало. Может быть, его сдул ветер.
– Лошади понесли, – задумчиво сказала Гера, оставаясь в плену своих невеселых мыслей.
Я попытался развлечь ее и стал говорить, что «лошади понесли» – не совсем то, что «понесли носилки» или «понесли дань», совсем не то, что «понесли чушь», а скорее всего, то же, что и «понесли девушки».
– Не неси околесицу, – улыбнулась Гера. – Дурачок. Ты становишься похож на Рассказчика.
– Ничего удивительного, – возразил я. – Мы уже столько времени с ним вместе. Уже и на брудершафт пили. Раз сто.
– Ну что ты вскочил? Сядь. Посиди рядом. Я успокаиваюсь рядом с тобой. Это самый лучший вид близости, когда успокаиваешься. Господи! Как, оказывается, все просто.
– При этом виде близости никому ничего не должен.
– Ты боишься кому-то задолжать?
– Да, я боюсь не успеть вовремя вернуть долги.
– Ты дурачок в квадрате. В кубе. В энной степени дурачок, вот ты кто. Любовь не берет в долг, не возвращает долги. Ей ничего не надо. У нее все есть. Ты думаешь, мне что-то нужно от тебя? Да кроме тебя, ни грамма другого. Вот ты много читал… Ты ведь много читал?
– Я все больше думал. Даже когда читал, я думал, что читаю. А сам уставлюсь в открытую страницу и думаю о чем-то своем, о чем нигде не будет написано и чего я никогда не прочитаю.
Гера помолчала. Взяла меня за руку и спросила:
– Ты что, не узнаешь меня, Дима?
Мне показалось, я слышал уже этот голос, много раз слышал. Неужели, это Наташа? А может, Фаина? Соника? Или та, как ее?.. Я прошептал чье-то имя.
– Не узнал, – устало сказала Гера. – Жаль. Я столько времени шла за тобой следом. Ничего, главное я тебя нашла.
Сквозь щели в окне стали проникать черные хлопья и песок. За стеклом непрерывно шелестело и шуршало. В окна бились, слетаясь к свету, черные бабочки преисподней. Это Ворона, почему-то подумал я, это она. Мгла и больше ничего…
Гера обняла меня и сказала:
– Не мучь меня, отец Сергий. Не мучь себя. Иди же ко мне, ну… Сколько можно томить себя… Вот сюда…







