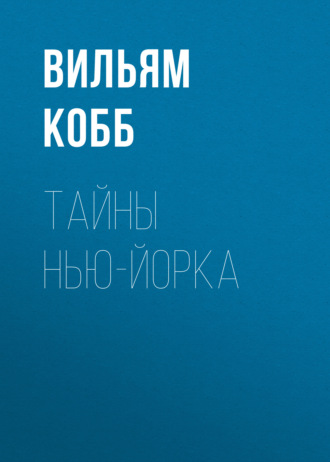
Вильям Кобб
Тайны Нью-Йорка
Глава 7
Насущная необходимость иметь кошку о девяти хвостах
Отправимся в отель «Манхэттен», огромное здание в пять этажей, не считая подвала, с фасадом, выходящим на Бродвей.
Надо признать, что Париж напрасно пытается завести у себя что-нибудь подобное колоссальным гостиницам Америки, открытым для всех четырех ветров света.
«Манхэттен» не просто гостиница, это центр целого мира – пуп его, как сказал бы Виктор Гюго.
Там останавливаются конно-железные дороги. В нижнем зале всемирная транспортная контора выдаст вам билеты в Олбани точно так же, как и в Петербург, в Сан-Франциско, Пекин или Париж – по вашему выбору.
Насчитайте пятьсот служителей – и вы только приблизитесь к истине. Все бегают, снуют, толкаются, поднимаются и спускаются по лестницам; одуряющий шум, нескончаемый гул вопросов, ответов, приглашений и объявлений… Вавилон – не то слово для сравнения с «Манхэттеном»!
Административная служба занимает целый этаж и управляется лицом, которое получает жалованье министра.
Хотите получить какие-нибудь сведения? Идите направо! Хотите заказать рекламу? Налево! Желаете комнату? На каком этаже? Скорей! Здесь нельзя медлить! Цены известны. Не пытайтесь торговаться, вас на станут слушать. Здесь все дорого. Рассчитывайте на это.
Чтобы описать этот небольшой мирок, нужен целый том. Учитывая то, что нам придется еще не раз входить в эти двери, в эти ворота, во двор, забитый каретами, багажом, входящими и выходящими людьми, на время оставим описание «Манхэттена».
Около полудня этого дня холл гостиницы был, в полном смысле слова, набит битком.
Стоял такой шум, что ничего нельзя было расслышать, кроме одного слова: «Тиллингест».
Нет, его не награждали обидными эпитетами, его не проклинали и даже не осуждали.
Просто разговаривали. И по мере того, как в умах говоривших возникали погибшие вследствие этой смерти миллионы, все они испытывали ощущение почтительного ужаса, который охватывает путешественника при виде живописных развалин древнего мира.
– И все это сделал Меси?
– Неужели Меси?
И тогда разговор переходил на Арнольда Меси.
И звучали слова, напоминающие знаменитую фразу европейских дворов: «Король умер! Да здравствует король!»
Все восхищались бульдожьей хваткой Меси, все восхищались его финансовым талантом.
В это время два субъекта яростно протискивались сквозь толпу. Это были Трип и Моп, на которых, впрочем, никто не обращал внимания.
Их причудливые туалеты, их манеры переодетых мошенников никого здесь не удивляли. Совсем другие заботы занимали собравшихся…
Во время движения сквозь толпу каждому приходилось сдерживать странные поползновения своего товарища. Трип хлопал Мопа по руке, когда она тянулась к какому-нибудь раскрытому карману. В свою очередь Моп делал яростные знаки Трипу, любовно заглядывавшемуся на цепочку от явно чужих часов.
И оба, свирепо вращая глазами, шепотом призывали друг друга к порядку и порядочности.
Было уже около двенадцати часов, а Бам не появлялся…
– Не подшутил ли он над нами? Чего доброго…
– Над нами не подшучивают! – произнес Моп со зловещей отчетливостью.
– А вот и он! – сказал Трип.
– Где?
– Там, направо!
Трип не ошибся. Но только его опытный глаз мог сразу узнать экс-клиента «Старого флага».
Мы уже говорили, что Бам был довольно красив. Его стройная фигура, густые волосы, энергичное и в то же время хитрое выражение лица составляли оригинальное целое.
Но как далек был от недавнего бродяги в лохмотьях этот холодный, бледный, изящный господин в отлично сшитом костюме!
Бам стоял у камина.
Трип и Моп, растолкав толпу, подошли к нему.
Бам подал знак лакею, уже заранее предупрежденному, и, не говоря ни слова, повел своих коллег в отдельную комнату.
– Шампанского, сигар! – произнес Бам кратко.
Оба друга ошалели.
Они вертелись вокруг Бама, как факиры вокруг идола, не смея до него дотронуться.
– Дорогой мой Бам… – начал Трип.
– Достойный друг мой! – всхлипнул Моп.
– Во-первых, – произнес Бам, – здесь нет ни Бама… ни Трипа… ни Мопа… Здесь прежде всего я, Гуго Барнет из Кентукки.
– А!..
– Затем, – он указал на Трипа, – полковник Гаррисон.
Трип встал и отвесил церемонный поклон.
– Наконец, Франциск Диксон из Коннектикута.
– Отлично, – сказал Моп.
– Это еще не все. Гуго Барнет – банкир, маклер, участвующий в торговле солониной и мануфактурой.
– Хорошо.
– Гаррисон и Диксон…
Тут внимание Трипа и Мопа удвоилось.
– Гаррисон и Диксон – журналисты.
Гомерический взрыв смеха приветствовал это странное назначение.
– Журналисты! – воскликнул Трип, покатываясь от смеха.
– И без журнала! – визжал Моп.
– Журналисты и с журналом, – холодно продолжал Бам, – потому что вы основываете журнал…
Галлов, как говорят, может удивить лишь падение неба. Но можно сказать, наверное, что и они бы изумились невероятному сообщению, сделанному Бамом своим сообщникам.
Трип и Моп не произнесли ни слова.
– Понятно, что мы обещаем помогать и служить друг другу без задних мыслей, без обмана и измены…
– О! – обиженно выдохнули оба мошенника.
– Да-да, я знаю… но лучше изложить все условия нашего договора. Вы должны мне повиноваться, исполнять все мои инструкции беспрекословно и ни в коем случае не подменять мою инициативу своей… Одним словом, я офицер, а вы солдаты. Взамен вашей покорности я предлагаю следующее…
Глаза обоих широко раскрылись. Эта часть разговора интересовала их больше всего.
– Прежде всего я назначаю вам жалованье по два доллара в день на каждого.
Мошенники широко улыбнулись.
– Одеваю вас чисто и изящно…
Еще более широкая улыбка.
– Даю вам квартиру…
– Ого!
– Следовательно, ежедневное содержание в два доллара выделяется на еду и на мелкие расходы.
Улыбка стала безграничной.
– Кроме того, – продолжал холодно Бам, – в случае опасных ранений…
– Как? – подскочили мошенники.
– Или в случае смерти…
– В случае смерти?!
Улыбка полностью исчезла, уступив место самой кислой гримасе.
– Итак, – сказал Трип, – мы будем подвергаться… будем ранены…
– Или погибнете. Да, я не шучу. Сегодня вы – как я вчера – занимаетесь делом, самым высоким достижением которого является виселица, если ей не будет предшествовать смерть от пули полисмена, что весьма нежелательно для джентльмена… Я повторяю вам, что вы солдаты. Нет борьбы без риска. Я только утверждаю, что раненые или убитые, вы, по крайней мере, будете иметь удовольствие пасть благородно, а не в толпе уличных бродяг…
– Разумеется, – заметил Моп не без иронии, – это в корне меняет дело.
– Шутить будем потом… Вы начнете с хорошими деньгами издавать газету.
– Еженедельную?
– Ежедневную газету, что сразу закрепит за вами почетное место в прессе вашей страны. Я все подготовил. Сначала название…
Бам вынул из кармана корректурный лист, на котором можно было прочесть: «Финансово-коммерческая Девятихвостая кошка»[5].
Трип взял корректуру и осмотрел ее с улыбкой видимого удовольствия.
– Добрые друзья мои, – сказал Бам, – грустно, но несомненно, что весь деловой мир наводнен бездомными негодяями, не имеющими ни кола ни двора, без чести и совести, сделавшими смыслом жизни грабеж, вымогательство и разорение честных людей…
– У нас слишком много примеров этому, – вздохнул Моп, опечаленный столь плачевным состоянием нравов своего отечества.
– Общественная совесть возмущается, – говорил Бам, подчеркивая каждое слово подобно терпеливому проповеднику, – да, я повторяю, она возмущается… Пора возвратиться к неписаным законам чести… Пора изгнать плетью этих бесчестных продавцов, которые превратили храм в грязный рынок низости!
– Кто знает, может быть, уже поздно! – воскликнул воодушевленный Моп.
– Нет, – продолжал Бам, – никогда не поздно наставить на истинный путь заблудших… открыть глаза простакам, принимающим за звонкую монету самую пошлую ложь… Одним словом – вылечиться от горячки, которая гложет живые силы нашей славной Америки! Итак – чего хочет «Девятихвостая кошка»?
– Да, чего она хочет? – вторили дуэтом Моп и Трип.
– Она хочет своими ремнями, как орудием мщения, срывать маски! Никакой пощады мошенникам! Никакой безнаказанности для негодяев! Вытащим на свет все гнусные интриги! И пусть на все четыре стороны разбегутся эти подлые попиратели общественной совести, эти разрушители благосостояния нашей Америки!
Для Трипа и Мопа это было уже слишком. Они оба разразились громом рукоплесканий. И энтузиазм их был так велик, что все три бутылки шампанского вмиг опустели, как будто никогда и не были наполнены.
– О, я чувствую, я понимаю! – воскликнул Моп. – Долой слабость! Прочь все уступки! Да закончит наше дело Фемида!
– Хорошо, – сказал Бам, – вы правильно поняли смысл нашего предприятия! Горе проходимцам и мошенникам!
– Хорошо бы дать карикатуры, – посоветовал Трип.
– Отличная мысль! Карикатуры! Сатира, одухотворенная карандашом! – подхватил Моп.
– Тсс, – перебил Бам, – самое главное… Вы, конечно, понимаете, дорогие друзья мои, что все это имеет целью…
– Еще бы!
– И, так как мы не хитрим между собой, я скажу вам то, что вы и сами уже поняли, а именно, что «Девятихвостая кошка» – это просто газета…
– Которая обличает не бесплатно, черт возьми! – закончил Трип.
– Вы очень сообразительны, полковник. Вы схватываете мысль на лету.
– И мы будем собирать мешки денег за то, чтоб только промолчать в том или другом случае…
– Но… – перебил Бам холодно.
– Но?
– Нужно ли мне говорить столь просвещенным людям обо всех опасностях, сопутствующих такому делу, о возможных побоях палками, о выстрелах из револьверов, о засадах и поджогах? Газету будут преследовать, как и все высоконравственные дела. Ее ожидают толчки, удары, может быть, еще что-нибудь похуже… Вот опасности, о которых я вас предупреждал…
– Только-то? – спросил полковник. – Право, вы считаете нас детьми! Черта с два! – прибавил он, обводя гневными глазами комнату. – Я бы хотел, чтоб это время уже теперь наступило… Я бы хотел уже сейчас встретиться с каким-нибудь нахалом, который позволил бы себе повысить голос… Честное слово, он получил бы должный отпор!
– Потому-то, полковник, я назначаю вас издателем.
– Согласен! Триста чертей! Я даже просто требую этой должности!
– Вы, Диксон, как главный редактор заведуете литературной стороной дела… Вы редактируете статьи, подбираете сотрудников, присматриваете своим хозяйским глазом за всем…
– Я, Франциск Диксон, редактор «Девятихвостой кошки», и плохо будет тому, кто вздумает оспаривать у меня этот титул!
– Что ж, господа, приступим к делу! Через три месяца мы будем богаты. А теперь вы, полковник, издатель «Девятихвостой кошки» и вы, Диксон, главный ее редактор, оба – кавалеры ордена Коммерческой Доблести и Финансовой Чести, выпьем последний бокал шампанского!.. И выпьем его за успех дела!
– Идет! А когда мы начнем?
– Сегодня вечером. В типографии Дикслея.
Глава 8
Арнольд Меси выходит на сцену
Когда Академия, расположенная на углу Четвертой авеню, открывает выставку новых произведений, то высшее американское общество тут же спешит принести туда дань своего просвещенного восхищения.
Действительно, этот вернисаж представляет собой довольно любопытное зрелище. Прежде скажем несколько слов об экспозиции. Почему американские художники, имея перед глазами самые великолепные пейзажи, какими только может восхищать природа восторженных зрителей, так тяготеют к сценам из мифологии, а также греческой или римской истории? Тут конца нет этим Ахиллесам, Ганнибалам, Филопоменам или Велизариям! В каждом углу Горации считают долгом возобновлять свою клятву, или Курций в миллионный раз бросается в ту пропасть, которую давно уже должны были бы заполнить доверху герои, бросившиеся в нее.
В Соединенных Штатах сочли бы отрицанием искусства сюжет, который художник взял из действительных событий, с действительными людьми. Считают, что подобные сюжеты являются фотографией и бездумным копированием. Религиозные или героические сюжеты считаются единственно достойными художника-янки и нигде шлем и щит не были предметом такого глубокого изучения, как в Америке.
Как только открыли двери, залы выставки наполнились толпами народа. Надо заметить, что публика, жаждавшая приобщиться к шедеврам искусства, вела себя здесь несколько странно.
Выставка, состоявшая из сотни картин, эскизов и рисунков, была устроена в четырехугольном зале первого этажа. В центре зала стояли широкие, удобные диваны, которые в первые же минуты после открытия превратились, фигурально выражаясь, в большие корзины с живыми цветами.
Все грациозные мисс назначили здесь свидание своим поклонникам. Они небрежно вошли, небрежно сели на диваны, небрежно опустили розовые пальчики в коробки с конфетами и затем завели самые содержательные разговоры. Через полчаса они встали, взяли под руки своих поклонников и, склонив головки, чтоб лучше слышать их любезности, обошли зал, заметили из-под своих длинных шелковистых ресниц лишь блеск золотых рам, затем медленно спустились по мраморной лестнице, бросив невзначай:
– Прелесть, прелесть, чудесная выставка!
А их место заняли другие, точно так же поболтавшие, поевшие конфет и уходящие с тем же восторгом, не более содержательным, чем щебетание птички.
Однако в одном из концов зала начал собираться кружок, который, по-видимому, всерьез интересовался предметом столь многолюдного собрания.
– Да, – громко сказал Ровер, известный художественный критик одного из популярных журналов Нью-Йорка, – я могу теперь утвердительно заявить, что в Америке наконец появился истинный художник!
И он указал пальцем на полотно, возле которого собрались его слушатели.
…На темном, густо проработанном фоне выделялась озаренная бледным светом поразительная эффектная группа. Стоящая на коленях нищенка смотрит безумным взглядом на мертвого младенца. Она инстинктивно тянется к нему, причем так же инстинктивно ее рука отстраняет второго ребенка, лет четырех, чтобы он не видел этого грустного зрелища.
На лице несчастной отражалась смесь ужаса и отчаяния, сжимавшая сердце. Можно было догадаться, в чем дело! Ночью, на углу какой-нибудь пустынной улицы, она уснула, держа на руках младенца. Второй ребенок прижался к ней и тоже уснул. Младенец выскользнул из окоченевших рук матери и умер. Открыв глаза, она поняла, что случилось непоправимое. Второй ребенок, проснувшись, тоже хотел посмотреть на происшедшее, но мать отстраняла его…
Конечно, в этом произведении чувствовалась некоторая неопытность: рисунку, в принципе правильному, недоставало, однако, смелости, в некоторых местах краски были наложены не совсем профессионально…
Но зато в колорите, в решении главного лица, в самой композиции этой группы проявлялась огромная сила чувства. Картина трогала, притягивала, волновала…
– Женщина, написавшая ее, – продолжал Ровер, – или святая, или жертва отчаяния.
– Именно об этом произведении, – сказал кто-то, – говорили вчера вечером у Меси… Кажется, президенты Академии водили его на выставку до ее открытия, и наш набоб выразил желание купить эту картину…
В это время внимание присутствующих было привлечено общим движением всего зала.
Все толпились, все вставали, чтоб посмотреть…
– А! – сказал Ровер. – Это герой дня…
Арнольд Меси – это был он – входил в галерею. Его появление и было причиной общей реакции зала.
Действительно, Арнольд Меси приобрел в эти двадцать четыре часа известность, в сто раз превышающую ту, которой он пользовался сутки назад.
Арнольду Меси было пятьдесят лет, но с виду не более тридцати пяти. Лицо его было свежим, румяным, будто вылепленным из воска, на который потом наклеили волосы и усы. Губы алые, глаза большие и матовые. Казалось, никакая страсть никогда не усиливала или не уменьшала этого неподвижного блеска. Походка его была легкой, несмотря на то, что широкие плечи при плотном сложении напрочь исключали вероятность аристократического происхождения. Он был тяжел, как мешок с деньгами.
Меси был не один.
Он шел под руку со своим компаньоном. Но тот не представлял собой ничего примечательного. Он был низкого роста, толст, с апоплексическим лицом. Его лицо свидетельствовало о том, что это был злой человек, а в прищуренном взгляде скользила фальшь. Звали его Бартон. Это был представитель дома «Бартон, Ромбер и К°», самой известной пароходной фирмы Соединенных Штатов.
Сзади шли еще двое: Мери Меси, дочь Арнольда, и Клара Виллье, ее гувернантка.
Мисс Меси была болезненным существом. Ее довольно высокие плечи исключали всякий намек на грацию. Но главное было в другом: она не могла передвигаться без помощи толстой палки, почти костыля. Калеки редко бывают красивы. Все зависит от выражения лица. А выражение ее лица не вызывало симпатий. Весь ее образ, ее лицо с большими голубыми глазами выражали скорее строптивость, чем страдание. Мери было восемнадцать лет. Но из-за выраженной жестокости черт лица ей можно было дать тридцать.
Все поспешили уступить место хромоножке. Несколько молодых девушек встали, предложив ей свои диваны.
– Благодарю вас, – ответила она резким голосом, – я постою.
Холодно поклонившись всем этим девушкам, которые своим участием невольно напоминали ей о ее неполноценности, она стала обходить зал.
Меси и Бартон не имели возможности сделать и двух шагов.
Множество посетителей, как будто нечаянно приехавших сюда именно в тот час, окружили победителя Тиллингеста, спеша выразить свое почтение звезде финансового мира.
Но вот в толпе появился молодой человек лет тридцати с выражением глубокой скорби на лице. Видно было, что он тут находился по необходимости…
Бартон заметил его, сказал на ухо Меси несколько слов, вероятно, называя чье-то имя.
Меси улыбнулся, Бартон высвободил свою руку из-под руки триумфатора и, оставив его посреди свиты, направился к двери, выразительно взглянув на молодого человека, о котором мы только что упомянули.
Тот поспешил последовать за Бартоном.


