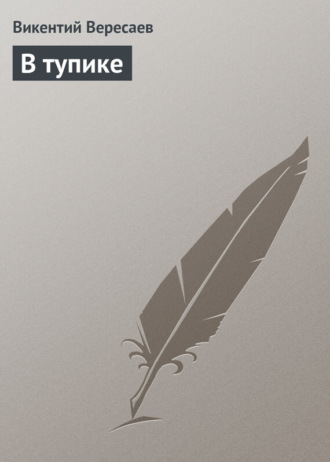
Викентий Вересаев
В тупике
– Товарищ Горелов! Револьвер, стреляйте! Я не знаю, как выстрелить!
Горелов, в окровавленном пальто, лежал на дороге, закинув голову, и хрипел. Мелькнула в глаза далекая линейка на шоссе, – она мчалась в гору, мужик испуганно оглядывался и сек кнутом лошадей. Махновец душил Леонида.
Катя завизжала, с бурным разбегом налетела, охватила руками голову махновца и вместе с ним упала наземь. Локоть его больно ударил ее с размаху в нижнюю часть живота, но ее руки судорожной, мертвой хваткой продолжали сжимать плотную, лохматую, крутящуюся голову. Выстрел раздался где-то за спиною, голова в руках глухо застонала, еще выстрел.
– Бросай! – задыхаясь, крикнул Леонид.
Катя вскочила. Махновец, с раздробленным коленом, с простреленным животом, пытался подняться, ерзал по земле руками и ругался матерными словами. Леонид выстрелил ему прямо в широкое, скуластое лицо. Он дернулся, как будто ожегся выстрелом, и, сникнув, повалился боком на землю.
– А Горелов где?
Горелов неподвижно лежал с открытыми, без блеска, глазами, с тем неожиданным, чуждым выражением, которое накладывается на лицо смертью. И ярко желтели оскаленные, длинные зубы.
Вдруг Катя испуганно крикнула:
– Смотри!
Солнце уже село, и вдали, из-за горба шоссе, на красном фоне зари вырастали, подпрыгивая, два черных силуэта всадников с винтовками.
– Махновцы! Удирать! – хрипло сказал Леонид. – Погоди! Придется отстреливаться.
Он снял с убитого подсумок с патронами, взял винтовку, револьвер.
– Айда!.. Только бы до гор добраться… Пока еще подъедут, разберут, в чем дело. Не беги, пока на виду.
Не спеша, они сошли к мосту, спустились в овраг и побежали по бело-каменистому руслу вверх. Овраг мелел и круто сворачивал в сторону. Они выбрались из него и по отлогому скату быстро пошли вверх, к горам, среди кустов цветущего шиповника и корявых диких слив. Из-за куста они оглянулись и замерли: на шоссе, возле трупов, была уже целая куча всадников, они размахивали руками, указывали в их сторону. Вдоль оврага скакало несколько человек.
– Бежим! – коротко бросил Леонид.
Пригнувшись, они побежали меж кустов к горам. Тонко, по-осиному жужжа, над головами пронеслась пуля, и долетел звук выстрела. Путь пересекал овраг, они перебрались через него. Вскоре другой.
Катя крикнула, смеясь:
– Смотри, как хорошо! Ведь это им загораживает дорогу. Либо придется слезать с лошадей, либо в обход ехать!
Скакало по откосу уже человек пятнадцать, и на скаку стреляли. Слышались выстрелы, но свиста пуль не было. Поднималась гора, с поперечными, параллельными друг другу овечьими тропками.
– Ну, только бы по ней взобраться, – тут цель для них хорошая, а там лучше будет… Не трусь, Катька!
– Дурак ты, Леонидка! – отозвалась Катя, – так чуждо совался его призыв в тот радостно-огненный вихрь, в котором крутилась ее душа.
Они карабкались в гору, цепляясь за колючие плети цветущих каперсов. И теперь вдруг кругом защелкало по камням, запылилось по сухой земле. Катя с жадным любопытством оглянулась. Всадники, спешившись, спускались в поперечный овраг, другие стреляли с колена.
Гребень горы с алыми маками. Большие камни. По эту сторону оврага два махновца садились на коней. Леонид бросился за камень и прицелился. Катя, с отколовшейся, растрепанной косой, с исцарапанной револьвером щекою, стояла, забывшись, во весь рост и упоенно смотрела. Струистый огонь, уверенный, резкий треск. Один из махновцев схватился за ногу и опустился наземь.
Леонид сердито крикнул:
– Дура, ложись же! Чего стоишь!
Еще раз он выстрелил, еще, и они побежали. За гребнем горы тянулось широкое ущелье, густо заросшее лесом…
Темнело. Катя с Леонидом сидели под нависшим камнем, за струисто-ветвистыми кустами непроглядной дерезы. По лесу трещали шальные выстрелы махновцев, иногда совсем близко слышался их говор и ругательства.
Леонид спросил шепотом:
– Что это у тебя?
Рукав Катиной кофточки был густо смочен кровью, капли крови чернели на ее серой юбке. В сумерках глаза Леонида засветились теплой лаской.
– Ну, с боевым крещением! Ранена… Снимай кофточку.
– Ерунда какая! Что это? Я ничего и не чувствовала.
– Снимай.
Стаскивая рукав, Катя почувствовала в руке боль. Стыдясь своих нагих рук и плеч, она взглянула на руку. Выше локтевого сгиба, в измазанной кровью коже, чернела маленькая дырка, такая же была на противоположной стороне руки. Катя засмеялась, а сама побледнела, глаза стали бледно-серыми, и она, склонившись головою, в бесчувствии упала на траву.
Туман редел в голове. Непонятно было, откуда слабость в теле, откуда хлопанье пастушьего кнута по лесу. И вдруг все вспомнилось. Вспомнился взблеск выстрела перед усатым, широким лицом, животно-оскаленные желтые зубы – Горелова? или лошади с прикушенным языком? Но сразу же потом радостный свист пуль, упоение бега меж кустов, гребень горы и скачущие всадники… И такой позорный конец всего!
Рука была перевязана носовым платком, и френч Леонида накинут на грудь. По лесу гулко раздавались еще мужские голоса, трещали кусты под ногами лошадей. Но уже много дальше. Иногда, словно удар пастушьего кнута, перекатывался по лесу выстрел.
Катя сконфуженно поднялась и медленно начала надевать кофточку.
– Какая нелепость! С чего это я?
Леонид сидел в одной рубашке, заправленной в брюки, и курил, пряча огонек в ладонь. Он заботливо оглядел Катю и мягко улыбнулся.
– Ничего, это бывает. Важно не распускаться, когда нужно. По закону, девице полагается хлопаться в обморок в минуту самой опасности, а мужчине, отбивая удары, взваливать драгоценную ношу на луку седла… А с тобою можно дела делать. Молодец девка!
Красный свет восходящего месяца бросал на камни сквозь листья ясеня неподвижно-черные узоры. Тихо было.
Леонид спросил:
– Ты через горы знаешь дорогу в Арматлук? На шоссе разумнее не выходить.
– Приблизительно знаю. Это – ущелье Гуяр-Бах, тут перевал должен быть около Кара-Агача… Пройдем.
Катя быстро встала.
– Погоди, дурочка, не спеши. Дай махновцам уйти.
Она опять села. В логове их под скалою было уютно, темно и необычно. Гибкие ветви цветущей дерезы светлели перед глазами, как ниспадающие струи фонтана. И все вокруг было необычно и по-особенному прекрасно. Белели большие камни странной формы, не всегдашне мутен и тепел был красный свет месяца, и никогда еще не было в мире такой тишины.
Леонид положил руку на Катину руку и крепко пожал ее сверху.
– Спасибо тебе, Катюрка! Кабы не ты сегодня, кормить бы мне собою крымских ваших червей… Жалко, что ты не наша. Нам такие нужны.
Катя редко теперь видела его таким, – когда он бросал свой развязный, задирающе-пренебрежительный тон и становился простым, искренним. Горячо задрожало в душе родное, тянущееся к нему чувство, как в те времена, когда он неожиданно являлся к ним из подполья, – исхудалый, нервный, – и гимназисточка-подросток жадно слушала его рассказы и толкование жизни.
– Если бы вы были другие! – вырвалось у нее.
Леонид помолчал и тихо сказал:
– Не можем мы быть другими.
– Но отчего же, отчего? Пойми, Леня, для меня это смертельный вопрос… Зачем вы эту грязь разводите вокруг себя, эту кровь? Это хамство, это измывательство над людьми? Ведь такого циничного надругательства над жизнью никогда еще, нигде не было! Вы так все обставили, что только хамы и карьеристы могут к вам идти, и те, кому власть, как вино. И все человеческие слова отскакивают от вас, как вот если камушки бросать в эту скалу.
Он слабо усмехался и бил веточкой по голенищу сапога.
– Удивительные вы люди! Разве мы можем такие слова впускать себе в душу? Как ты не понимаешь? Все кругом до самого основания изменилось, прежние отношения сломались, душа должна перестроиться на какой-то совсем новой морали… Или уже нельзя будет жить.
– Говори так, Ленька! Говори так! Не переходи на всегдашний тон. Господи, какой он тяжелый! Как будто все время в маске человек!
– Вы как смотрите? Была хорошая, чистая, светлая жизнь, и ей только не давали развиться давившие ее мерзавцы. Мерзавцев убрали, – и вот все пошло бы хорошо и гладко, да вмешались на беду эти подлые большевики и все вам напортили. Милая моя, ведь это же взрыв был, – взрыв огромных подземных сил, где вся грязь полетела вверх, пепел перегорелый, вонь, смрад, – но и огонь очищающий, и лава полилась расплавленная. Подумай, какие человеческие силы могли бы это удержать?
– А вы не удерживали, а, напротив, разжигали.
– Конечно. И нужно было, чтоб огонь ударил в небо и чтоб лава полилась по миру. А что грязь и смрад, – так что же делать! Неужели ты думаешь, что, если бы все от нас зависело, мы не действовали бы иначе? Дисциплинированные, железные рабочие батальоны, пылающие самоотверженною любовью к будущему миру, обдуманная, планомерная реорганизация строя на новых началах… Эх, да смешно говорить! Ей-богу, как будто институтки в белых пелериночках, – и разговаривай с ними серьезно!
– Нет, вы эту грязь именно разводите, вы нарочно играете на самых подлых, эгоистических инстинктах, стараетесь разжечь их, а не боретесь с ними. Вы вперед забегаете, вы хуже тех, к кому приноравливаетесь.
– Погоди. Пойдем. Не ночь же всю сидеть.
– Ну! Только что разговорились… Ну, что ж, ну, и ночь просидим!
Леонид надел куртку, поднял с земли винтовку и вышел из кустов.
– Тихо. Уехали… Ночь-то какая!
Месяц поднялся меж гор над ущельем и стал серебряным. Внизу чернел лес. Впереди крутыми своими утесами уходил в небо могучий Кара-Агач. Катя оглядывала местность.
– Тут где-то сейчас горная дорога должна быть через перевал…
Они осторожно шли, оглядываясь и прислушиваясь. Но тишина в лесу стояла забытая, и бояться было нечего. Выбрались на горную, слабо наезженную дорогу. Кудрявые кусты орешника бросали на траву черные тени. Как очень давнишнее, Катя вспомнила взлохмаченно-потную, крутящуюся голову в своих руках, огонь выстрела перед побледневшим лицом. Лет пять-шесть назад смирный мужик ходил за плугом по своему полю, косил пшеницу. Думал ли он тогда, что кровавым хозяином пройдет по городам и селам и, пьяный, сложит под пулей голову на большой дороге?
Леонид заговорил:
– Ты одного не понимаешь. Подготовительная, начальная стадия революции и сама революция – две совсем разные вещи. Там самоотвержение, высокий идеализм, чистый, молодой порыв. Таковы были девятисотые годы с первой революцией нашей. Но тогда шли десятки, – ну, сотни тысяч. А теперь поперли миллионы. Некультурные, дикие, озлобленные. Не за человечество они идут, не за лучшее будущее, а за себя, – просто за самих себя, – полные злобы, мести, жадности. Но ведь ты марксистка, как же ты этого не учитываешь? В этом-то и сила всякой настоящей революции. Пойми ты, что старая психология идейного нашего революционера-интеллигента здесь не только не нужна, а вредна, опасна… Ну, вот ты, например. Ты работала для революции, в тюрьмах сидела, в ссылке была. Потому, что ты видела, что рабочие, крестьяне угнетены, страдают, – и ты возмущалась. Очень все хорошо, и честь тебе. Но теперь угнетены буржуазия, интеллигенция, ты возмущаешься за них. Конечно, по-человечеству сказать, все – люди, и не виноваты буржуи, что родились буржуями. И вот, ты двоишься. Источник, из которого шло твое революционное настроение, потек по другому направлению. А мы идем за рабочих не потому, что они какие-то лучшие люди. Такие же! А потому, что классовый эгоизм толкает их на разрушение всяких классов и на создание нового мира. И со старою меркою подходить тут нельзя. Вот почему наша милая, отзывчивая интеллигенция со своею чистенькою моралью оказалась не у дел.
– Да, спасибо вам за вашу новую мораль! Ведь самодержавие, – само самодержавие, с вами сравнить, было гуманно и благородно. Как жандармы были вежливы, какими гарантиями тогда обставлялись даже административные расправы, как стыдились они сами смертных казней! Какой простор давали мысли, критике… Разве бы могло им даже в голову прийти за убийство Александра Второго или Столыпина расстрелять по тюрьмам сотни революционеров, совершенно непричастных к убийству?.. Гадины вы! Руку вам подашь, – хочется вымыть ее!
Она вздрогнула и повела плечами.
Леонид сдвинул брови и резко сказал:
– Вот тут-то мы и начинаем говорить на разных языках. Для нас вопрос только один, первый и последний: нужно это для революции? Нужно. И нечего тогда разговаривать. И какие страшные слова вы ни употребляйте, вы нас не смутите. Казнь, так казнь, шпион, так шпион, удушение свободы, так удушение. Провокация нужна? И пред провокацией не остановимся. А эксцессы… Эксцессы мы очень бы рады и сами искоренить. Понятно, что у чекиста, в его страшной работе, голова легко пьянеет от власти и крови. Вы только не знаете, сколько из них самих попадает у нас под расстрел. Но чтобы на этом основании устыдиться и уничтожить чрезвычайки, и с закрытыми глазами ходить среди заговоров и покушений на революционную власть, ну, нет-с! Плохо рассчитали! Мы не такие дурачки, и на удочку вашу не попадемся!
Опять, как обычно, в голосе его зазвучали митинговые ноты, когда он, как будто, говорил не для собеседника, а для невидимой, сочувственной ему толпы. И как обычно, между ними запрыгали враждебные, колющие искорки.
Катя замолчала. Ей хотелось продолжать разговор в прежнем созвучном тоне, но настроенность у обоих исчезла. Она огорченно опустила голову. И оттого, что она не возражала, что на девической щеке чернели запекшиеся царапины от револьвера, Леониду сделалось стыдно, и опять она стала ему близка и мила. Он поднял брови, почесал в затылке, дружественно просунул руку под ее локоть и смущенно сказал:
– Ну, ничего!.. Ночь-то какая, посмотри.
Катя все время бессознательно чувствовала эту ночь. Справа тянулись крутые обрывы Кара-Агача, в лунном тумане они казались совсем близкими. И казалось под лунным светом, – какие-то там на горе огромные порталы, стройные колонны, величественные входы невиданно-большого храма. Опять стало просто.
Леонид держал ее под локоть, и они шли рядом. Он заговорил по-прежнему хорошо:
– Помнишь, утром, на площади у вас в Атматлуке, когда мы судили за грабеж ваших парней, записавшихся в красную армию? Неужели же, ты думаешь, не хотелось бы мне, чтобы все у нас были такие, как тогдашний мой отрядец из рабочих, – горящие, серьезные, дисциплинированные?.. И вот, – что кругом делается! Грабежи, пьянство, притесняют всех одинаково; мужики с каким нас встречали восторгом, а теперь начинают ненавидеть. Даже махновскую эту сволочь мы вынуждены до времени терпеть. Ведь большинство у нас – люди деклассированные, развращенные империалистической войной, отвыкшие от труда, привыкшие к грабежу и крови, притом раздетые и голодные. Сразу их не перевоспитаешь. Только медленно, идя вместе с ними, мы постепенно сможем их сорганизовать. И, конечно, приходится совершенно перестроить свою душу. Я помню октябрьские дни в Москве. Теперь смешно вспомнить: как мы, интеллигенты, были тогда мягкосердечны, как боялись пролить лишнюю каплю крови, как стыдились всякого лишнего орудийного выстрела, чтобы, упаси боже, не задеть Василия Блаженного или Ивана Великого. А солдатам нашим это было совершенно непонятно, и они, конечно, были правы… Что с тех пор каждому из нас пришлось видеть, переиспытать!
Кате стало неприятно, что рука Леонида касается ее локтя.
– Погоди! На минутку!
Она высвободила руку, наклонилась к кусту, сорвала под ним две веточки цветущего шпорника. И усердно стала их нюхать.
– Ну! Ну! – жадно сказала она. – Дальше!
– Ну, вот… – Леонид шел, качая в руке винтовку. – В банкирском особняке, где я сейчас живу, попалось мне недавно «Преступление и наказание» Достоевского. Полкниги солдаты повыдрали на цигарки… Стал я читать. Смешно было. «Посмею? Не посмею?» Сидит интеллигентик и копается в душе. С какой-то совсем другой планеты человек. Ну, вот сегодня, с махновцем этим… Ты первого человека в жизни убила?
Катя вздрогнула от неожиданно так заданного вопроса.
– Ну! Как ты говоришь…
– Как говорю… Да, мы с тобой убили. – Он лукаво глядел на нее и улыбался.
Катя тоскливо повела плечами.
– Ну, да.
– А, может быть, его не стоило убивать.
– Мне тоже думается.
– Что он за револьвер взялся на Горелова, – так можно было разговорить. С пьяным русским человеком это легко, только шуточка вовремя. Не то, что с латышом, например, – эти звереют в хмелю. А мы убили. И вот ты долгие годы будешь задавать себе вопрос: «Права ты была? Не права?»… А я… Есть мне время об этом думать! Какая-то огромная, совершенно бессознательная жизнь в коллективе. Сегодня он, завтра я. Так все это неважно! Важно, что земля трясется, что гнилье рушится, что все, о чем вы говорите: «поосторожнее, да не сразу!» – все летит к черту. Ведь по всей Европе от нас идут подземные удары, бьют снизу в просторы летаргической Азии. Все ворошится, просыпается. Придавленные чувствуют, что все они – одна огромная, братская стихия, что нет никаких разъединяющих Христосов, Будд, Аллахов, нет каких-то священных Франций, Германий, Индий, Китаев, что все это обман. Один только вечный, священный, неразрывный объединитель – Труд… И думать о каком-то махновце убитом, о том, что нас убьют, о ботинках, снятых с барина, о том, что мы рот зажимаем трусам и предателям, которые все это хотят остановить. «Поосторожнее, да посмирнее, да чтобы не обидеть кого, да слишком рано еще»… И это тогда, когда все силы мировые нужно напрячь, когда все в том, чтобы дружно вскочили все сразу.
Катя усердно нюхала цветы. Справа в лунной дымке все тянулись обрывистые утесы, как порталы и колонны. В своем волнении и своей тоске Катя не могла отвлечься, сделать усилие сбросить обман зрения. И было у ней живое ощущение не диких скал, а бесконечно огромного храма нечеловеческих размеров.
С вершины перевала открылась туманная, голубая под луной арматлукская бухта меж выбегающих мысов, в поселке краснели огоньки.
– Вот это поселок ваш?
– Да.
– Выбрались. – Леонид опять взял Катю под руку. – Катя, мы больше никогда так не будем говорить. Мы чужие. Ты считаешь меня жестоким, а моя трагедия – что во мне слишком мало стали. Ты хорошая девчурка, и мне не хочется, чтоб мы были врагами. Знай, что мне часто бывает очень тяжело, иногда кажется – не хватит сил все это выдерживать. Не случайность, что среди нас так много морфинистов и кокаинистов. И очень много в условиях работы, что калечит душу. Не стоим мы на высоте. Но выбора нет. Вспомни иногда об этом, когда слишком захлестнет тебя ненависть.
Катя опять высвободила руку и бросила цветы наземь. И задыхалась, и слезы звенели в голосе, когда она сказала:
– Да, мы чужие… Мне припоминается, я читала у Лиссагарэ. Один версальский офицер, во время расстрела коммунаров, воскликнул: «нужно иметь очень твердые политические убеждения, чтоб выдерживать душою то, что мы делаем!» Но вот что обидно, о чем плакать хочется… Когда вас свергнут, когда вы даже сами сгинете на месте от своей бездарности и бессмысленной жестокости, – и тогда сиянием вас окружит история, и вы яркою, призывною звездою будете светить над всем миром, и всё вам простят! Что хотите, делайте, омохнатьтесь до полной потери человеческого подобия, – всё простят! И даже ничему не захотят верить… Где же, где же справедливость!
Леонид тихонько посмеивался. Они молча стали спускаться с перевала.
Фитилек в стакане с маслом тускло освещал милую, знакомую, закоптелую кухню. Катя, с голыми руками и плечами, сидела на табуретке и одушевленно рассказывала о схватке с махновцами, а Иван Ильич перевязывал ей простреленную руку. Анна Ивановна ахала и любовно смотрела на Катю в круглые свои очки, – в глазах Ивана Ильича были холод и отчуждение.
Катя оделась.
– Да, еще вот что. Вера приехала из России, работает у нас в городе.
Анна Ивановна радостно всплеснула руками.
– Да что ты?
Иван Ильич потемнел, в глазах его мелькнул обычный беспощадный огонек. Он прошелся по кухоньке и с сдержанною, недоброю усмешкою спросил:
– Что же, в чрезвычайке служит?
– Ах, оставь ты, папа! – раздраженно отозвалась Катя.
Он молча заходил по кухне. Анна Ивановна жадно расспрашивала про Веру.
Иван Ильич сказал:
– Когда она была учительницей на донецком руднике, она публично не подала руки врачу, присутствовавшему при смертной казни; ее тогда уволили за это и выслали из донецкого края. Что же, и теперь она не подает руки людям, причастным к казням?
– Ну, папа, я не хочу с тобой об этом говорить… Видеть ее ты, конечно, не желаешь?
– Откровенно говорю: не желал бы.
– Ну, мама, мы с тобой в понедельник поедем в город, ты с ней там увидишься.
Сели ужинать. Иван Ильич, сурово нахмурившись, ел молча.
Катя с удивлением спросила:
– А вы всё в кухне живете и в маленькой комнатке? Отчего не перебираетесь на летнюю половину?
Анна Ивановна измученно вздохнула.
– Там солдаты-пограничники живут. С мезонина глядят в подзорную трубу на море. Уж такое мне горе с ними! Воруют кур, колят на щепки балясины от террасы, рубят столбы проволочной ограды. Что стоит сходить в горы, набрать хворосту? Ведь круглые сутки ничего не делают. Ходит же Иван Ильич. Нет, лень. Вчера две табуретки сожгли.
Катя вскипела.
– Так нужно начальнику их заявить!
– Он говорит: представьте с поличным, я такого расстреляю. И ведь, правда, расстреляет. За табуретку!
Скудный был ужин. Очень скудный, – маисовая каша без масла. Хлеба не было.
Анна Ивановна сообщала местные новости.
Ревком состоял из Афанасия Ханова и еще трех мужиков болгар. Агапов, представь себе, Агапов! – стал заявлять, что это не настоящий ревком, что в нем не представлена местная беднота. Приехала из города чрезвычайная тройка, сменила ревком. Ханова, как коммуниста, оставили, но намылили ему голову за мягкость. Назначили в ревком Гребенкина и Тимофея Глухаря. Теперь главная там сила – Гребенкин. Свирепствует вовсю. И первым делом дачу Агапова занял под ревком, а Агапова выселил. Вот тебе и подслужился Агапов! Гребенкин на даче Яновича, где был сторожем, занял три лучших комнаты, завладел всей одеждой, хранившейся в сундуках. У деревенских богачей, Албантовых и Стамовых, отобрал коров, лошадей, и роздал бедным мужикам. Дает мужикам ордера на мебель и посуду дачников, на белье.
Ивана Ильича новый ревкома, в порядке трудовой повинности, обязал лечить безвозмездно все местное население. За это ему выдается из ревкома по два фунта муки в неделю.
– И какие мужики требовательные стали, настойчивые! Таскают то и дело, по самым пустяковым поводам, и непременно, чтоб сейчас пришел! Нарыв на пальце у него, и Иван Ильич, старик, должен тащиться к нему, – сам ни за что не придет. Сытые, отъевшиеся, – и даже не спросят себя; чем же мы-то живем? А у самих всегда – и сало на столе, и катык, и барашек жареный.
Иван Ильич примирительно сказал:
– Ну, все-таки… Вот вчера Цырулиева дала бутылку молока.
– Первый, кажется, случай. Да! Раз еще как-то фунт брынзы дали… На днях пьяный вломился к нам Тимофей Глухарь, орал: «Эксплуататоры! Я вам покажу! Если хоть одна жалоба на тебя будет от мужиков, засажу в подвал на две недели!» И вдруг потребовал, чтобы Иван Ильич записался в коммунисты. «Отчего, – говорит, – не желаете? Значит, вы сочувствуете белогвардейцам»… Сам в новеньком пиджаке и брюках, – реквизировал у Галицкого, помнишь, у шоссе его дачка? Акцизный контролер из Курска.
Пришел инженер Заброда, бухгалтер деревенского кооператива, – длинный, с большим кадыком на чахоточной шее. Увидел Катю, нахмурился. Поколебавшись, неохотно подал ей руку и сейчас же отвернулся: он не прощал ей, что она пошла служить к большевикам.
Медленно курил он толстую крученку из плохого табаку и сиплым голосом своим рассказывал: кооператив закрыт, весь товар взят на учет и вот уже месяц лежит без движения. Деревня без мануфактуры, без обуви, без керосина и спичек. И никакие представления не помогают. Один ответ: ждать распоряжений! Им хорошо, у самих всего в избытке. Спешить некуда!
Водянисто-голубые глаза его светились суровою ненавистью.
– Я не могу понять, – что это? Уверенность ли в безграничном терпении русского народа, или выражение полного отчаяния от сознания своего банкротства?
Катя возразила:
– Не знаю. Что-то неуловимое, мне непонятное, – но другое что-то, что дает им силу. Страшную, неодолимую силу. А помимо их – либо махновщина, в основе еще более ужасная, либо деникинщина, возвращение к старому.
– А теперь уже не воротились к старому? Все, как прежде, только в еще более российских формах. Для народа разницы нет, измываются ли над ним становые с урядниками, или комиссары с Гребенкиными… То же рабство, та же тупая реакция.
– Нет! Все-таки тут революция, самая настоящая. А не реакция.
Заброда пренебрежительно оглядел ее.
– Смертные казни, подавление самодеятельности, удушение печати… Вот так революция!
И отвернулся.
Жарким золотым светом смеется воздух, соленым простором дышит темно-синее море, зовущий аромат льется от белых акаций.
Дачка на шоссе. Муж и жена. И по-прежнему очумелые глаза, полные отчаяния. И по-прежнему бешеная, неумелая работа по хозяйству с зари до поздней ночи. У них отобрали лучшую одежду, наложили контрибуцию в три тысячи рублей. Уплатить было нечем, и пришлось продать корову. И, хотя уже не было коровы, с них требовали семь фунтов масляного продналога.
Он – с ввалившимися, неподвижными глазами. У нее, вместо золотистого ореола волос, – слежавшаяся собачья шерсть. И ненавидящие, злобные друг к другу лица.
– Екатерина Ивановна! Объясните вы ей, пожалуйста: ведь можно кормить маленьких цыплят пшенною крупою, не варя ее.
– По-моему, можно. Я просто крупою кормила.
– Вот видишь. И так погибаем от работы, а она: нет, это вредно для цыплят, нужно им варить кашу!
Катя пошла на деревню отыскать Капралова, и еще – купить чего-нибудь съестного для своих. Ее удивило: повсюду на крестьянских дворах клубился черный дым, слышался визг свиней, алели кровавые туши. Встретилась ей Уляша. Чудесные, светлые глаза и застенчивая улыбка на хищных губах. Катя спросила:
– Что это, праздник какой скоро, что ли? Почему везде свиней колют?
– Нет, праздника нету. А только… Слышно, по одной свинье позволят держать каждому, остатних будут отбирать.
– Так вы всех лишних спешите зарезать!
– Ну да!
– Это к лету-то! Кто же летом свиней колет? – Катя засмеялась. – Ну, что, Уляша, нравится вам большевизм?
Уляша застенчиво улыбнулась и взглянула в сторону.
– Нет. Что же это делают! Кому охота работать, если все отбирают. Цену объявляют пустяковую, «по твердой цене», и все верно лишнее отдай им. Вино забрали, уж не знаем, работать ли виноградники, или бросить. Люди все время в разгоне по нарядам, а нужно сено возить.
– Зато земля теперь ваша. И вещи у дачников для вас отбирают.
– Вещи – что! Их и купить можно. А за землю мы Бреверну не так уж много платили. И в городе хорошо торговали. А теперь торговлю прекратили… Только и ждем, что авось прогонют их.
Катя хохотала.
– Нет, продажного ничего нету.
– Ну, брынзы, может быть, муки? Хоть сала, – ведь вот, вы свинью колете.
– А на что нам деньги? Ничего на них не купишь. Да и не надобно нам. Все теперь есть. Это раньше было: вы ели, а мы смотрели. А теперь мы будем есть, а вы – посмотрите. Хе-хе-хе!
– Вот так – шоссе идет, а так, на горке, хата стоит. В отдельности от хуторков. И все люди, что в хате жили, от тихва перемерли. Не знаю, дезинфекцию сделали ли, нет ли. Хату на замок заперли, запечатали. Шел ночью прохожий один, видит, – огонек. Подошел к хате. В окошке лампа горит. Постучался, не отвечают. На двери замок висит, печать. Подивился он. Дело летнее, переночевал на воле. Утром зашел в хуторки. Его там угостили, а, может, по нынешнему времени, и за деньги купил, – уж не могу сказать. Поел. Спрашивает: «Кто это там на горке живет?» – Никого нету, пустая хата. – «Как так пустая? Там огонь горел».
Стали мужики вспоминать, – верно, по ночам огонь горит. Оказался тут камманист один. Винтовку взял, наган, влез в окошко и в печку спрятался. Думали, – не зеленые ли по ночам собираются?
Только полночь пробило, вдруг лампа на столе сама собою зажглась. Сидят два старичка и разговаривают. Один, – борода длинная, как полагается: саваофская; у другого кучерявенькая. Сидят и разговаривают, – вообще, значит, разговаривают о жизни, об ее продолжении. Один говорит: «Нет, Никола, не хватает терпения моего. Всех хочу уничтожить». А другой ему: «Подожди, потерпи еще немножко. Может, переменится все, одумаются люди, получше станут. Тихомирье придет».
Ну, на этом и сговорились. Первый и говорит, головы не поворачивая: «Михаил, вылезай!»
А камманиста Михаилом звали. Притулился он в печке, думает, – не к нему. А старичок опять: «Вылезай, Михаил, мы ведь знаем, что ты в печке».
Нечего делать, вылез.
– Вот. Будешь ты тут стоять, пока не придет изменение.
И врос он в землю по пояс.
Утром другие камманисты пришли, стали откапывать. Никакая кирка не берет. Так до сих пор и стоит середь хаты, в земле по пояс. Комиссия приезжала из Симферополя, опять откапывали, думали, – не белогвардейская ли пропаганда. Ничего подобного. Все записали, как было, Ленину послали телеграмму.
Под ярким солнцем над бывшей кофейнею Аврамиди развевался новенький красный флаг и желтела вывеска! «Рабоче-крестьянский клуб». В раскрытые окна несся громкий голос оратора.
Катя зашла. За стойкою с огромным обзеленевшим самоваром грустно стоял бывший владелец кофейни, толстый грек Аврамиди. Было много болгар. Они сидели на скамейках у стен и за столиками, молча слушали. Перед стойкою к ним держал речь приземистый человек с кривыми ногами, в защитной куртке. Глаза у него были выпученные, зубы темные и кривые. Питомец темных подвалов, не знавший в детстве ни солнца, ни чистого воздуха.
– Товарищи! Вы должны понимать, что теперь у нас социализм, все должны помогать друг другу. Вы вот говорите: мануфактуры нету, струменту нету. Как же рабочий может работать, как он может заготовлять вам товар, ежели у него нет хлеба? Вы должны доставлять им хлеб, чтоб учредилось братство трудящихся. Вы – им, они – вам. Вам добыли землю, мы прогнали помещиков и отдали вам…
Он говорил громким, привычным к речам голосом, все время делал по два шага то в одну сторону, то в другую и махал кулаком, как будто вколачивал гвозди.
– Товарищи! У нас теперь есть всякие отделы: отдел народного хозяйства, отдел социального обеспечения, – просто сказать; собес, – отдел народного просвещения. Неужели это не ясно? Все устроено по-социалистически, для трудового народа. Раньше, при царе Николке, попы вас учили: а да бе, а как буквы в склады сложить, тому не учили. Учили, как нужно на пузо эпитрахиль спущать, как нарукавники надевать, а настоящему понятию не учили. А теперь вам дается образование настоящее, социалистическое. Все это нужно понимать. И нужно работать сообща, все, как один человек. Товарищи! Социал-предатели, меньшевики и эсеры, подкупленные буржуазией, наущают вас не давать хлеба советской республике, запрятывать его в ямы, чтобы голодом взять советскую власть и все поворотить на старое. Ну, только это напрасно! Если меж вас есть такие кулацкие елементы, которые за контрреволюцию, то железная рука пролетариата заставит их переменить свои понятия. Мы люди дошлые, глаза у нас острые. Под какие ометы не закапывайте зерно, мы везде сыщем. И тогда такому кулаку будет плохо!







