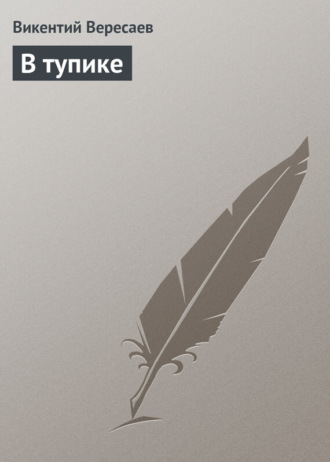
Викентий Вересаев
В тупике
Надежда Александровна вставила:
– В кровавых боях на фронтах…
– Да, в боях… Но нам не только защищаться, – ах, черт возьми, – нам нужно и созидать. Бои, это – пустяки. И быки испанские в боях великолепны, а социализма с ними не создашь.
Кате нравилось, что Корсаков говорит прямо, что думает, – не то, что Надежда Александровна или Вера. И когда говорилось так, без казенного самохвальства, с сознанием чудовищной огромности и трудности встающих задач, ей приемлемее становились их стремления.
Надежда Александровна раздраженно возражала Корсакову – долго и убедительно. Он молча слушал, закрыв глаза, вытянув туловище на сундуке, запрокинув лицо к потолку. Катю поразило, какое его лицо усталое и бледное. Бородка торчала кверху, рот был полуоткрыт, как у мертвеца. Легкий храп забороздил воздух.
Надежда Александровна тихонько засмеялась.
– Смотрите, спит!
Вера шепнула:
– Как низко голова лежит. Подушку бы подложить.
– Нет, разбудим тогда.
Замолчали. От тишины Корсаков проснулся, быстро поднялся на сундуке и тряхнул головою. Взглянул на часы.
– Пора ехать.
– Куда еще?
– Военком просил на заседание. Вздремнул, теперь освежился.
И уехал. Надежда Александровна сказала:
– Теперь до поздней ночи. И потом до света будет сидеть в кабинете за бумагами. И так изо дня в день. Спит часа три-четыре. А сердце больное… Ну, а ты, партизан, иди-ка спать! – обратилась она к сыну.
Вера спросила:
– На скрипке он теперь продолжает играть?
– Где там! Со времени революции и в руки не брал.
– А помнишь в ссылке, в Верхоленске? На именинах Хуторева. Белая ночь в раскрытые окна. И вы трио составили, – Engellied[4]. Хуторев на гитаре вместо пианино, Михаил Тихонович на скрипке, а ты пела.
Покойной ночи, мама!
Меня тот звук манит с собой…
Правда, ангельская песня! Как будто с неба звуки неслись. Петров сидел в уголке и вдруг захлюпал. И я, – так глупо: реву, захлебываюсь; вышла из избы, чтобы вам не мешать. Бледные звезды на зеленоватом небе, черные сосны…
Ясные лучи ударили из зрачков Надежды Александровны.
– Да, бывают такие минуты. Вдруг все заполнится такою красотою, все вдруг станут такие близкие.
– А Хуторев сам. Помнишь, он тогда читал стихи. Мы собрались проститься с ним, пред его бегством. Я тогда в первый раз услышала эти стихи. Как к осужденному на смерть приходит священник и уговаривает его покаяться. Тот отвечает, что каяться ему не в чем. Священник настаивает. И вот осужденный в его присутствии начинает свое покаяние:
Прости, господь, что бедных и голодных
Я горячо, как братьев, полюбил!
Прости, господь, что вечное добро
Я не считал бессмысленною сказкой!..
Все замолчали. Вера из глубины души вдруг сказала:
– Как тогда было хорошо!
Надежда Александровна отозвалась:
– Хорошо!
Катя взволновано заглянула Вере в глаза.
– Да, Вера? Да? Правда? Правда, тогда лучше было? Лучше было в жалкой избенке, на опушке тайги, чем в этом дворце на берегу Крыма?
Вера виновато улыбнулась.
– Лучше.
Надежда Александровна засмеялась своим изнутри вырывающимся смехом.
– Дай бог, значит, чтобы Колчак с Деникиным победили и опять нас отправили туда! Только не отправят, – просто повесят.
Катя спросила:
– А удалось Хутореву этому бежать?
Надежда Александровна ответила:
– Да…
И тяжелое легло молчание. Катя пытливо заглядывала в не смотрящие на нее глаза.
– Ну? Ну? А дальше? Что с ним было дальше?
– В прошлом году расстрелян. За участие в мятеже левых эсеров.
Мириманов смотрел своими умными, смеющимися глазами и, покашливая, спрашивал Катю:
– Вот, вы видитесь с ними, имеете возможность их наблюдать. Замечают они хоть что-нибудь, что творится кругом, отдают себе в этом отчет? Магазины и базары закрыли, торговлю запретили, а сами выдают по полфунта невыпеченного хлеба. Как же, по их представлению, могут питаться люди, которые не получают комиссарских пайков?.. Сейчас в море пошла камса. Улов небывалый, – а рыбакам запрещено продавать рыбу в частные руки, – все полностью должны представлять в продовольственный комиссариат. Везде рыбные инспектора, контролеры с воинскими отрядами. Привезли из уезда в продком полторы тысячи пудов рыбы, а соли не припасли. Вся рыба сгнила, теперь ее потихоньку закапывают в землю, чтобы не видел народ. А подходят все новые обозы. Что с ними делать, – не знают. Какая, подумаешь, мудреная загадка! Пятилетний ребенок ответит: продавать! Нет, нарушится принцип!.. Вы только подумайте: голод, разруха, каждый фунт пищи важен, – а они гноят тысячи пудов! И думают, что народ ничего не видит, что можно его накормить митинговою болтовнею! Послушайте-ка, что народ говорит о них на базаре. Все поголовно против них, большевистский дурман рассеялся окончательно. Спасибо им! Сами поработали над этим успешнее самых ярых своих врагов.
Он улыбнулся и достал из жилетного кармана клочок бумажки.
– На днях у ихнего Маркса я прочел чудесную заметку, – как раз к современному положению. Послушайте: «Корабль, нагруженный глупцами, быть может, и продержится некоторое время, предоставленный воле ветра, но будет неизбежно настигнут своею судьбою, именно потому, что глупцы об этом не думают». Только, – глупцы ли? Екатерина Ивановна, поверьте мне: это не глупость и не безумие. Это – сознательная дезорганизаторская работа по чьей-то сторонней указке.
Шмыгающей походкою шла по набережной женщина с воровато глядящими исподлобья глазами, с жидкою шишечкою волос на макушке. Наклонилась, подняла на панели дно разбитой бутылки с острыми зубцами, оглянулась настороженно и бросила через каменные перила в море.
Катя смотрела.
– Зачем вы это?
Женщина улыбнулась, и вдруг все ее лицо осветилось удивительно милою улыбкою.
– Наступит кто, – еще ногу себе напорет.
Так это по нынешнему времени показалось Кате необычным, – чтоб кто-нибудь подумал о других. Вечером она рассказала Вере. Вера рассмеялась.
– Как она выглядит? С крошечной пуговкой на макушке, ходит, как летучая мышь летит?
– Да, да!
– Это Настасья Петровна наша.
Вера рассказала: работница табачной фабрики, двое детей, муж пьяница, дрягиль, здоровенный мужик, жестоко бил ее и детей, пропивал не только свой, но и ее заработок. Сообщили им об этом в Женотдел, Вера пошла к ней, убедила подать прошение о разводе. Народный суд развел их, детей оставил ей, а его выселил из квартиры вон, к его безмерному изумлению и ее столь же безмерной радости. Теперь она стала восторженной коммунисткой, – кто бы, – говорит, стал раньше думать о моем горе, кто бы такие законы поставил? Вера взяла ее к себе в Женотдел.
– Ты, Катя, все вертишься в среде шипящих, и у тебя соответственный взгляд на все. Рабочей среды ты совсем не знаешь. Если бы ты подошла ближе, пригляделась бы, – сколько бы увидела прекрасного! Есть еще у нас в отделе одна татарка молодая, Мурэ. Как будто божественное откровение ее осенило и перевернуло всю жизнь. Великолепная вырабатывается агитаторша, татары в злобе, а татарки слушают, как посланницу с неба… Вот что. Завтра Настасья Петровна в первый раз делает работницам своей фабрики доклад о делегатском собрании, на которое она была ими делегирована. Хочешь, пойдем?
– Хочу, конечно.
– Говорить она, вероятно, совсем не умеет, не знаю, как у нее выйдет. Но все-таки посмотришь всех.
Назавтра пошли. В конторе фабрики собралось работниц пятьдесят. Настасья Петровна испуганно смотрела исподлобья бегающими глазами, краснела, вдруг освещалась милою своею улыбкою.
Председательствовавшая Вера сказала:
– Ну, товарищ Синюшина, расскажите нам, что вы слышали на делегатском собрании.
– Ой, товарищ Сартанова, боюсь я! Как же это я? Я никогда доклада не делала.
– Вы и не делайте доклада. Просто расскажите товарищам, что там было. Вы мне сказали, вам очень понравилась речь товарища Маргулиеса. Что он говорил?
– Уж не знаю, право, как…
Одна старая работница увещевающе сказала:
– Что ты, Настя, право? Чай, тут все свои. Чего бояться?
Настасья Петровна покраснела, набралась духу.
– Ну, вот так. Говорил, что революция, – это все равно, как ребеночек. Сперва-наперво – так, бог весть, что; не разберешь даже, то ли человек, то ли зверюшка какая. Вот, как выкидыши бывают. Все даже пугаются. А потом понемножку образуется. На свет родится, так уж видно всякому, что вправду маленький человек. Потом глазками начинает смотреть, сознательность приходит. Потом головку станет подымать, а там уж и ходить начнет. Вот все говорят: непорядки всякие, бестолочь, голод, ничего большевики не умеют наладить. Это все равно, что ребеночку новорожденному говорить: почему не ходишь?
– Ишь, хорошо как!
– Ведь верно, девушки!
Настасья Петровна воодушевилась.
– Все, говорит, помаленечку придет, нужно только всем стараться сообща. Все ведь нужно совсем по-новому устраивать, никогда еще ни в каких странах этого не бывало, чтоб рабочие сами собой управлялись, разве легко с непривычки?
Вошел рабочий, поглядел с усмешечкой.
– Бабье собрание?
Вера сказала:
– Товарищ, уходите, пожалуйста, не мешайте.
– Я что ж? Я только послушать.
– Нет, нет, ступайте.
– Уходи, Шабров, чего тебе тут?
Он усмехнулся, ушел. Настасья Петровна поискала растерянные мысли, нашла и продолжала:
– Потом, значит, объяснил, что такое будут большевики, что такое разные другие. Большевики говорят: нужно нахрапом брать, иначе нельзя. Ну, правда, убивства, обиды всякие, а нужно сразу утвердить, чтоб никакого не было разговору. А другие, – уж как им прозвание, позабыла, – «предатели», что ли? – они, значит, всего опасаются: чтобы понемножку все, да чтобы кому не было обиды, да чтоб поладить со всеми, да чтоб буржуи не озлобились. А буржуазия пользуется, только и глядит, чтоб все назад отобрать, и о том не думает, чтоб нас не обидеть.
Работницы шумно и одушевленно обменивались впечатлениями.
– Уж вот хорошо ты, Настя, объяснила! Как на ладошке.
Вера, улыбаясь, сказала:
– Ну, видите, и доклад сделали, и ничего в этом нет страшного.
Настасья Петровна сияла улыбкою, оправляла растрепавшуюся на макушке шишечку и с гордостью повторяла:
– Я сейчас доклад делала.
Как кузнечики, стукали наперебой пишущие машинки. Тк-тк! Тк-тк-тк-тк! Дзинь! Трррр… Тк-тк-тк!
– Мой муж пропал без вести. Я вышла за другого.
– Да что вы? И давно пропал?
– Два месяца.
– Почему же вы думаете, что пропал?
– А писем не пишет.
Тк-тк! Тк-тк-тк!..
– Ну, а если вдруг воротится?
– Что ж мне было делать? Я молодая. Мне без мужчины скучно.
Крутился вихрь, – какая-то сумасшедшая смесь гордо провозглашаемых прав и небывалого унижения личности… Мелькали клочья растерзанных понятий о собственности, тени обесцененных человеческих жизней, осмеянные образы обезображенных христосов и богородиц, призывы к братству и ненависти, обрывки разорванных брачных цепей, выброшенные яти и еры, спутавшиеся числа календарных стилей.
Иван Ильич стоял среди закоптелой своей кухонки, скрестив на груди руки, с презрительным лицом. Чадила коптилка. Люди во френчах и матросских бушлатах перетряхивали тюфяки, поднимали половицы, складывали в портфель бумаги и письма. Прислонившись к плите, бледный Афанасий Ханов смотрел, не принимая участия в обыске.
Бритый человек с револьвером сказал:
– По предписанию чрезвычайной комиссии из Москвы вы арестованы, гражданин.
Иван Ильич ответил устало:
– И слава богу. Мне надоела ваша большая тюрьма. Ведите в малую.
В черной толпе вооруженных людей его повели через темный сад, среди благоухания белых акаций. Загромыхал по шоссе грузовик. Меж винтовок и солдатских фуражек затряслась на звездном небе широкополая шляпа Ивана Ильича. Анна Ивановна неподвижно стояла у раскрытой калитки и смотрела вслед.
Надежда Александровна, взволнованная, прибежала к Вере и сообщила об аресте Ивана Ильича. Глаза ее светились нежною ласкою и участием.
– По предписанию из Москвы. Михаил мне сейчас сказал по телефону. Сам только что узнал.
Вера, страшно бледная, молчала с неподвижным лицом. Катя рванулась: нужно было действовать. Надежда Александровна сказала:
– Приходите вечером. Михаил все узнает, расскажет.
Вечером они пошли. Корсаков развод руками.
– Ну, что тут можно сделать! «Вы агитировали против смертной казни?» «Агитировал, и всегда буду агитировать».
Надежда Александровна нетерпеливо повела плечами.
– Какая окостенелость взглядов! Как он, право, не может понять!
Корсаков сказал Кате:
– Единственно, что могу сделать, это поместить его в возможно сносные условия. Велю дать вам свидание. Уговорите его, чтоб он, по крайней мере, держался не так вызывающе и презрительно. Сам себе подписывает приговор. Время сейчас грозное.
В том же особняке, куда Катю водили на допрос, где она сидела в подвале, ей дали свидание с отцом. Ввели Ивана Ильича в комнату и оставили их одних. В раскрытые окна несло просторным запахом моря и водорослей, лиловые гроздья глициний, свешиваясь с мрамора оконных притолок, четко вылеплялись на горячей сини неба.
Иван Ильич с суровыми глазами говорил:
– Вы все, нынешние, даже самые хорошие, так привыкли к постоянным компромиссам с совестью, что у нас уже почти нет общего языка.
– Да нет, папа, погоди! При чем компромисс? Не задирай их только.
– Катя! Меня спрашивают: «Вы против смертных казней, производимых советскою властью?» А я буду вилять, уклоняться от ответа? Это ты называешь – не задирать!.. Я тут всего третий день. И столько насмотрелся, что стыдно становится жить. Да, Катя, стыдно жить становится!.. Каждый день по нескольку человек уводят на расстрел, большинство совершенно даже не знает, в чем их вина. А Вера с ними, а ты водишь с ними компанию…
Когда свидание кончилось, Иван Ильич обнял Катю, поцеловал и сказал:
– Катя, я тебя прошу: не ходи ко мне больше на свидания. Мне с тобою тяжело.
– Спички шведские, головки советские! Пять минут вонь, потом огонь!
– Друзья, друзья! А что же хлеба не покупаете? Не забывайтесь! Вот хлеб свежий!
– Сколько-о? С ума сошел!..
Налетала милиция, торговцы, оглядываясь, бежали с лотками, рысью катили тележки, вскачь уносились на грохочущих телегах. Продавцов и покупателей вели под конвоем в милицию, конфисковали товар.
Все равно, что гроза налетевшая. Или наводнение. Непонятное, но неотвратимое. А через полчаса опять:
– Спички шведские…
– Креста нету на тебе! Сто рублей картошка!
– Бери, гражданин, не ходи дальше! Дешевле нигде не найдешь. Воротишься, – за эту цену не отдам.
Средь пыли и солнца, средь базарных выкриков и поросячьего визга странная, долгая трель:
– А-а-а-а…
– Вот любительский табачок! Покуривай, мужичок!
A-a-ah!.. E strano poter il viso suo veder!
Ah!.. Mi posso guardar, mi posso rimirar…
Di', sei tu? Marguerita! Di', sei tu?..[5]
Старая женщина в отрепанном пальто, в деревянных сандалиях, пела, высоко подняв голову, мучительно-стыдящимися глазами глядя поверх толпы. Видно, была красавица, чувствовался хороший когда-то голос и хорошая школа. И вдруг Катя узнала: жена бывшего городского головы Гавриленки, которых тогда выселили от Миримановых.
Катя съежилась, – не глядя, сунула ей в руку все деньги, какие были, и побежала прочь.
В горах, в недоступных лесных чащах, скрывались зеленые. Они перехватывали продовольственные обозы, обстреливали из засады проезжающие автомобили. По вечерам делали налеты на поселки и деревни, забирали припасы, бросали на дорогах изрешеченные пулями трупы захваченных комиссаров. Между тем войск на фронте было мало, снимать их на борьбу с партизанами было невозможно.
Везде чувствовалась организованная, предательская работа. Два раза загадочно загоралось близ артиллерийских складов. На баштанах около железнодорожного пути арестовали поденщика; руки у него были в мозолях, но забредший железнодорожный ремонтный рабочий заметил, что он перед едою моет руки, и это выдало его. Оказался офицер. Расстреляли. Однако через пять дней, на утренней заре, был взорван железнодорожный мост на семнадцатой версте.
Надежда Александровна зашла к Вере переговорить об устройстве дня работниц. (Она заведовала отделом агитпропаганды). Потом пили чай. Надежда Александровна взволнованно говорила:
– Весь наш Особый Отдел нужно бы расстрелять. Вялый, никакой инициативы. Арестовывает случайно попавшихся, но совершенно не умеет поставить широкой разведывательной работы. Теперь, впрочем, все переменится. Скоро приезжает Воронько.
Катя ахнула.
– Воронько?! Тот, знаменитый?
– Да.
– Г-господи, какой ужас!
Надежда Александровна удивленно взглянула на Катю. Вера была бледна.
– Почему ужас?
– Этот зверь?.. И тут польется кровь реками, как на Подолии, на Киевщине!
Надежда Александровна веско и раздельно сказала:
– Это один из самых прекрасных и самых замечательных людей, каких я когда-нибудь встречала… Вот белогвардейская оценка! – Она засмеялась и обратилась к Вере: – Ты знаешь, недавно в заграничных газетах был помещен его портрет с подписью: «Начальник Ч. К. Воронько, палач Украины». Если бы увидели его, – хорош палач!
Катя враждебно возразила:
– Для вас он, конечно, не палач. Вот если бы он ваших отцов и детей отправлял на расстрел, вы бы другими глазами смотрели… Ну, скажите мне: сама вы, – такая, какая вы есть, – пошли бы вы в чрезвычайку?
Надежда Александровна в изумлении глядела на Катю.
– Конечно! Какой тут может быть разговор!.. Нет, положительно, нужно бы всем коммунистам по очереди работать в чрезвычайных комиссиях, чтобы все видели, как мы относимся к этой работе.
– И вы не знаете, – скажите, что, правда, не знаете, – какие сладострастные убийцы-садисты вырабатываются в ваших чрезвычайках. Вон, рассказывают про здешнего особника, Белянкина… А был, наверно, хорошим рабочим.
Глаза Надежды Александровны стали очень маленькими, темными и колючими.
– Да, бывают, я это хорошо знаю. Но только, – уж извините, не из рабочих. В Курске, пред нашим отъездом сюда, Михаил хотел освободить одного арестованного, – никаких данных против него. А чекист, потрясая руками: «они всю жизнь нас давили, расстреливали нашего брата-рабочего. И его расстрелять!» Михаилу он показался подозрительным. Велел навести справки. Оказалось, – бывший жандармский офицер. Расстреляли.
Когда Надежда Александровна ушла, Катя сказала, мрачно глядя в окно:
– Если я случайно где-нибудь с этим Воронько встречусь, я ему не подам руки!
На скамейке под окном, облокотившись о спинку, неподвижно сидел Мириманов и как будто дремал.
С Надеждой Александровной при каждой новой встрече отношения Кати портились все больше. Надежда Александровна не могла с нею говорить без раздражения. Вопросы, которые Катя ставила с обычною своею прямотою, были для Надежды Александровны, как докучливо-нудное жужжание мухи, бьющейся в пыльной паутине.
Катя заметила: все человечество резко делилось для нее на три расы. Первая – пролетариат; это была божественно-лучезарная и божественно-безупречная порода людей, полная мощи, благородства и вещего понимания жизни. Вторая – люди ее партии: тесная семья дорогих товарищей, занятых важным, единственно нужным для жизни делом. И третья – все остальное: злобно-хлюпающая слякоть, только и думающая, чтобы залить своею зловонною жижею светлое пламя революции. Насколько было возможно, она сторонилась их с брезгливым чувством. Все их слова и дела были для нее сознательною ложью, саботажем и подкопом под революцию.
В революцию она была влюблена, как иная жена бывает влюблена в своего мужа: в нем все хорошо, у него не может быть ошибок и недостатков, малейший отрицательный отзыв о нем воспринимается ею, как обжигающее душу оскорбление.
Катя говорила ей:
– Смотрите, все кругом рассказывают: ваш жилищный отдел, – это сплошное гнездо взяточников, за деньги можно получить какую угодно квартиру, без взятки никогда не получишь ничего.
Острые гвозди маленьких глазок злобно устремлялись на Катю.
– Докажите!
И странно было: черные эти гвоздики, – неужели это те же огромные окна, из которых, как из прожекторов, лились снопы такого чудесного света?
– Надежда Александровна, как же это может доказать частный человек? А для власти, если только она захочет исследовать, это не составит никакого труда.
– Извините, Катерина Ивановна. Власти некогда заниматься обывательскими сплетнями.
А Корсаков, ее муж, Кате нравился все больше. Он ясно видел всю творившуюся бестолочь, жестокость, невозможность справиться с чудовищными злоупотреблениями и некультурностью носителей власти. В официальных выступлениях держался, как будто ничего этого нет, но в частных разговорах откровенно признавал все. Он крепко верил в конечную цель, в общую правильность намеченного пути, но это не мешало ему признавать, что путь идет через густейшую чашу стихийных нелепостей и самых ребяческих ошибок.
Когда Катя говорила с Надеждой Александровной или когда читала газеты, у нее было впечатление: пришли, похваляясь, самонадеянные, тупые, не видящие живой жизни люди, разжигают в массах самые темные инстинкты и, опираясь на них, пытаются строить жизнь по своим сумасшедшим схемам, а к этим людям со всех сторон спешат примазаться ловкие пройдохи, думающие только о власти и своих выгодах.
Когда Катя разговаривала с Корсаковым, ей представлялась картина: хрупкая ладья несется по течению в бешеном, стихийном потоке, среди шипящей пены и острых порогов, а сидящие в ладье со смертельными усилиями только следят, чтобы ладья не опрокинулась, не дала течи, не налетела на подводную скалу. И верят, что, в конце концов, выплывут на широкую, светлую реку. А толчки, перекатывающиеся волны, треск бортов, – все это было естественно и неизбежно.
С Корсаковым у Надежды Александровны были постоянные столкновения. Корсаков говорил, устало потягиваясь и потирая ладони меж сжатых колен:
– Нелепость очевидная: с нашей неорганизованностью мы совершенно не в силах держать в своих руках все производство и всю торговлю. На дворах заводов образовались кладбища национализованных машин, – ржавеют под дождем, расхищаются. Частная торговля просачивается через все поры…
Надежда Александровна ядовито возражала:
– Значит, опять разрешить частную торговлю, возвратить фабрики хозяевам?
– Да, что-то тут нужно сделать… Рано или поздно придется ввести какие-то коррективы.
Надежда Александровна в негодовании вскакивала из-за стола.
– И это говорит коммунист! Положительно, таких людей надо бы выбрасывать из партии и расстреливать!
Корсаков посмеивался.
– И даже расстреливать?
– Да, и расстреливать.
Два раза Анна Ивановна приезжала на свидание с Иваном Ильичом. А потом произошло вот что.
Восемь солдат проходило через Арматлук. Узнали они, что есть склад вина, дали в зубы охранявшему склад милиционеру-почтальону, прикладами сбили замок, добыли вина и стали на горке пить. Подпили. Остановили проезжавшую по шоссе порожнюю линейку и велели извозчику-греку катать их. Все восьмеро взвалились на линейку и в сумерках долго носились вскачь по улицам дачного поселка с гиканьем и песнями. А потом стали стрелять в цель по собакам на дворах. Пьяные заснули в степи за поселком. Грек уехал.
А утром Люба, дочь соседнего сторожа, увидела на дворе Сартановской дачи, перед свиною закуткою, труп Анны Ивановны. Около нее лежала миска с разлившимся хлебовом для поросенка. В левом боку была пулевая рана.
Дали по телефону знать в город, на следующий день приехали Катя с Верой. Смотрели они на спокойное, прекрасное в смерти лицо матери, странное без круглых очков, такое милое и невозвратное. И горько плакали, и с ужасом думали, что будет с отцом, когда он узнает. Видела Катя арестованных солдат, бледных от похмелья и испуга, – испуга только за себя, а не за сделанное. Их гнали в город на расстрел. И все это было ненужно, и кому от этого стало бы легче? Во рту как будто был тошнотный вкус крови, а в душе – тупой ужас пред жизнью.
За время, пока дача была без призора, исчез поросенок, раскрали кур. В кухне высадили окно, выломали из печки духовку и бак.
Гостей собралось много. Было сегодня рождение Корсакова, кстати воскресенье, и все обрадовались случаю передохнуть от чудовищной работы, беззаботно попраздничать.
Белозеров, в заношенной куртке защитного цвета, положил ладонь на рояль, лицо его стало серьезно и строго. Разговоры затихли. Он дал знак аккомпаниатору.
Перед воеводой молча он стоит.
Голову потупил, сумрачно глядит.
С плеч могучих сняли бархатный кафтан,
Кровь струится тихо из широких ран,
Скован по рукам он, скован по ногам…
Как всегда, когда Катя слушала Белозерова, ее поразила колдовская сила, преображающая художника в минуты творчества. Мрачно-насмешливый взгляд исподлобья, дикая энергия, кроваво-веселая игра и чужими жизнями, и своею. Все муки, все пытки – за один торжествующий удар в душу победителя-врага.
А еще певал я в домике твоем;
Запивал я песни все твоим вином;
Заедал я чарку хозяйскою едой;
Целовался сладко – да с твоей женой!!.
Где в своей душе берет он все, – этот дрянной человечишко с угодливою, мещански приобретательскою натурою? Как может лупоглазый кролик преображаться в самого подлинного тигра?.. Даже не посмел надеть своего смокинга, – к приходу большевиков нарочно раздобыл эту демократическую куртку.
На цыпочках вошел в залу седоватый человек в золотых очках. Корсаков приветливо кивнул ему головою. Он огляделся и тихонько сел на свободный стул подле Кати.
Белозерову хлопали восторженно, он еще пел. «Нас венчали не в церкви», «Не шуми ты, мать-дубравушка». Кате стало смешно: песни всё были разбойничьи; очевидно, – самый, думает, подходящий репертуар для теперешних его слушателей.
Корсаков лениво сказал:
– Спойте: «В двенадцать часов по ночам встает император из гроба».
Белозеров недоуменно взглянул и ответил с сожалением:
– Я этих нот не захватил.
Вдруг электричество мигнуло и разом во всех лампочках погасло. Из темноты выскочили лунно-голубые четыреугольники окон.
– Пробка перегорела.
– Нет, во всем городе темнота.
– Дежурный у доски заснул на станции. Сейчас опять зажжется.
Но не зажигалось. Электричество вообще работало капризно. Надежда Александровна пошла раздобывать свечей. Гости разговаривали и пересмеивались в темноте.
Искусственно-глубоким басом кто-то сказал:
– Товарища Корсакова в круг! Советский анекдотик!
Все засмеялись, подхватили, стали вызывать.
Корсаков помолчал и спросил:
– «Путешествие русского за границу» – не слыхали?
– Нет. Валяйте.
Прежний бас:
– Вонмем!
Корсаков стал рассказывать.
– Гражданин Советской республики, отстояв тридцать семь очередей, получил заграничный паспорт и поехал в Берлин. На пограничной немецкой станции получил билет, – бегом на запасный путь, где формировался поезд, и с чемоданчиком своим на крышу вагона. Подали поезд к перрону. Кондуктор смотрит: «Господин, вы что там? Слезайте!» – «Ничего, товарищ, я так всегда езжу, я привык!» – «У нас так нельзя, идите в вагон». – «Видите ли, товарищ, у меня нет права на проезд ни в штабном поезде, ни в поезде В.Ч.К.» – «Да билет-то есть у вас?» – «Вот он, вот он, билет». – «Так идите в вагон». Гражданин почесал за ухом, слез, вошел в вагон, – пулею в уборную и заперся. Стучатся. «Некуда, некуда, товарищ! Тут двадцать человек сидит!» Поезд пошел, пассажиры толкаются в уборную, – заперто. Пришел кондуктор. «Эй, мейн герр[6]! Вы там долго будете сидеть?» – «До Берлина!» – «До Берлина? Вот странная болезнь!»
Сидевший рядом с Катею господин прыснул от смеха.
– Кондуктор отпер дверь своим ключом. «Так, господин, нельзя. Иногда уступайте место и другим».
Рассказал Корсаков, как обыватель приехал в Берлин, как напрасно разыскивал Жилотдел, как приехал в гостиницу. Таинственно отзывает швейцара. – «Дело, товарищ, вот в чем: мне нужно переночевать. Так, где-нибудь! Я не прихотлив. Вот, хоть здесь, под лестницей, куда сор заметают. Я вам за это заплачу двести марок». – «Да пожалуйте в номер. У нас самый лучший номер стоит семьдесят марок». – «Суть, видите ли, в том, что я поздно приехал, Жилотдел был уже заперт, и у меня нет ордера…»
После многих приключений в Берлине, обывателя в конце концов посадили в железную клетку и над нею написали:
Р.С.Ф.С.Р.
(редкий случай феноменального сумасшествия расы)
Вошла Надежда Александровна с двумя зажженными кухонными лампочками и раздраженно сказала:
– Все с белогвардейскими своими анекдотами!
Толстый Климушкин закатисто хохотал. Господин рядом с Катей смеялся детским, неостанавливающимся смехом, каким смеются серьезные люди, у себя не имеющие смешного. Надежда Александровна с упреком взглянула на него.
– И вы тоже!
Господин вытирал под очками слезы.
– Очень, очень остроумно!
Он понравился Кате, она с ним заговорила. Серьезно и хорошо он отвечал на такие вопросы, на которые другие либо раздражались, либо отвечали задирающе-насмешливо.
Он говорил, выпуская сквозь усы дым из трубки:
– …Это с самого начала можно было предвидеть, и логика вещей, естественно, привела к этому. Только подумать, – в свое время у нас в руках находились и Краснов, и Деникин, и Корнилов. Краснов, арестованный, был у нас в Смольном, – и его отпустили на свободу под честное слово, что не пойдет против нас. И сколько потом понапрасну пролилось из-за этого рабочей крови!.. Враги внутри еще страшнее. Принимают лояльный вид, а тайно саботируют всякое наше начинание, дезорганизуют все, что могут, и в критический момент перебрасываются к нашим врагам.
В полумраке Катя видела серьезные глаза под высоким и очень крутым лбом, поблескивала золотая оправа очков, седоватые усы были в середине желто-рыжие от табачного дыма. Обычного вида интеллигент, только держался он странно прямо, совсем не сутулясь.
Катя сказала:
– Ну, хорошо. Это бы все еще можно, – если не принять, то понять. Но ведь арестовывают и уничтожают часто совершенно невинных, по одному подозрению, даже без всякого подозрения, просто так.
– Бесспорно. Но тут лучше погубить десять невинных, чем упустить одного виновного. А главное, – важна эта атмосфера ужаса, грозящая ответственность за самое отдаленное касательство. Это и есть террор… Бесследное исчезновение в подвалах, без эффектных публичных казней и торжественных последних слов. Не бояться этого всего способны только идейные, непреклонные люди, а таких среди наших врагов очень мало. Без массы же они бессильны. А обывательская масса при таких условиях не посмеет даже шевельнуться, будет бояться навлечь на себя даже неосновательное подозрение.
Со смутным ужасом Катя глядела в поблескивавшие в полумраке очки над нависшим лбом. А собеседнику ее она, видимо, нравилась, – нравились ее жадные к правде глаза, безоглядная страстность искания в голосе. Он говорил – хорошим, серьезным тоном старшего товарища:
– В тех невиданно трудных условиях, в которых революция борется за свое существование, это единственный путь. Путь страшный, работа тяжелая. Нужен совсем особый склад характера: чтоб спокойно, без надсада, идти через все, не сойти с ума, – и чтоб не опьяняться кровью, властью, бесконтрольностью. И обычно, к сожалению, так большинство и кончает: либо сходят с ума, либо рано-поздно сами попадают под расстрел.







