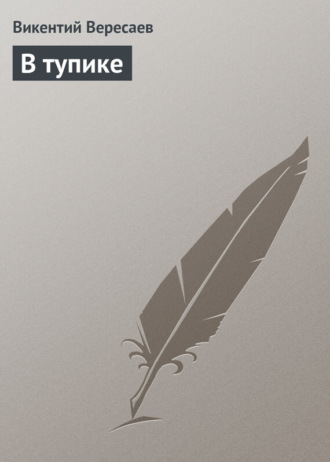
Викентий Вересаев
В тупике
Катя, как всегда, старалась дорыться до самого дна души, – что там у человека, под внешними словами? Было это под вечер. Они сидели в виноградной беседке, в конце миримановского сада. И Катя спрашивала:
– Ну, как же, – неужели у вас на душе совершенно спокойно? Вот, жили здесь люди, их выбросили на улицу, даже вещей своих не позволили взять, – и вселили вас. И вы живете в чужих квартирах, пользуетесь чужими вещами, гуляете вот по чужому саду, как по своему, и даже не спросите себя: куда же тем было деться?
Он, покашливая, отвечал равнодушно:
– Девайся, куда хочешь, – нам какое дело? Они о нас думали когда?.. В летошнем году жил я на Джигитской улице. Хорошая комната была, сухая, окна на солнце. Четыре семейства нас жило в квартире. Вдруг хозяин: «Очистить квартиру!» Спекулянту одному приглянулась квартирка. Куда деваться? Сами знаете, как сейчас с квартирами. Уж как молили хозяина. И прибавку давали. Да разве против спекулянта вытянешь? У него деньга горячая. Еле нашел себе в пригороде комнату, – сырая, в подвале, до того уж вредная! А у меня грудь уж тогда больная была. В один год здоровье свое сгубил на отделку.
Глаза его на худом лице загорелись.
– Пройдешься мимо, – отделал себе спекулянт квартиру нашу, живет в ней один с женой да с дочкой. Шторы, арматура блестит, пальмы у окон. И не признаешь квартирку. Вот какие права были! Богат человек, – и пожалуйте, живите трое в пяти комнатах. Значит, – спальня там, детская, столовая, – на все своя комната. А рабочий человек и в подвале проживет, в одной закутке с женой да с пятью ребятишками, – ему что? Ну, а теперь власть наша, и права другие пошли. На то не смотрят, что богатый человек.
– Так неужели можно брать пример со спекулянтов? Они жестоки, бесчувственны, – и вы тоже хотите быть такими же?
– Вселил бы я его в свой подвал, поглядел бы, как бы он там жил с дочкою своею, в кудряшках да с голенькими коленками! Идешь с завода в подвал свой проклятый, поглядишь на такие вот окна зеркальные. Ишь, роскошничают! «Погоди, – думаешь, – сломаем вам рога!» Вот и дождались, – сломали! А что вещи, говорите, чужие, да квартира чужая, – так мы этого не считаем.
– Не в этом суть. Изменяйте прежние отношения, стройте новые. Но мне всегда думалось: рабочий класс строит новый мир, в котором всем было бы хорошо. А вы так: чтоб тем, кому было плохо, было хорошо, а тем, кому хорошо было, было бы плохо. Для чего это? Будьте благородны и великодушны, не унижайте себя мщением. Помните, что это тоже люди.
– Люди! Волки, а не люди. А волки, их и нужно понимать, как волков. Вон, в первый большевизм было: арестовали большевики тридцать фабрикантов и банкиров, посадили в подвал. Наш союз металлистов поручился за них, заставил выпустить. А при немцах устроили мы концерт в пользу безработных металлистов, пришли в союз фабрикантов, а они нам – двадцать пять рублей пожертвовали. Вот какие милостивые! А мы-то, дураки, их жалели! Таких, как вы, слушались. Поумнели теперь. Тех слушаем, что вправду за нас… Нет, овцам с волками в мире не жить никогда: нужно волчьи зубы себе растить.
И Катя не могла достучаться до того, что ей было нужно. Не злоба тут была, как у того матроса, а глубоко сидящее отношение именно, как к волкам. Чего злобиться на волков? Но призывы Кати к благородству и великодушию звучали для ее собеседника так же, как если бы Катя говорила ему, что волкам в лесу холодно, что у них есть маленькие волченята, которых нужно пожалеть. И все рассказы Кати о зверствах и несправедливостях в отношении к буржуазии он слушал с глубочайшим равнодушием: так вот слушали бы век назад русские, если бы им рассказывали о страданиях, которые испытывали французы при отступлении от Москвы.
Катя устало спросила:
– Вы сами, значит, коммунист?
– Ну, конечно.
– И много у вас на заводе коммунистов?
– Коммунистов не так, чтоб много. А много сочувствующих и склоняющих. Склонить всякого легко, только поговорить с ним. Ты что, имеешь какую на заводе собственность? А у себя дома имеешь? Койку, да пару табуреток? А дом у тебя есть свой? Будет когда? – Никогда. – Ну, вот, значит, ты и коммунист.
Катя шла по набережной и вдруг встретилась – с Зайдбергом, – с начальником жилотдела, который ее отправил в тюрьму. Такой же щеголеватый, с тем же самодовольно извивающимся, большим ртом и с видом победителя. Катя покраснела от ненависти. Он тоже узнал ее, губа его высокомерно отвисла, и он прошел мимо.
– Эй, ты! – раздался с улицы повелительный окрик. Ехало три всадника на великолепных лошадях; на левой стороне груди были большие черно-красные банты.
– Что скажете, товарищи? – отозвался Зайдберг.
– Где тут у вас продовольственный комиссариат?
– Вот сейчас поедете по переулку наверх, потом повернете вправо…
– Веди, покажи.
Зайдберг холодно ответил:
– Я извиняюсь, товарищи. Я ответственный советский работник, и мне некогда.
Панель зазвенела под подковами, усатый всадник наскочил на Зайдберга и замахнулся нагайкой.
– Веди, сукин сын! Разговаривать еще будешь? Живо!
– Но позвольте, товарищи, я вам…
– Ну!!
Нагайка взвилась над его головой. Лицо Зайдберга пожелтело, губа уныло отвисла. Он слабо пожал плечом и повернул со всадниками в переулок.
И везде на улицах Кате стали попадаться такие всадники. У всех были чудесные лошади, и на груди – пышные черно-красные банты.
Это вступил в город отряд махновцев. Советская власть радушно встретила пришедших союзников, отвела им лучшие казармы. Они слушали приветственные речи, но глаза смотрели загадочно. Однажды, когда с балкона ревкома тов. Маргулиес говорил горячую речь выстроившимся в два ряда всадникам, один из них, пьяный, выхватил ручную гранату и хотел бросить на балкон. Товарищи его удержали.
В городе участились грабежи. Махновцы вламывались в квартиры и забирали все, что попадалось на глаза.
Под вечер Катя стирала в конце сада. На жаровне в тазу кипело белье. Любовь Алексеевна крикнула с террасы:
– Екатерина Ивановна! Вас спрашивают.
По аллее из пирамидальных акаций шла, щурясь от заходящего солнца, высокая бледная девушка. Катя остолбенела, не веря глазам. Девушка шла с улыбающимся лицом, и с взволнованным ожиданием глядя на Катю.
– Вера!!
Все забыв, с мокрыми, мыльными руками, Катя бурно бросилась ее целовать.
Они смеялись, плакали. Сели на скамейку, задавали друг другу вопросы, и опять начинали целоваться.
– Как ты сюда попала?
– Из центра послали нас в Крым, целую партию ответственных работников… А ты работаешь с нами?
– Да, в Наробразе.
– Как я рада!
Вера жадно расспрашивала про отца, про мать. И, поколебавшись, спросила:
– Захотят они меня видеть?
– Мама, – конечно. А папа… – Катя печально опустила голову. – Он о тебе никогда не говорит и уходит, когда мы говорим. Он не захочет.
Вера страдающе прикусила губу.
– А маму мы, лучше всего, устроим, чтобы сюда приехала. Ты где будешь жить?
– Еще не знаю. Пока остановилась в «Астории».
– Ой, в «Астории»!.. Перебирайся ко мне.
Вера ужасно обрадовалась.
– Вот хорошо, Катюрка!
– Только вот что: в жилищном отделе сказали, что мне не позволят выбрать сожительницу, а пришлют сами. На днях был жилищный контролер…
Вера спокойно усмехнулась.
– Не беспокойся, пропишут без всяких разговоров. Я скажу по телефону.
– А ты знаешь, что со мною там было? – Катя, волнуясь, рассказала о своем столкновении с начальником Жилотдела, и о том, как прорвалась «хамским царством», и как сидела в подвале.
Лицо Веры стало холодным.
– Какой у тебя, Катя, жаргон вырабатывается! Совсем, как у «объединенных дворян». Из-за того, что с тобою так поступили в Жилотделе, неужели вообще можно говорить о хамском царстве?
Катя замолчала и изумленно глядела на Веру.
– Из всего, что я тебе рассказала, тебя только это возмутило!.. Ну, а как он поступил? Как этих несчастных женщин гноят в темном подвале? Да и только ли это!
Катя рассказала о резолюции Искандера на прошении Миримановой, о генерале, задушенном в больнице санитаром. Глаза Веры как будто задернулись непроницаемою внутреннею пленкою.
– Да ведь с этим генералом, может быть, вовсе и не так. Кто видел, что его задушил санитар? Показалось со страху этой твоей фельдшерице. Столько сейчас везде сплетен про нас!
Катя враждебно возразила:
– Но почему же ты заранее, ничего не зная, утверждаешь, что ничего такого не было? Ну, а эта гнусная резолюция Искандера? Ее-то я уж сама видела, сама читала. Это уж факт!
– Ну, а по существу-то, – ведь он оказался прав в конце концов, деньги они внесли. А потом: отдельные эксцессы, конечно, всегда возможны…
– Отдельные? Эх, Вера! А что ваши пленники валяются в подвалах на каменном полу, в темноте, без прогулок, – это тоже отдельный эксцесс?
– Нет, это, конечно, нехорошо… Но ведь власть только что утвердилась. Конечно, всё сразу не успевают организовать, недочетов много. Первые недели всегда самые ужасные и совершенно анархичные. Вот теперь с нами приехал новый предревком, он понемножку все наладит.
Катя пристально поглядела Вере в глаза и круто замолчала. Вера, такая прямая и честная, – и это виляние, это казенное стремление оправдать, во что бы то ни стало!..
Она сняла с жаровни таз и стала готовить ужин.
Ужинали, пили чай. Перестали говорить о том, что их разъединяло, и опять явилась сестринская близость. Легли спать в одну постель, – Катю поразило, какое у Веры рваное белье, – и долго еще тихо разговаривали в темноте.
Назавтра Вера с убогим узелком своего имущества перебралась к Кате. Ордер в Жилотделе она без всякого труда получила вне очереди.
Вечером Вера, между прочим, сказала Кате:
– Да, знаешь, сегодня Корсаков, предревком новый, осмотрел помещения арестованных. Верно, – даже топчанов нет, прогулок не дают. Вообще, настоящая, как ты говоришь, Иродова тюрьма. Такое безобразие! Сместил начальника тюрьмы и отдал его под суд.
– Ты ему все рассказала?
– Ну да.
– О, Верка, значит, с тобою еще можно жить! А я вчера вынесла впечатление, что тебе до всего этого и дела нет.
На одном из запасных путей узловой станции стоял вагон штаба красной бригады. Был поздний вечер воскресенья. Из станционного поселка доносились пьяные песни. В вагоне было темно, только в одном из купе, за свечкой, сидел у стола начальник штаба и писал служебные телеграммы.
Смеющийся женский голос спросил у входа:
– Товарищ Храбров, вы здесь?
Начальник штаба нахмурился.
– Здесь.
Вошла дама с подведенными слегка глазами, с полным бюстом. Храбров неохотно поздоровался. Она значительно пожала ему руку и с веселым упреком воскликнула:
– И не поцелует руки! А еще бывший офицер!
– Я и офицером не целовал дамам рук, а теперь и подавно. – И сухо спросил: – Отчего вы до сих пор не уехали? Ведь литеру я вам выдал.
– Опоздала. Пошла на вокзал напиться, – ужасно хотелось лимонаду! Ничего нет на станции, даже стакана воды не могла раздобыть. Вы ведь знаете, какая у нас везде бестолочь. Воротилась, – поезд ушел. Как саранча, идем мы, и все кругом разрушаем, портим, загаживаем, и ничего не создаем.
– Вы говорите, вы – жена коммуниста, ответственного работника. Могли бы шире смотреть, поверх этих мелочей.
Она вздохнула.
– Да, когда от этих мелочей жить невозможно!.. Ну, вы меня не приглашаете сесть, а я все-таки сяду.
Дама села и закурила папироску. Ногу она положила на ногу, и из-под короткой юбки видна была до половины голени красивая нога в телесно-розовом чулке и туфельке с высоким каблучком. От дамы пахло духами, в разрезе белого платья виднелись смуглые выпуклости грудей, и в Храброва шло от нее раздражающее электричество женщины, тянущейся к любви и ждущей ее.
– А вы все сидите, все работаете. Вчера поздно-поздно ночью я видела огонек в вашем вагоне… – И с нежным, ласковым упреком она сказала, понизив голос: – Зачем вы так выматываете себя на работе?
– Вы больше, чем кто другой, можете это понимать. Время такое, когда приходится работать по двадцать часов в сутки.
– Ну, да… – Она молча смотрела на него большими черными глазами и вдруг тихонько сказала: – Никогда, никогда я не поверю, чтобы вы, правда, по внутреннему убеждению, так работали для них.
– Для них? Марья Александровна, я не ослышался? Для них, а не для «нас»?
Дама загадочно засмеялась, посмотрела горячим взглядом и медленно ответила:
– Ну, если вам так хочется… «для нас»…
Храбров вдруг решительно встал, засунул руки в карманы и сказал:
– Люся! Довольно!
Дама отшатнулась.
– Какая… Люся? Я – Мария Александровна.
– Вы – Люся Гренерт. Не узнаете меня? Коля Мириманов. В одно время учились в Екатеринославе. Вы были такою славною гимназисточкою, с такими чудесными, ясными глазами… И вот – стали шпионкой.
– Коля? – Она в испуге смотрела на него.
– Стыдно, барыня!
Дама медленно опустила голову и закрыла лицо руками. Плечи ее стали вздрагивать. Она заплакала.
– Как же я вас не узнала?.. Да, верно: я ихняя шпионка… Послушайте меня.
Она робко огляделась.
– Да, они меня заставили сделаться шпионкой. В Харькове мой муж, подполковник, был арестован, сидел у них в чека полгода, меня не допускали. Сказали, что его расстреляют, и предложили пойти к ним на службу. Трое детей, есть нечего было, все реквизировали, из квартиры выгнали… Боже мой, скажите, что мне было делать!
– Что угодно! Умереть, предоставить мужа его судьбе, а на это не идти.
– Да, правда! И вот мне за это казнь. Вы знаете… Мне все-таки с тех пор ни разу не дали свидания с ним, и все время высылают с разными поручениями из Харькова. И я боюсь даже подумать… Душу мою они сделали грязной тряпкой, а его – все-таки расстреляли!.. О, если это зерно, я им тогда покажу!
И, как в бреду, она быстро зашептала, испуганно оглядываясь:
– Я завтра утром уеду. Я, конечно, нарочно не уезжала до сих пор… И я вам все скажу. За вами очень следят, ни одному слову не верьте, что вам говорят. Главный политком, Седой, он вам верит, а другой, латыш этот, Крогер, – он и в особом отделе, – он все время настаивает, что вас нужно расстрелять. Он-то меня к вам и подослал… И я боюсь его, – в ужасе шептала она, – он ни перед чем не остановится…
Снаружи вагона послышались мужские голоса, отдались шаги по приступочкам, в коридоре заговорили.
Дама побледнела и поспешно поднялась. Вошли политкомы Седой и Крогер, и с ними, – командир бригады, бывший прапорщик, с туповатым лицом.
Когда дама проходила мимо них к выходу, Крогер значительно переглянулся с нею. Седой оглядел ее с тайною брезгливостью.
Поздоровались. Седой сказал, посмеиваясь:
– Вот вы в какой приятной компании проводите вечера!
Храбров раздраженно обратился к Крогеру:
– Товарищ Крогер, уберите вы, пожалуйста, отсюда эту дамочку. Говорит, нечаянно тут застряла, я ей выдал литеру, а она все тут вертится. Я ей сказал, что больше не буду ее принимать, и велел гнать ее от вагона.
Крогер молча сел.
– И потом, вот что я хотел вас просить. У меня решительно не хватает времени на все. Отчего бы вашим помощникам не шифровать служебных телеграмм? Это и для них полезно, – они, таким образом, все время будут в курсе наших самых даже мелких распоряжений…
Крогер поглаживал свои густые, белесые усы и украдкой приглядывался к нему серыми, как сталь, глазами. Он ответил медленно:
– Да, это я вам хотел сам приказать.
Они просидели часа два.
В автомобиле, по дороге к городу, Леонид с раздражением спросил:
– Да какие же у вас данные? Работает, как лошадь, все на нем держится. Комбриг говорит, что без него окажется, как без рук.
– Значит, сам комбриг никуда не годится. Если бы я имел данные, я бы его арестовал без разговоров. А только я вижу: не из наших он. Зачем так много работает? Не по совести он у нас.
– Конечно. Спец, как спец. Следить нужно.
Крогер упрямо возразил:
– Арестовать нужно.
Позднею ночью Храбров, усталый, вышел из вагона. Достал блестящую металлическую коробочку, жадно втянул в нос щепоть белого порошку; потом закурил и медленно стал ходить вдоль поезда. По небу бежали черные тучи, дул сухой норд-ост, дышавший горячим простором среднеазиатских степей; по неметеному песку крутились бумажки; жестянки из-под консервов со звоном стукались в темноте о рельсы.
Недалеко от стрелки темнела фигура с винтовкою за спиною. Храбров вгляделся и узнал своего ординарца, оренбургского казака Пищальникова.
– Товарищ Пищальников, это вы?
– Я, товарищ начальник.
– Чего это вы не спите?
– Не спится что-то. Все о доме думаю.
– Вы разве не добровольно пошли?
– Нет, по мобилизации взяли… Как скажете, товарищ начальник, скоро всему этому будет окончание?
– Не знаю, товарищ. Должно быть, долго еще нам с вами придется манежиться. Больно уж напористы белые.
Казак помолчал и вдруг сказал:
– Ваше благородие!
Храбров вздрогнул.
– Что вы, товарищ, с ума сошли?
– Никак нет… Дозвольте вас спросить, ваше благородие: неужто вы по совести пошли служить этой сволочи?
– Да я тебя арестовать велю! Ты с ума сошел!
– Никак нет… А только вот вам крест, – казак снял фуражку и широко, медленно перекрестился, – вы не от души им служите, нехристям этим.
Все время начеку, все время внутренне поджавшийся, Храбров хотел на него грозно закричать и затопать ногами. Но так из души вырвались слова казака, так он перекрестился, что Храбров шагнул к нему вплотную, заглянул пристально в бородатое его лицо и хриплым шепотом спросил:
– Крест у тебя на шее есть?
– Есть.
– Покажи.
Казак молча расстегнул ворот и вытянул за шнурок небольшой медный крестик. Храбров ощупал его, оглядел.
– Ну, я тебе верю, Пищальников. Чувствую, что тебе можно верить.
Казак радостно ответил:
– Так точно, ваше благородие!
– Хочешь России послужить?
– Что прикажете, все сделаю. Рад стараться.
– Хорошо. Скоро ты мне понадобишься. А сейчас разойдемся. Не нужно, чтобы нас видели вместе.
В субботу Леонид по делам ехал на автомобиле в Эски-Керым. Катя попросила захватить ее до Арматлука: ей хотелось сообщить отцу с матерью о приезде Веры и выяснить возможность их свидания. Дмитревский поручил ей кстати ознакомиться с работою местного Наробраза.
После обеда выкатили они из города еще с одним товарищем. Длинный, с изможденным, бритым лицом, он сидел в уголке сидения, кутаясь в пальто, хоть было жарко.
Мчалась машина, жаркий ветер дул навстречу и шевелил волосы, в прорывах гор мелькало лазурное море. И смывалась с души чадная муть, осевшая от впечатлений последнего месяца, и заполнялась она золотым звоном солнца, каким дрожал кругом сверкающий воздух.
В степи шел сенокос, трещали косилки, по дорогам скрипели мажары с сеном. От канонады на фронте по всему Крыму лили в апреле дожди, урожай пришел небывалый.
Спутники Кати вполголоса разговаривали между собой, обрывая фразы, чтоб она не поняла, о чем они говорят. Фамилия товарища была Израэльсон, а псевдоним – Горелов. Его горбоносый профиль в пенсне качался с колыханием машины. Иногда он улыбался милою, застенчивою улыбкою, короткая верхняя губа открывала длинные четырехугольные зубы, цвета старой слоновой кости. Катя чувствовала, что он обречен смерти, и ясно видела весь его череп под кожей, такой же гладкий, желтовато-блестящий, как зубы.
По обрывкам фраз Катя понимала, о чем они говорят, и ей было смешно; они скрывали то, что все в городе прекрасно знали, – что в центральный совет рабочих профсоюзов прошли меньшевики и беспартийные. Когда разговор кончился, она, как всегда, срыву сказала:
– На днях у нас на пленуме в Наробразе выступил представитель совета профсоюзов. Вот была речь! Как будто свежим ветром пахнуло в накуренную комнату.
Леонид пренебрежительно спросил:
– Что ж он у вас такое говорил?
– Говорил о диктатуре пролетариата, что они выгоняют жителей из квартир, снимают с них ботинки, и что в этом вся их диктатура. А что прежде всего нужно стать диктатором над самим собой, что рабочие должны заставить всех преклониться пред своей нравственной высотой, пред своим уважением к творческому труду.
Леонид переглянулся с Гореловым и засмеялся.
– Вот интеллигентщина!
Лицо его стало неприятным и колючим.
– И говорил еще, что рабочий класс в самый ответственный момент своей истории лишен права свободно думать, читать, искать.
Леонид прервал ее:
– Интересно, – какого он цеха?
– Иглы.
– Ну, так! Значит, портной. Не мастерок ли? Они сейчас великолепно зарабатывают на общей разрухе, спекулируют мануфактурой, под видом родственничков набирают подмастерьев и эксплуатируют их совсем, как раньше.
– Само-собою! Раз не ваш, значит – спекулянт и буржуй!
– Скажите, пожалуйста, чем всего больше озабочен! Что буржуазию выселяют из ее роскошных особняков и отводят их под народные дома, под пролетарские школы и приюты! Какая трогательная заботливость!.. Вообще, необходимо обревизовать все эти выборы. Дело очень темное.
– Темное, несомненно, – отозвался Горелов и мягко обратился к Кате: – В провинции сейчас это то и дело наблюдается: более достаточные рабочие мелкобуржуазного склада пользуются темнотой истинно пролетарской массы и ловят ее на свои удочки.
– Ничего! Скоро просветим! – сказал Леонид. – Кто сам босой, тот не будет плакать над ботинками, снятыми с богача.
– А наденет их и будет измываться над разутым.
Леонид задирающе усмехнулся.
– Конечно!
– А у тебя у самого очень хорошие сапоги.
Леонид оглядел свою ногу, подтянул лакированное голенище и, дразня, спросил:
– Правда, недурные сапожки?
Под колесами выстрелило, машина остановилась. Шофер слез и стал переменять камеру.
Качаясь в седлах, мимо проскакали два всадника с винтовками за плечами. Через несколько минут, догоняя их, еще один промчался карьером, пригнувшись к луке и с пьяной беспощадностью сеча лошадь нагайкою.
Леонид глядел им вслед.
– Махновцы. Рассыпались по окрестностям и грабят, сволочь этакая. Когда мы от этих бандитов избавимся!
Поехали дальше. Через несколько верст лопнула другая шина. Шофер осмотрел и сердито сказал:
– Нельзя ехать, камер больше нету. Чиненые-перечиненые дают, так лохмотьями и расползаются.
Дошли пешком до ближайшей деревни. Леонид предъявил в ревкоме свои бумаги и потребовал лошадей. Дежурный член ревкома, солдат с рыжими усами, долго разбирал бумаги, скреб в затылке, потом заявил, что лошадей нету: крестьяне заняты уборкою сена. Леонид грозно сказал, чтоб сейчас же была подана линейка. Солдат вздохнул и обратился к милиционеру, расхлябанно сидевшему с винтовкою на стуле.
– Гриша, сейчас Софронов проехал из степи с сеном. Скажи, чтоб дал лошадей. Станет упираться, арестуй.
Милиционер ушел, за ним ушел и солдат. В комнате было тихо, мухи бились о пыльные стекла запертых окон. На великолепном письменном столе с залитым чернилами бордовым сукном стояла чернильная склянка с затычкой из газетной бумаги. По стенам висели портреты и воззвания.
Горелов, уткнув бритый подбородок в поднятый воротник пальто, дремал в углу под портретом Урицкого. Желтели в полуоткрытом рту длинные зубы.
Катя вышла на крыльцо. По горячей пыли дороги бродили куры, с сверкавшей солнцем степи неслось сосредоточенное жужжание косилок. Леонид тоже вышел, закурил о зажигалку и умиленно сказал:
– Вот человек – Горелов этот! В чем душа держится, зимою перенес жесточайшую цингу; язва желудка у него, катар. Нужно было молоко пить, а он питался похлебкою из мерзлой картошки. Отправили его в Крым на поправку, он и тут сейчас же запрягся в работу. Если бы ты знала, – какой работник чудесный, какой организатор!..
Через полчаса подъехала линейка. На козлах сидел мужик с войлочно-лохматой бородой, с озлобленным лицом.
Поехали дальше. Запыленное красное солнце спускалось к степи. Опять скрипели мажары с сеном, у края шоссе, по откосам, остро жвыкали косы запотелых мужиков, в степи стрекотали косилки. Группами или в одиночку скакали к городу махновцы, упитанные и пьяные.
Леонид спросил возницу:
– Здорово вашего брата обижают махновцы?
Мужик краем глаза поглядел на него и неохотно ответил:
– Мужика всякий обижает…
И отвернулся к лошадям. Помолчал, потом опять поглядел на Леонида.
– Войдет в хату, – сейчас, значит, бац из винтовки в потолок! Жарь ему баба куренка, готовь яичницу. Вина ему поставь, ячменю отсыпь для коня. Все берет, что только увидит. Особенно до вина ярые.
Проехала подвода, тяжело нагруженная бочонками вина, узлами. Вокруг нее гарцевали два махновца. Третий, пьяный, спал на узлах, с свесившеюся через грядку ногою, а лошадь его была привязана к задку. Возница татарин, с угрюмым лицом, бережно, для виду, подхлестывал перегруженных кляч.
Леонид засмеялся.
– Какие вы близорукие, обыватели российские! – обратился он к Кате. Не умеете вы нас ценить. Кабы не мы, по всей матушке-Руси шныряли бы вот этакие шайки махновцев, петлюровцев, григорьевцев, как в смутное время или в тридцатилетнюю войну. И конца бы их царству не было.
– Вот, и при вас шныряют, а вы смирненько смотрите.
– Погляди, шныряют ли у нас в России. Дай нашим сюда подтянуться, увидишь, долго ли будут шнырять.
Катя кивнула на мужика.
– Он не только про махновцев говорил. Сказал – всякий мужика обижает.
Леонид потянулся и зевнул.
Они ехали по мягкой дороге рядом с шоссе. Шоссе внизу делало крутой изгиб вокруг оврага. За кучею щебня, как раз на изгибе шоссе, вздымался странный темный шар. Мужик завистливо поглядел и пощелкал языком:
– Ка-кого коня загнали!
Лежала великолепная кавалерийская лошадь с вздутым животом, с далеко закинутою головою; меж оскаленных зубов длинно высунулся прикушенный фиолетовый язык, остеклевшие глаза вылезли из орбит.
– Загнал с пьяных глаз, мерзавец! – с отвращением сказал Леонид.
Проехали. Катя еще раз оглянулась на лошадь. По ту сторону оврага, над откосом шоссе, солдат с винтовкою махал им рукою и что-то кричал, чего за стуком колес не было слышно. Вдруг он присел на колено и стал целиться в линейку. Катя закричала:
– Смотрите, что он делает!
– Тпруэ!
Мужик испуганно натянул вожжи. Линейка стала.
Солдат ленивою походкою, не спеша, шел к ним, с винтовкою в левой руке, с нагайкою в правой. Был он лохматый, здоровенный, с картузом на затылке, с красным лицом. Подошел и с пьяною серьезностью коротко сказал:
– Ваши документы!
На груди его был большой черно-красный бант.
Леонид с уверенностью человека, имеющего хорошие документы, небрежно протянул ему бумажку. Махновец стал разбирать.
– По-ли-ти-чес-кий комис-сар… – Он уставился на Леонида. – Советчик? Не годится документ.
Леонид насмешливо спросил:
– Почему?
– Мы на вашу советскую власть плюем. Нам эти документы ни к чему.
– А для чего вам, товарищ, документы? По какому праву вы их требуете?
– Плюем на вашу власть. Мы только батьку Махно одного знаем. Он нам приказал: «Бей жидов, спасай Россию!». Приехали к вам сюда порядок сделать. Обучить всех правильным понятиям… – Он озорным взглядом оглядел Леонида и, как заученно-привычный лозунг, сказал: – Бей белых, пока не покраснеют, бей красных, пока не почернеют… Ты кто?
Леонид резко ответил:
– Я тебе показал документ, знаешь, кто я, – чего еще спрашиваешь!
– Молчи!.. – Он замахнулся на Леонида нагайкой. – Кто ты?
Леонид пожал плечами.
– Кто! Ну, коммунист.
– Нет, кто ты?
Катя рассмеялась.
– Да неужто ж сами не видите? Русский, русский! Не еврей!
Широкая рожа солдата расплылась в улыбку.
– Хе-хе!.. Верно!.. А ты, – он уставил на нее палец, – ты жидовка!
– Вот так так! Я двоюродная сестра его!
– Сестра!.. Знаем, что за сестры! Повидали их на войне. – И извивающимися гадюками поползли в воздухе циничные, грязно-оскорбительные догадки.
Потом он сказал:
– Слезайте все долой!.. Слышь, земляк! Конь у меня занедужил, вон лежит. Повезешь в город.
Мужик сердито ответил:
– Дохлый твой конь, ай не видишь? Куда его везть!
– Отойдет. Поворачивай!
– Да что вы, товарищ!.. Разве линейка подымет лошадь? Вон мажара, чего ж вам лучше!
Навстречу ехала пустая мажара, в ней сидели два грека. Они согнулись и глядели в сторону. Махновец властно сказал:
– Стой!
Греки притворились, что не слышат, и продолжали ехать. Махновец деловито упер приклад в бедро и выстрелил в небо. Греки моментально остановились. Он, не спеша, отдернул затвор и опустил винтовку.
– Слезай!
Греки слезли.
– Кто такие?
– Крестьяне, товарищ. За сеном едем.
– Вина не везете?
– Поглядите сами, пустая арба… Можно ехать?
Махновец отрицательно мотнул головой и повернулся к вознице линейки.
– Ты мне ручаешься за них?
Мужик усмехнулся в войлочную свою бороду.
– За кого такое?
– Вот за этих. – Он указал на пассажиров.
– Я-то что тут? По наряду взяли меня. Кто такие, – почем я знаю.
– Ты мне за них отвечаешь. Ежели что, – на мушку тебя.
Странно было Кате. Пять мужчин окружало его, а он, один против всех, командовал над ними и измывался, и винтовка беззаботно висела за плечами.
Махновец опять повернулся к грекам.
– Вон конь мой лежит. Подъезжайте, подберем его… В город свезете.
Старший из греков поспешно ответил:
– У нас лошади слабые, не вытянут.
Катя быстро наклонилась к Леониду и шепотом спросила:
– Неужели у тебя нет револьвера?
– Ч-черт! Такая глупость! Забыл.
Глаза Кати потаенно блеснули, и в ответ им сверкнуло в душе Леонида. Он слегка побледнел и слез с линейки, разминая ноги.
Махновец в колебании оглядывал линейку. Ему хотелось еще поозорничать, но он не знал, как.
Горелов, сгорбившись и уткнувшись подбородком в воротник, все время неподвижно сидел на той стороне линейки, спиною к махновцу. Вдруг взгляд махновца остановился на его горбоносом, изжелта бледном профиле.
– Ты… – зловеще протянул махновец. – Поди-ка сюда, жидовская харя! И спокойной рукою он взялся за револьвер у пояса.
Катя быстро переглянулась с Леонидом. И дальше все замелькало, сливаясь, как спицы в закрутившемся колесе. Леонид охватил сзади махновца, властно крикнул: «Товарищи, вяжите его!» – и бросил на землю. Катя соскочила с линейки, а мужик, втянув голову в плечи, изо всей силы хлестнул кнутом по лошадям. Горелов на ходу спрыгнул, неловко взмахнул руками и кувыркнулся в канаву. Греки вскочили в мажару и погнали по дороге в другую сторону.
Махновец бился под Леонидом, но Катя сразу почувствовала, что он гораздо сильнее, – ее поразили его крепкие, круглые плечи. Рука с револьвером моталась в воздухе над Леонидом и старалась повернуть револьвер на него. Не умом соображая, а какою-то властною, взмывшею из души находчивостью, Катя схватила руку с револьвером, – на длинных ногах неуклюже подбегал Горелов, – и всею грудью навалилась на руку. Рука бешено дернулась, проехала выступающими частями револьвера по Катиной щеке и опять взвилась в воздух. Махновец изогнулся, сбросил с себя Леонида, в упор выстрелил в набегавшего Горелова и подмял под себя Леонида. Рука с револьвером упиралась в землю. Катя схватила валявшуюся на земле винтовку с оборванной перевязью, изо всей силы ударила прикладом по руке. Револьвер вывалился. Она подняла, беспомощно оглядела его. Попробовала поднять курок, – не подается.







