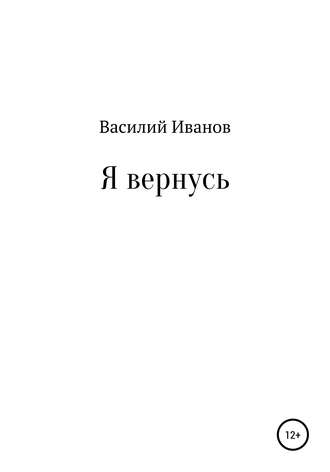
Василий Иванов
Я вернусь
Это была последняя неделя августа, кажется. Было очень жарко. Градусов тридцать пять по Цельсию. Я стоял в охранении на пару с товарищем, татарином по национальности, воевавшим чуть ли не с самого начала войны от самой Москвы и до Берлина. Уже перевалило за полдень, ветер стих и казалось, что вся улица замерла в немой неге. Внезапно улица взорвалась треском мотоциклетки.
За рулем как-то очень прямо сидел автоматчик НКВД, а офицер из коляски прокричал: «Правительство пешком идет!». Честное слово, хотя мы итак не расслаблялись, но стали еще прямее, а выправка была такая, что могли бы позавидовать и гвардейские знаменоносцы. Мы даже не поняли конкретно, какое именно начальство, но шестым чувством поняли – идут очень важные персоны.
Мотоцикл укатил дальше, но следом никто из обслуги и охраны не появился, просто раздался шум шагов, негромкие разговоры и…из-за тополей показались фигуры руководителей Советского Союза.
Вначале шел Сталин. Я затаил дыхание, но старался стоять прямо и смотреть строго перед собой. Верховный Главнокомандующий шел не торопясь, одет был в белый генеральский китель, синие штаны, в руке держал генеральскую фуражку. Он что-то негромко говорил идущему за ним Молотову, тот кивал, но, заглядывая в потрепанную книжечку типа блокнота, упорно на чем-то настаивал.
Сталин хмурился и продолжал говорить вполголоса.
Каким он был? Спустя столько лет, всякий раз, когда меня спрашивали об этом, я припоминанию в первую очередь его глаза. Глаза великого человека. Усталые и умные. Внимательные и пронзительные. А вот знаменитой трубки не было, да это и понятно – не тот возраст, чтоб идти и курить на ходу. И оспин не было! Это удивило меня больше всего, потому что все остальное так или иначе было ожидаемо, а вот отсутствие шрамов стало немного обескураживающим, ну вроде как солнце встало не желтое, а синее. Вообще я волновался настолько, что чуть автомат из рук не выронил. Нам сказали каблуками щелкать, когда руководство поравняется, а у меня дыханье сперло.
Узнал я еще нескольких человек – Берию, например, Жукова, Микояна, Маленкова, Молотова, Ворошилова. Наркомвнудел, кстати, являлся моим официальным начальником, ведь моя рота, пройдя через все инстанции и иерархию НКВД, в конечном итоге выполняла распоряжения Лаврентия Павловича. Берия был одет неофициально и довольно, на мой взгляд, легкомысленно – светлые брюки, зеленая безрукавка с расстегнутым воротом, пенсне. Каганович рослый такой мужик, красивый. Маленков в белом кителе и калифе, немного подшофе, вроде бы. Ворошилов был в белом генеральском мундире, лицо веселое, головой вертел.
Большая часть идущих шла слитно, одной толпой, человек шестьдесят. Только Сталин с Молотовым шли отдельно, как бы авангардом, генералы позади. А Жуков после всех, со всеми регалиями, с суровым лицом, как будто опять разрабатывал какой-то военный план.
Все мои сослуживцы и я, в том числе, вытянулись в струнку. Руководство прошли мимо. Проходя мимо нас, Сталин, который держал в одной руке головной убор, повернул к нам лицо и помахал свободной рукой. Я козырнул вождю привычным жестом и в эту минуту с огромной благодарностью вспомнил всю изводившую нас муштру. Не будь этих сотен часов на плацу, смог ли бы я достойно отдать честь генералиссимусу? Наверное, нет…
Удивило меня то, что наше правительство шло пешком, а не ехало на машинах, и почти без всякой охраны. Глядя на то, как чиновник или бизнесмен средней руки в нынешнее время окружает себя стеной охранников, я вспоминаю Сталина, идущего пешком…
Так прошло самое главное событие, произошедшее во время моего почетного караула.
Сослуживцы, которым не довелось увидеть живого Сталина, шутили над нами, призывая не мыть отныне лицо, раз на него Вождь смотрел. Вот, если бы Иосиф Виссарионович пожал мне руку, я бы точно ее с тех пор не мыл. Все-таки это событие стало для меня одним из самых памятных за всю жизнь.
Все остальное, что проходило в это время в Потсдаме и Нюрнберге, нам рассказывал знакомый лейтенант-связист – о том, как судили нацистов, какие вопросы задавали, какие приговоры вынесли. Главным свидетелем обвинения с нашей стороны Паулюс был, он через коридор от нашего караульного помещения жил. При нем всегда охрана – майор и капитан из МГБ.
На суде, как говорят, нацисты юлили изо всех сил, валили все грехи на Гитлера и Геббельса, Йодль с Кейтелем вообще обычными офицерами притворялись, мол, они всего лишь приказы выполняли. Помню, вся наша рота обрадовалась тому, что Риббентропа и ещё 12 человек приговорили к виселице, так как была вероятность того, что его одним из разжигателей войны не признают и оправдают.
А у нас его сильно не любили, а я особенно, видимо, из-за предательски нарушенного пакта.
Глава 2. Коммунист
Я прошел всю войну комсомольцем. В 1946 году я был избран делегатом Первой комсомольской конференции оккупационных войск в Лейпциге. Там выступал сам маршал Георгий Константинович Жуков. В жизни он был немногословен, а вот зажигательные речи говорить умел, ничего тут не скажешь.
Помню, выступил он тогда очень эмоционально, воодушевленно. Так мог говорить только убежденный человек. Жуков призывал нас, комсомольцев стать достойной сменой погибшему на фронте миллионной армии коммунистов.
«В 1917 году Запад вздрогнул. Призрак бродит по Европе, говорили буржуа, призрак коммунизма. А сейчас сам коммунизм в нашем лице находится в центре Европы, а не какой-то призрак!» Он не приказывал, а призывал нас вступить в коммунистическую партию Советского Союза и строить светлое будущее нашей общей родины, в которое мы верили. Сроки, он считал, для этого нужны довольно скромные, с нашими-то силами – каких-то пятнадцать лет.
Оглядываясь назад, я вспоминаю лица товарищей, которые слушали эту речь, внимая всем сердцем. Слова маршала находили отклик в каждом молодом сердце. А нас было много, мы были сильны, мы победили фашистов и думали о будущем.
Коммунизм пропагандировал светлые, самые гуманные идеи. Я думаю, что, если бы не Хрущев, мы бы и сейчас жили в Советском Союзе – величайшей стране, на которую сейчас нагромождено так много вранья, что слушать тошно.
Не так все было…
В 1946 году, подавая заявление в кандидаты в члены ВКП(Б), я верил в ее идеалы, как верю по сей день. Подал я заявление 1 ноября. В декабре меня по трем рекомендациям приняли в кандидаты. А потом было само принятие в члены партии.
Мы стояли в то время на охране Нюрнбергского процесса. Помню, было открытие какого-то памятника. Потом нас погрузили в небольшой автобус, французский, желтенький как цыпленок, и повезли к Бранденбургским воротам, находившимся тогда во французской зоне Берлина. Там прямо на улице стоял стол рядом с Красным знаменем. Стояли Жуков и Телегин, другие генералы. Перед ними шеренга бойцов и командиров, принимаемых в коммунисты.
Мы по очереди походили к ним, целовали, преклонив колено, Красное Знамя, потом Телегин вручал нам партбилеты, а Жуков жал руку. Рука у маршала была большой, крестьянская, рукопожатие крепким. Разве мог я когда-нибудь после этого предать партию, отказаться от идеалов коммунизма. Не имел права.
Коммунисты тех времен и горбачевских – совершенно разные люди. Во времена Горбачева идеи партии были переиначены. Исчезли цитаты Ленина. Коммунизм превратили в фарс. Разве это не подсудное дело?
Я же, дававший присягу Телегину и Жукову в захваченном Берлине, не могу предать партию и ее идеалы даже сегодня, когда мне уже восемьдесят семь лет. Я верю, что во второй половине двадцать первого века мир станет социалистическим. К этому все идет. Вы молодые, может, еще это и увидите…
Глава 3. Чекист
Еще три с половиной года после войны я оставался в Берлине, нес охрану, помогал наводить порядок. Но все когда-нибудь кончается, кончался и послевоенный бардак в армии. Вызвал меня как-то раз мой подполковник Жванецкий:
–– Василий, у тебя же никакой специальности! Как тебя оставить на службе прикажешь? Непорядок.
Призывников в то время массово демобилизовали, оставляли только кадровую часть.
Все-таки пожалел меня и определил в спецшколу МГБ. Так меня завербовали. Не скажу, что против воли. Мне хотелось служить во благо родины и после окончания войны. Домой пока возвращаться не думал. Послужу еще, полагал про себя.
Учился я хорошо, хотя по-русски писал неважно. Двухгодичные командирские курсы проходили две сотни курсантов, среди них из якутов я был один.
Помню, возили нас на практику в Татарстан. Практикантов было трое. Всем нам изменили имена, выдали документы. Там, говорили, до сих пор орудуют басмачи.
До отъезда мы три месяца учили татарский и башкирский языки. Овладеть ими в совершенстве было сложно, поэтому и история у нас была «оправдывающая» этот момент. Я говорил, что татарин по национальности, но воспитывался в детдоме в глубине России, потому свой родной язык знаю плохо. Из Татарстана мы писали письма своим «близким», сообщая свои наблюдения о настроении людей, о чем они говорят, как относятся к Советской власти.
Жили мы в разных аулах, работали в местных колхозах как полноценные обычные работники. Мне, деревенскому парню, было не привыкать к тяжелому труду. С лошадьми, упряжью управлялся хорошо. Зарплаты не было, работали за трудодни. Были мы, как будто бы студенты, проходящие практику в селе.
В этот период я хорошо узнал уклад жизни в Татарстане. Лошади у них были намного крупнее, чем наши сылгы. А сам быт не сильно походил на якутский. Ели они, как и мы, жеребятину, кроме нее еще баранину, говядину, а вот свинины не употребляли совсем. Понравилась мне татарская лепешка. Хоть я и большой патриот своей Якутии, но лепешки у них вкуснее, чем наши.
Вот сама служба в Татарстане мне не понравилась. Очень много приходилось трудиться физически, а еще и скрываться, притворяясь не собой, кроме этого нужно было постоянно и ухо держать востро, запоминать, передавать, сообщать…
По возвращении с практики меня отправили служить на пограничную заставу на советско-польской границе. Это было тоже в качестве практики. На границе служилось проще, чем в Татарстане. Трудно все-таки искать врагов в мирном населении. Гораздо проще, когда враг перед тобой на фронте, а не в тылу.
Глава 4. Врачебный вердикт
Мне почему-то на протяжении всей жизни не везло с врачами. Сначала не мог пройти комиссию, чтобы попасть на фронт, потом во время войны «воевал» с врачами в госпиталях, постоянно желавших меня демобилизовать по состоянию здоровья. Мне всю жизнь говорили, что у меня слабое здоровье, что я не выдержу испытаний, что я больше обуза. Вот уже мне восемьдесят семь лет, а врачей, сетовавших на мое здоровье уж и на свете нет…
По возвращении с границы я продолжил обучение в спецшколе, даже был избран старшим в своей группе. В 1948 году в апреле мы съездили в Лейпциг, побывали там в цирке, зоопарке, нас знакомили с местными нравами и обычаями. Обратно вернулись на поезде до железнодорожного вокзала.
От него до нашей заставы было полтора километра. Было необычно жарко для апреля. Стоял практически летний день. Указанное расстояние мы протопали пешком. Идти предстояло мимо бассейна, который обычно пустовал. А в тот день, оказалось, его наполнили водой из артезианского источника. Мы остановились, попили воды, умылись. Кто-то предложил искупаться. Мы и окунулись. Вода была холодной, что аж кости свело. Все-таки весна – не лето! Купание не пошло мне на пользу. Ночью я проснулся от того, что меня лихорадило. Все тело горело, ломило кости. Еще со времен Днепра у меня было воспаление легких, и с этими симптомами я был хорошо знаком.
Пошел в медпункт, сообщив дежурному. Там капитан со звучной фамилией Мировой измерил мне температуру. Сорок! Направили в санчасть. Госпиталь у нас с комендатурой и пограничниками был общий. Пролежал я там два дня с жаром, даже не помню, как меня лечили. Потом пошел на поправку, начал кашлять, отхаркивать, освобождая воспаленные легкие от накопившейся слизи…
Но тут меня и поджидало несчастье. Я привлек внимание врачебной комиссии. Начав копаться в моем здоровье, эскулапы обратили внимание на следующие факты: что один глаз у меня практически не видит, одно ухо плохо слышит, что я был дважды контужен, плохо функционирует рука, в которой застряли осколки немецкой гранаты.
–– Как вы такому товарищу оружие доверили? – вопрошали врачи, качая головами. Вышел я по-ихнему инвалид второй группы, негодный к службе! Четыре месяца мне оставалось до окончания спецкурсов! Всего четыре! Не знаю, как сложилась бы после этого моя судьба, но тогда мне было обидно быть списанным. Угораздило же меня искупаться в этом злополучном фонтане!
Глава 5. Коханая
Как узнал я о том, что меня демобилизуют, телеграфировал своей девушке, которой обзавелся во время военных действий в Украине. Звали ее Евдокия Харченко. В 1943 году наши части стояли на их хуторе в Запорожье. Она была на два года младше меня. Сошлись, в 1944 году Дуняша родила мне дочку.
Все время их помнил, после Потсдамской конференции нам дали десять дней отпуска. Успеть за это время съездить на родину я бы не смог, туда месяцы добираться. Поехал в Запорожье, к своей коханой. Провел семь дней с ней и дочкой.
Родители Дуняши хотели нас в тот раз обвенчать, но я уже был зачислен кандидатом в члены партии, потому отказался. Не стал старикам говорить прямо, чтобы не обидеть.
–– Успеем еще, когда демобилизуюсь, – ответил. Они не настаивали.
Пока шла врачебная комиссия, я успел отправить телеграмму Дуняше: «Меня демобилизуют. Срочно сообщи, поедете ли вы со мной в Якутию?» До этого мы уже разговаривали о планах на будущее, как все будет, когда война кончится.
–– Я бы не против, но меня родители не отпустят, – говорила Дуняша все время.
Ответа я на телеграмму не дождался. Потому как гордый был и упрашивать невесту не поехал. Раз не хочет коханая, кто же ее неволит? С тех пор и не видел я ни ее, ни дочки. Когда-то ездил в Киев наводил справки, но не нашел…
11 мая 1948 года я выехал из Берлина в свою Якутию.
Глава 6. Родина
После Берлина меня ждала Москва. Оттуда я поехал в Киров, потом Свердловск, затем Новосибирск, Красноярск и Иркутск. Эвон сколько одних пересадок тогда было! Из Иркутска по Ангаре доплыл до Саянского поселка. Всю Россию нашу матушку, считай, повидал по дороге домой.
Вернулся я в Якутию в самый разгар лета, вдохнул полной грудью родной воздух, аж голова закружилась. Как будто бы вся земля ждала моего возвращения.
Забылась обида на врачей…
В Якутске на улице Ворошилова (рядом с нынешним музеем имени Ярославского) жили знакомые вилюйчане. Рядом находился Дом участников войны. В доме участников войны таким солдатам как я предоставляли деревянные нары. На них куковал целых пятнадцать суток, ожидая парохода в Вилюйск.
Все-таки вернуться на родину после стольких лет было особым событием. Я скучал по своей Якутии и больше всего по матери. Для нее врачебный приговор стал, наверное, самым долгожданным событием. Ее Тонгсуо ехал домой!
Пароход до Вилюйска не доплыл, сел 3 июля в четырех километрах от пристани на мель. Помню всюду были пожары лесные, дым застилал родные просторы. Тем не менее воздух вилюйский показался мне самым сладостным… Так потянуло домой, что я готов был в воду прыгнуть и поплыть к матери! Уговорил я матросов довезти меня на берег на лодке. Взял свой вещевой мешок, небольшой чемодан с сувенирами и отчалил от парохода.
Идти предстояло через лес, а был уже вечер. Заплутал я в потемках, еле тропинку отыскал в глухом лесу. По ней на рассвете подошел к городу. Возле Вилюйска паслись коровы. Удивило меня то, что хоть войны здесь не было, животные бросились от меня прочь. Они явно боялись людей. Почему, интересно?
Я знал, что мама ждет меня у родственников в Вилюйске. Направился прямиком к ним. Я сильно устал, хотел спать, но последние метры преодолел едва ли не бегом.
Заглянув через калитку, увидел знакомую фигуру матери. Было ранее утро, солнце едва золотило крыши домов. Мама обтирала тряпкой берестяное ведро, вероятно, собираясь доить коров. Сердце мое сжалось. Я подергал калитку, она была заперта. Не в силах разбираться, где была щеколда, я просто перемахнул через забор. Молча подошел к матери, стоявшей ко мне спиной.
Она замерла… Увидела тень и прошептала не поворачиваясь ко мне:
–– О, о5ом барахсан…
Никогда я не плакал навзрыд, а тут слезы сами полились ручьем. Мать тоже рыдала, прильнув к моей исхудавшей груди. Время от времени она гладила мою голову, руки, словно не верила собственным глазам… Конечно, вид у меня после болезни и всяких огорчений был не очень представительный. Худющий, бледный… Я, наверное, был из категории тех, про кого говорят «ветром шатает».
Мать плакала, мешая слезы радости со слезами горя.
Вечером пришел Давыд, который был в эту пору на сенокосе в местности Кэбэкэй. Как же он, оказалось, постарел за эти годы! Стал еще меньше ростом, исхудал, сморщился, словно война высосала из него все жизненные силы. А ведь он еще не был стариком по возрасту. Прижал я его к своему сердцу, человека, которого когда-то так сильно не хотел видеть своим отцом…
Жить мы остались в Вилюйске, у наших родственников Габышевых.
Мама с первых дней начала меня выхаживать, поила сырой кровью, молоком. За все время войны моя трудолюбивая мама сохранила двух коров. Вот это был настоящий подвиг по тем временам! Все свои силы, внимание мать перебросила на то, чтобы поставить меня с их помощью на ноги. Я словно снова был для нее маленьким, беззащитным Тонгсуо…
Глава 7. Работник
Первое время на работу меня не брали. Отмахивались, тыкали на мою инвалидность. Не знаю, чтобы я делал, не вмешайся в мою судьбу инспектор социальной защиты Василий Кириллин и председатель колхоза Илья Миронов. Благодаря их чаяниям, мне оформили инвалидность второй группы и назначили пенсию в шестьсот рублей. Большие по тем временам были деньги.
Но сидеть на шее у государства мне не хотелось. Я был молод, энергичен, способен к труду. Отчего меня в старики записали? Через полгода начал я ходатайствовать, чтобы из второй группы меня перевели в третью. Безрассудство, считали многие, но я хотел работать, ведь силы есть, чего тунеядствовать?
Удалось мне добиться-таки перевода в третью группу. Стал я как бы трудоспособный инвалид. Начал искать работу и вскоре мне предложили заняться делом кинофикации своего района при райсовете, организовывать точки для кино в клубах. Я, было, согласился на радостях, что хоть к какому-то делу приставили, но пожилая женщина в райсовете отговорила меня от этой идеи:
–– Вася, деньги на строительство кинотеатра разворованы, двое уже сидят в тюрьме. Нечисто там. Пусть разберутся, а ты не берись за это дело, пока все не выяснят, не губи себя, – увещевала меня женщина. – Ты лучше обратись к секретарю райкома партии Михаилу Спиридоновичу Петрову. Земляк же твой.
Я послушался совета мудрой женщины. Михаила Спиридоновича я знал, доводилось с ним общаться и ранее. Когда я уходил на войну, он работал в ЗАГСе, во время войны, как мне рассказали, был начальником местной тюрьмы, потом возглавил милицию, после чего был избран третьим секретарем райкома партии… Пошел я к Михаилу Спиридоновичу. Он выслушал меня, велел подойти завтра. В девять утра я был как штык в его кабинете.
–– Ты у нас солдат, человек служивый, – сказал Михаил Спиридонович. – Иди в МВД, я с ними договорился.
Как на крыльях я летел домой в этот день. Служить в милиции было бы для меня самым подходящим делом, снова стать в строй, снова оружие. Но, оказалось, я рано радовался. Мне предложили должность начальника эксплуатационной части вилюйской тюрьмы. Как услышал я слово «тюрьма», сразу наотрез отказался.
–– Не хочу в тюрьме работать!
Все же переубедили меня. «Другой вакансии,» – сказали, – «Нет». Утешили, что название «официальное», что не придется иметь дело с заключенными и зарплату предложили немаленькую. Делать было нечего. Стал я работать в тюрьме.
Работа была очень трудной. У тюрьмы было свое подсобное хозяйство. Мы держали пять коров и двадцать лошадей. Тюрьма содержалась полностью на собственном обеспечении. Администрация сама кормила заключенных, сама искала фонды, чтобы обогревать бараки, инструменты для работы всякие тоже искали самостоятельно. В мои задачи входило обеспечить все тридцать шесть барачных печей дровами. Кроме них в тюрьме работали шестьдесят сотрудников, чьи семьи тоже нужно было снабжать дровами. Так с утра до ночи с этими дровами и возился. За два года устал так, как на фронте не приходилось.
Опостылели мне эти печи, и стал я подумывать о другой работе. Поехав в Якутск за обмундированием и кое-каким грузом, я сходил в министерство внутренних дел. Был там мелкий чиновник по кадрам, по фамилии Атласов. Обратился к нему. Так и так, мол, хочу уйти с работы. Рассказал ему вкратце о себе.
Атласов отвел меня к министру МВД ЯАССР, полковнику Подгаевскому. Это был большой видный мужчина, тоже, кстати, фронтовик, здоровый как медведь.
–– Вот, – доложил Атласов. – Хочет уйти из милиции. Отказывается работать. Даже личное дело привез.
Министр первым делом заметил мой гвардейский значок. Одобрительно хмыкнул:
–– Ты откуда, ветеран? – обратился ко мне, не обращая внимания на суетливую речь Атласова.
–– С Вилюйска, – ответил я.
–– Я его личное дело посмотрел. Он, оказывается, инвалид. Так чего же мы с ним возимся? Пусть уходит! – вмешался назойливый, как муха Атласов. Уж не знаю, чего он так взъелся на меня? Я ж его не об этом просил, чего шум поднимать?
Министр строго взглянул на подчиненного:
–– Капитан, уйдите! Я вас вызову, если понадобитесь…
Атласов вспыхнул и быстро покинул кабинет. Подгаевский вызвал секретаря и велел приготовить кофе. Кофе у него оказался хороший, заграничный, трофейный. За чашкой вкусного напитка мы разговорились о боевом прошлом. Оказалось, что он тоже воевал на Украине, командовал дивизией, но до Берлина не дошел из-за ранения. Потом его назначили начальником управления Якутзолота, затем избрали в обком партии, оттуда – пошел в министры.
–– Надо, видимо, должность какую-то для тебя выдумывать, – задумчиво сказал подполковник. – Такой фронтовик, как ты, этого заслуживает, не можем мы такими кадрами разбрасываться. А может, ты согласишься на переезд?
–– Никак нет, – ответил я по-военному. – Родители у меня старые, семья, недавно дом начал строить… А должности придумывать не надо. Могу я в лесники уйти, если вы поможете… Там работа спокойная, когда пожаров летом нет.
–– Ладно, тогда подумаю. Зайди ко мне после обеда. Что-нибудь придумаем. Только обязательно лично зайди, – сказал Подгаевский и вызвал дежурного. – Проконтролируйте товарища из Вилюйска, ему после обеда назначено у меня.
Вернулся я в гостиницу для командированных МВД. Находилась она на четвертом этаже недавно построенного здания ныне четвертого магазина. Посидел там с ребятами, в шахматы поиграл. Потом провиант сторожихе отнес: хлеб, колбасу, сыр, которыми должен был питаться во время командировки. Хожу так, а сам все время на часы поглядываю. Долго же тянулись минуты ожидания!
После обеда министр меня принял, как обещал. Он был в приподнятом настроении
–– Ну, Василий, – начал он, радостно улыбаясь мне. – Мы, фронтовики, должны помогать друг другу. – Я тебе уже и работу придумал! Зарплата 1500 рублей в месяц, дело будет полезное и для тебя, и для общества. Хочешь быть инструктором боевой и политической подготовки?
Такая должность мне подходила, как никакая другая. Конечно же, я согласился. Поскольку у меня не было образования, Подгаевский дал направление на курсы пропагандистов. Закончив их, я начал работать в новой должности, впервые, после войны, почувствовав, что занимаюсь тем, что мне нравится – общественной работой.
Глава 8. Муж
Спустя несколько месяцев после возвращения с фронта, я познакомился со своей будущей женой, Александрой Петровной Петровой. Случайно все получилось.
Собирая документы для оформления инвалидности, я зашел в райком Вилюйска. Дали мне какие-то бланки. Устроился заполнять их за свободным столом. Напротив сидела красивая девушка, секретарь-машинистка. Я сразу отметил, что девушка очень миловидна, и, видимо, скромна. Стараясь не подать виду, что она мне понравилась, я заполнил бумаги. Пока писал, украдкой посматривал на девушку. В какой-то момент, подняв глаза в очередной раз, наткнулся на ее взгляд. Он не был строг, не таил вызова. Просто девушка смотрела на меня, словно ожидая, когда я закончу писать. Глаза… Какие у нее были глаза!
Потом у товарища одного, тоже фронтовика, Феди Коркина, спросил, кто такая? Он улыбнулся хитро и давай подначивать:
–– Да, хорошая девушка тебе приглянулась. Только неприступная она, очень разборчивая, говорят, еще и капризная. Так что ты давай! Такие девушки – большая редкость.
Он говорил, а передо мной стоял ее образ: взгляд, бездонные глаза, улыбка… Потом я стал часто прохаживаться в тех местах, в надежде встретить предмет своего обожания. Искал ее на каких-нибудь мероприятиях. Вскоре мы познакомились и при встрече уже кивали друг другу, иногда даже немного разговаривали.
Близились майские праздники. Набравшись смелости, я однажды после танцев вызвался проводить Шуру до дома. Она согласилась, скромно потупив взор. Каково же было мое удивление, когда мы направились в сторону моей работы. Я тогда уже работал в тюрьме. На территории тюрьмы было, я знал, общежитие. К нему и повела меня девушка.
Оказалось, она была дочерью старшего надзирателя Петрова. Отца ее я знал, в общежитии раньше бывать доводилось, причем неоднократно. Почему тогда я раньше Шуру здесь не видел? Вспомнил я, как Шурин отец как-то выспрашивал у меня, почему это я не стою на посту, а хожу только с конвойной группой? Я ответил, что у меня инвалидность третьей группы. В общем, мы тогда друг другу особо не понравились. И дочерью этого человека была моя Шура! Мы расстались, девушка запорхнула домой, а я весь в раздумьях пошел к себе…
В один из майских выходных я сам не понял почему, но крепко выпил. Мои ноги привели меня к Шуриному общежитию. Зашел. В дверях Шурин отец стоит, поверх белой исподней рубахи и штанов накинул шинель. Курит. А рядом сосед, тоже знакомый. Я к соседу обратился, пытаясь не показать, что выпивший:
–– Здравствуй, а где Шура живет?
–– Товарищ начальник! Прошу обращаться, как положено, – громко и отчетливо выговаривая слова, сказал Шурин отец. Я обиделся.
–– Товарищ старший сержант, я не к вам пришел, а к Шуре, – ответил ему. Гляжу, Шура моя в комнате что-то делает. Я поднырнул под рукой Петрова и в комнату, к ней…
Что было дальше уж и не помню.
Проснулся я утром с головной болью, во рту сухо… Лежу в незнакомой комнате, на чужой кровати. Приподнялся, осмотрелся и охнул, вспомнив подробности: как пил с друзьями, как пьяным ломился к Шуре. Рядом со мной на другой кровати храпел Петров, тоже видимо, пьяный. Кто-то за перегородкой суетился, громыхал посудой, пахло жаренными пирожками. Светало.
Понял я, что у соседей Петровых сплю, Герасимовых. Они с Петровыми в одной большой комнате жили. Спали за перегородками, а кухня была общей. Нащупал я свой китель рядом, оделся. Вышел на кухню. Хотел уйти, пока хозяин не проснулся, но жена Герасимова меня остановила приглашением к столу:
–– Василий Давыдович, выпейте с нами чаю за компанию.
Я сел за стол. Рядом с чашкой чая выставили рюмку водки. Я опохмелился. Полегче стало. Съел пирожок, выпил чай.
Во время трапезы зашел мой знакомый фронтовик, Николай Петров. Удивился, увидев меня за столом Петровых да Герасимовых:
–– Не ожидал, Вася, тебя здесь встретить. Рассказывай, как живешь?
Я посетовал, что зарплату задерживают, потом о делах политических заговорили, на тюрьму переключились. Потом зашел какой-то старик. Оказалось, это был отец Николая, сына искал. Разговорились и с ним. Все это время я порывался уйти, пока Шура меня не видела. Как взгляну ей в глаза, после позорного визита? В какое положение я ее поставил перед семьей, отцом?
–– Я, пожалуй, пойду, – сказал хозяйке, поблагодарив за чай. – Праздник же сегодня.
–– А ты с нами за компанию отпразднуй. Вон мы сколько всего наготовили! Гостем будешь, – улыбнулась хозяйка. Отец и сын Петровы загомонили, появилась бутылка.
В это время вышла Шура из комнаты и, не глядя в мою сторону, пошла к умывальнику. Я сидел ни жив, ни мертв. Отец Шурин спал, а ее мать со мной не разговаривала, только поглядывала сердито.
Герасимовы усадили Шуру рядом со мной. Стульев не хватало, мы сидели на ящиках. Кусок в горло не шел у меня от этого соседства, хотя действительно Герасимовы наготовили много, и с любовью. Шура молчала, только ела, глядя строго вперед. Я боялся на нее посмотреть. Уф! Еле до конца застолья досидел.
Потом пошел на демонстрацию. Заглянул к своим на работу. Там уже вовсю готовились к параду 1 Мая. Чистили оружие, парадные костюмы. Меня тоже засунули в колонну, нести транспарант, но не с парадными сослуживцами. Я прошел с вольнонаемными сотрудниками администрации тюрьмы, не успел сходить переодеть парадный китель вместо того, в котором ночевал у Шуры. Потом пошел домой…
На другой день мне предстояло дежурить в подразделении на охране ворот. Тут меня Шура пригласила к себе на обед. Я пошел, уже и не знаю почему. Отца дома не было. Мать снова сердито косилась и ничего не говорила, только гремела сердито посудой. Шура молча налила чай, потом села рядом и спросила:
–– Объясни мне, что ты делал? Чего такой смурной ходишь?
–– К тебе приходил, – отвечаю. – Ты прости, я виноват. Выпивший был. Больше так делать не буду.
Гляжу, она улыбается. Я тогда осмелел:
–– Давай завтра в кино сходим…
Она снова глазами в пол, а сама покраснела, улыбается.
На другой день я на Давыдовой лошади заехал за Шурой и повез ее в клуб. Вечером снова проводил, уже пешком. С тех пор мы часто встречались то в клубе, то в гостях друг у друга. Много девушек вокруг меня было, после войны деревни на парней и мужиков оскудели, а я только о ней думал, к ней ходил.
На новый год свадьбу сыграли. Вернее, просто помолвку. Свадьбы пышные, шумные – считались пережитком старой жизни. Собрали родственников, чай попили.
Шурина мать меня невзлюбила. Все время называла никчемным инвалидом, доходягой. Только я не всегда такой болезненный был. В 1953 году мне дали путевку на два месяца в Сочи. Там, в спецсанатории КГБ, моим здоровьем занялись вплотную. Приехал я из Сочи веселый да румяный. Шесть кило прибавил, выправился, мускулами оброс. С тех пор меня инвалидом никто не звал.
Жить мы стали у Шуры. Ее родители в соседнюю комнату перебрались, а я к себе мать и Давыда забрал. Сделал перегородку. За одной стеной мы с Шурой жили, за другой отец с матерью, тесть с тещей еще за стенкой… По тем временам это было нормально. Но все равно было тесно. Потому к маю я задумался о собственном доме, чтобы не мучиться так и родственников не мучить.


