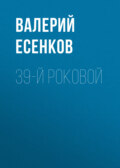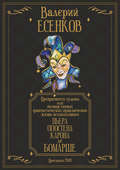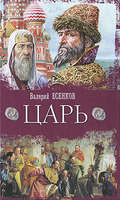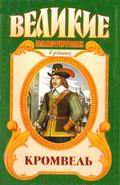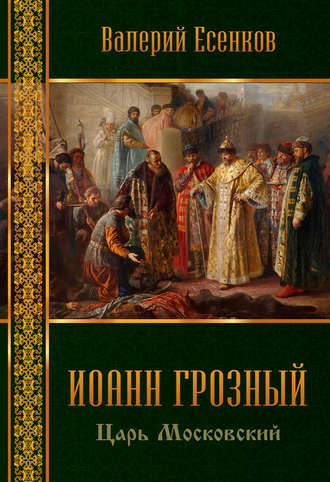
Валерий Есенков
Иоанн царь московский Грозный
Естественно, Андрей Иванович, второго мая 1537 года, поспешно выезжает из Старицы, причем выезжает неизвестно куда, ещё ничего не решив, явно начало войны со стороны московских властей его застало врасплох. Тотчас один из его ближних бояр, князь Голубой-Ростовский, тайно доносит в Волок Ламский конюшему, что удельный князь пустился в бега. Конюший Иван Федорович спешно направляет Никиту Хромого в Великий Новгород, где старицкие князья имеют большое влияние среди бояр и посадских людей, чтобы предотвратить выступление новгородских полков, а сам пытается отрезать удельному князю путь на Литву.
Удельный князь Андрей Иванович сзывает подручных служилых людей. Его гонцы развозят грамоты по окрестным поместьям и вотчинам. В грамотах, в частности, говорится:
«Князь великий молод, держат государство бояре, и вам у кого служить? Я же вас рад жаловать…»
Таким образом, удельный князь Андрей Иванович, скорее под давлением обстоятельств, чем по собственной воле, заявляет свои права на верховную власть. В течение нескольких дней к нему стекаются те, кто недоволен капризным боярским правлением. Под его знаменами собирается довольно внушительный полк. Он сворачивает на Старую Руссу, чтобы укрыться в Великом Новгороде, дружественном ему, откуда во главе новгородских полков двинуться на Москву.
Это мятеж. С этого дня у конюшего Ивана Федоровича развязаны руки. Возле Тюхоли он настигает удельного князя. Оба полка встраиваются для битвы, распускают знамена, обнажают мечи. То ли день был майский, веселый и ясный, то ли оба предводителя не годились в герои, только ни один из них не дает последний, призывный сигнал. Кто-то предлагает переговоры, московская летопись утверждает, что это слабодушный Старицкий князь, более вероятно, что эта мысль принадлежит Ивану Федоровичу, не способному на дерзость самостоятельного решения. Он клянется, что и он сам, и правительница Елена Васильевна, и боярская Дума сохранят невольному мятежнику жизнь, если он все-таки изволит явиться в Москву, как его об этом трижды просили.
Удельный князь Андрей Иванович безропотно складывает оружие и с верой в законность и справедливость действительно прибывает в Москву. В Москве два дня гадают, как с ним поступить. Лишь на третий день, нарушив данную клятву, его заточают в темницу. Впоследствии подручные князья и бояре свалят это преступление на правительницу Елену Васильевну, когда её не будет в живых. Однако вероятность её участия в злодеянии довольно мала. Она не отличается жестокостью, тем более кровожадностью. Жесткость и кровожадность, как уже разразилось над удельным князем Юрием Ивановичем и над князем Михаилом Львовичем, по части подручных князей и бояр. Им мало ухлопать одного претендента. В тот же день берут под стражу его верных бояр. Их зверски пытают, и многие из них умирают под пыткой, хотя непонятно, какие признания хотят кнутом и дыбой и каленым железом вырвать из них. Тех, кто выдержал зверские пытки, обрекают на позорную торговую казнь, то есть публично истязают кнутом. Три десятка новгородских служилых людей, приставших к Старицкому удельному князю, вешают на равном расстоянии под дороги из Москвы к Великому Новгороду. Удельный князь Андрей Иванович, родной дядя малолетнего Иоанна, умирает в темнице полгода спустя.
Кажется, беззаконным правителям нечего теперь опасаться. Они могут безмятежно судить, рядить, приговаривать и самим исполнять свои приговоры, никого и ничего не страшась. И в самом деле, несколько месяцев пробегает спокойно. Вдруг правительница Елена Васильевна умирает, третьего апреля 1538 года, очень ещё молодой. По оцепеневшей Москве расползается слух, что ненавистники её отравили, что подтвердится вскрытием уже в наше время. Герберштейн в своих записках почитает эти слухи правдивыми, стало быть, имеет на то веские основания, поскольку его записки являются отчетом шпиона. На страшную мысль наводит и то, что при дворе творится что-то неладное. В кремлевских палатах в один час разрушается заведенный порядок. В доме покойник, но уже ничего не остается от элементарной благопристойности. Во вдовьих палатах внезапно появляется до той поры искусно пропадавший Тучков, один из бывших опекунов, и в безумии злобы кричит, изливая яд ехидны на имя покойницы, как впоследствии выразится с присущим ему даром слова памятливый царь и великий князь Иоанн, то есть, другими словами, ведет себя непристойно и гнусно. Да и прочие князья и бояре не выказывают подобающего уваженья покойнице. С подозрительной поспешностью организуется ей погребение: вдовствующая великая княгиня испускает дух во втором часу дня, а к вечеру её грешное тело уже хоронят в Вознесенском монастыре, и ни в одной летописи не находится записи, чтобы митрополит Даниил сопроводил молитвой её грешную душу.
Посреди сумятицы и бесчестья один Иоанн растерян, разбит и скорбит. Ему восемь лет. Он кое-что уже понимает. Он чувствует, что теперь он совершенно один, что в этих оскверненных палатах никто не станет его защищать. Он оглядывается вокруг и видит бесчувственные или жестокие лица. Только конюший Иван Федорович истинно потрясен: с кончиной Елены Васильевны он может и должен разом всё потерять. И оставшийся круглым сиротой Иоанн с рыданиями бросается на грудь человека, который устранил одного за другим его двоюродного деда, его дядю Юрия и его дядю Андрея. Он инстинктивно прижимается к тому, кто в этой толпе предателей и врагов ещё нуждается в нем.
Глава седьмая
Анархия
Не один восьмилетний беспомощный отрок предчувствует, что наступают грозные времена. Москвичи обмирают на несколько дней, напуганные не столько происшедшим событием, сколько ожиданием непременно жестокого будущего, и глухо, с оглядкой, при закрытых дверях, как повелось на Русской земле, шепчутся между собой, кому нынче достанется верховная власть при всё ещё малом, стало быть, слабым, ни к какому управлению ещё не способным ребенке, а значит, кого ожидают опалы и казни, на кого посыплются благословенные милости, и все сходятся в том, что верховную власть приберет к рукам тот, кто посодействовал преждевременной кончине вдовствующей великой княгини, поскольку мало кто сомневается, что её кончина была неестественной, и во всех этих шепотах, осторожных прикидках, ещё более осторожных умолчаниях и оглядках по сторонам не слышится одного: тревоги за судьбу Московского великого княжества.
Глупее всех в эти ответственные, напряженные дни ведет себя именно тот, кому пока что принадлежит хотя бы видимость власти. Вместо того, чтобы действовать решительно, смело, не теряя минуты выследить своих возможных противников и тотчас их устранить, для чего пришлось бы подвергнуть опале десяток-другой замешанных в преступных интригах подручных князей и бояр, разослав их по глухим крепостям или отдаленным монастырским подвалам, вполне достаточная мера для их усмирения, поскольку разрозненные, оторванные от родственных связей они слишком слабы, слишком ничтожны, чтобы даже помыслить о новых интригах, Овчина-Телепнев-Оболенский, отравленный мелким тщеславием, твердо уверенный в беспрекословной поддержке своих многочисленных подхалимов, занят единственно тем, что обхаживает и ублажает восьмилетнего великого князя, только что потерявшего мать, рассчитывая снискать расположение, если не любовь несчастного отрока, рыдавшего у него на груди, и таким неутомительным способом укрепить свое несуществующее могущество, заполучить уже совсем бесконтрольную, единодержавную власть, не умея понять, что слабы отрок ничего не может дать никому, даже если бы этого захотел, другими словами, Овчина-Телепнев-Оболенский бессмысленно теряет бесценное время, что лишний раз свидетельствует о том, до какой степени он недостоин того высокого положения, которого достиг не талантами, не государственным складом ума, не по праву истинного властителя, а на фу-фу, при помощи пошлой любовной интрижки.
Зато бесценного времени не теряет один из самых опасных его недоброжелателей и завистников, опасный особенно тем, что это тайный недоброжелатель, тайный завистник, человек пусть тоже небольшого ума, тоже лишенный таланта правителя и государственного взгляда на верховную власть, однако хитрейший, коварнейший и озлобленный интриган, безжалостный и жестокий, когда-то перевешавший, на виду осаждавших литовцев, всех смоленских служилых людей, заподозренных в сношеньях с врагом.
Все эти тревожные, темные годы князь Василий Васильевич Шуйский спокойно восседает на одном из первых мест в заседаниях Думы и не подает признаков жизни, точно его не сместили, не обошли, не нанесли ему тяжкого оскорбления, и тешится разве что тем, что на время походов берет к себе вознесшегося не по заслугам конюшего всего лишь воеводой передового полка, но все эти годы, изо дня в день, он помнит о том, что именно он, потомок суздальских великих князей, первый среди советников покойного великого князя Василия Ивановича, истинная душа силой разогнанного совета опекунов, имеет куда более неоспоримое право на верховную власть, чем этот малоспособный, глупо-тщеславный бабник и выскочка Овчина-Телепнев-Оболенский, ставший конюшим после ночи любви.
Все эти годы он терпеливо, затаив ненависть, ждет часа расплаты, как его ждут все подручные князья и бояре. Он мгновенно соображает, какие возможности предоставляет ему внезапная кончина правительницы Елены Васильевны. Прирожденный интриган, подобно всему роду Шуйских, человек закулисных, искусно продуманных махинаций, пролаза и клеветник, князь Василий Васильевич в эти притаенные дни неопределенности и ожиданий снует взад и вперед, нашептывает и уговаривает, склоняет на свою сторону, запугивает и обещает, пока подавляющее большинство думных бояр, которых нетрудно купить, не оказывается на его стороне.
Всего-навсего протекает шесть дней, и уже на седьмой князь Василий Васильевич внезапно выходит из той густой тени, которая целых пять лет надежно укрывала его от опалы и казни. Действуя единственно своим весомым княжеским словом, а не словом великого князя, сразу таким образом присваивая себе всю полноту государственной власти, он повелевает взять под стражу ненавистного временщика Овчину-Телепнева-Оболенского и его сестру, Аграфену, мамку восьмилетнего Иоанна. Без следствия, без суда, по злодейскому обыкновению ещё не забытых удельных времен, недавнего правителя заточают в темницу, в ту самую, в которой полтора года назад томился князь Михаил Львович, двоюродный дед Иоанна, «тяжесть на него, по сообщению летописца, – железа тут же положиша, что на нем Глинском была», там злосчастный конюший вскоре погибает от голода, как перед тем его собственным злодейством погибли от голода князь Михаил Львович, князь Юрий Иванович и князь Андрей Иванович, ближайшие родственники малолетнего Иоанна. Его сестру Аграфену отправляют в Каргополь и насильственно постригают в монахини.
Всего только эти две, но долгожданные, жертвы и понадобились новому мятежу. Никто из многочисленных подхалимов свергнутого конюшего не вступается за него. Одни без промедления становятся подхалимами князя Василия Шуйского, другие трусливо молчат, как тут же продается и усердно молчит вся боярская Дума, а следом за ней молчит Москва, молчит Московское великое княжество, не без тайного ропота, но покорно принявшие новую власть одного из подручных князей.
Может быть, именно это молчание делает осторожного из осторожных, интригана из интриганов неосмотрительным и неосторожным. В боярской Думе уже много лет сидит и тоже угрюмо молчит князь Дмитрий Бельский, единственный из подручных князей и бояр, Гедиминович, который знатнее князя Василия Шуйского родом, что по обычаю местничества важнее всего, естественно, много важнее понятий чести, тем более достоинств ума. Будь князь Василий Васильевич прирожденным властителем, человеком государственного разворота и государственного ума, это пустейшее обстоятельство не смутило бы его ни на грош: сидит и молчит, так и впредь станет сидеть и молчать, а коли что, так в железы его, подземных казематов предовольно в православных монастырях, нечего им пустовать, приблизительно так подумал бы он, да и дел с концом.
Однако, себе на беду, князь Василий Васильевич принадлежит к разряду самой недалекой, самой недальновидной посредственности, способной только сидеть и молчать да интриговать и хитрить втихомолку. Он сам отравлен идеей местничества до мозга костей, этой пошлой идеей первенства рода перед умом и талантом живет с малолетства, только в этой идее видит свое собственное полновесное право на власть, он суздальский, а не какой-то московский, которому грош цена, а потому старшинство князя Дмитрия Бельского не представляется ему серьезной опасностью для его внезапно пробудившихся притязаний.
Надеясь задобрить, обезопасить, ещё лучше переманить на свою сторону знатнейшего из думных бояр, с решающим голосом в Думе, он выпускает из темницы его брата Ивана Федоровича, а вместе с ним и своего, родного, одного из многочисленных Шуйских, Андрея Михайловича, причем Иван Федорович возвращается на свое законное место в боярскую Думу, тогда как Андрея Михайловича втихомолку протаскивают в бояре, затем протаскивают в бояре и его брата Ивана Михайловича, что, без сомнения, придает дому Шуйских устойчивость на ближайшее время.
Правда, ограниченный ум князя Василия Васильевича нисколько не проникает в последствия своей остроумной интриги, не подозревает о том, что он сам выпускает на волю и вводит в боярскую Думу своего злейшего ненавистника, которого, что ещё прибавляет роду Шуйских хлопот, тайно поддерживает лукавый, с какой-то болезненной страстью наклонный к предательству митрополит Даниил. Он уже занят другими интригами. В сущности, он чувствует себя неуверенно в роли властителя, его положение всё ещё представляется ему недостаточно прочным, поскольку он имеет право на верховную власть только в составе совета опекунов, благословленным великим князем Василием Ивановичем, а вне совета опекунов, который он и не думает восстанавливать, сам по себе он всего лишь захватчик власти, не более, то есть временщик того же калибра, как и убиенный им Овчина-Телепнев-Оболенский.
Он жаждет заложить в фундамент своего внезапного возвышения ещё один камень, краеугольный на этот раз, как мерещится в его недалеком уме, занятого единственно счетом мест со своими бесчисленными противниками. Будучи вдовцом, перешагнувши пятидесятилетний рубеж, князь Василий Васильевич берет в жены Анастасию, двоюродную сестру восьмилетнего Иоанна. Благодаря этому вовсе не странному браку он становится ближайшим родственником великого князя, стало быть, может претендовать на первенство и в споре с Бельским, Гедиминовичем, не упоминая о прочих, менее родовитых князьях и боярах из каких-нибудь ярославских, ростовских или Курбских князей. Кроме того, что ещё приятней и полезней ему, он рассчитывает этим умело обстряпанным браком снискать благоволение высокородного отрока и тем окончательно закрепить свое право на верховную власть.
Может быть, ему удалось бы завоевать расположение осиротевшего., трагически одинокого Иоанна, действуй он сдержанно, неподдельным вниманием, искренней лаской, в которых подросток нуждается прежде всего. Однако князь Василий Васильевич прямолинеен и груб, как прямолинеен и груб чуть ли не каждый из витязей удельных времен, которые только в силу необходимости признают себя подручниками московского великого князя. Он убежден, что отныне ему позволено всё, коль втеснился в столь близкое родство с Иоанном, и, долго не мешкая, он поселяется на подворье Старицких удельных князей, расположенных в стенах Кремля, близь подворья самого великого князя, что позднее Иоанн назовет самовольством.
Наконец, именно самовольством, единственно при помощи хитроумных интриг, в руках князя Василия Шуйского сосредоточивается вся возможная полнота государственной власти. Он торжествует, он получает возможность распоряжаться этой властью по своему усмотрению, заранее уверенный в том, что нигде и ни в ком не встретит сопротивления, но даже намека на самый легкий протест, а коль встретит, упаси Бог, так мигом любому и каждому шею свернет.
И тогда здесь, на самой вершине, с ним приключается то, что в подобных обстоятельствах непременно приключается с недальновидной посредственностью: князь Василий Васильевич ведать не ведает, на что именно употребить свою почти безграничную власть. Нелепость, однако этот беззаконный, непризванный человек, достигший всевластия плутовством и интригой, в силу своей мелкой, паразитической, не способной к созиданью натуры оказывается абсолютно бесплодным. Проходит месяц, проползает другой, проскальзывает между пальцев полгода, а князь Василий Васильевич, единолично владеющий государственной властью, не совершает решительно ничего, им не предпринимается никаких государственных дел, точно у него под рукой не одна из наиболее благоустроенных, сильнейших европейских держав, а заглазная вотчина, в которой только и остается, что благодушествовать, жирно есть, вволю пить да сладко почивать на пуховых перинах. Что он замышляет? Какого знака небесного ждет? Ничего он не замышляет, никакого знака не ждет. Обыкновеннейший паразит, крайне опасный для тех, кто пытается хотя бы безразличнейшей мелочи, хотя бы на ломаный грош ущемить его громадную, абсолютно бесполезную власть.
Но именно бессмысленная, бесполезная власть, попадающая в руки государственных паразитов, более всего соблазняет, притягивает всякого рода честолюбцев и ненавистников на эту особенно лакомую власть посягнуть, отобрать её, присвоить себе, чтобы сибаритствовать, красть и давить всех и каждого, кто возропщет против неё. Именно такого честолюбца и ненавистника князь Василий Васильевич, перехитривший себя самого, освобождает из темницы и возвращает в боярскую Думу. Князь Иван Бельский, потомок рязанских великих князей, тоже родственник московского великого князя, озлобленный неправдой, раздраженный беззаконной опалой, готовый отомстить всем на свете, лишь бы усладить мщением, едва отдышавшись, едва попривыкнув к свободе после темницы и постоянного голода, едва оглядевшись вокруг, начинает потихоньку обзаводиться сторонниками. Кроме родни, эти само собой, на его сторону переходят митрополит Даниил, Михаил Тучков и дьяк Федор Мишурин, оба из членов разогнанного совета опекунов.
Опираясь на столь шаткую, но всё же поддержку людей влиятельных и тоже сильных родством, князь Иван Федорович пробует, пользуясь именно правом родства, приблизиться к великому князю в обход князя Шуйского. Он смиренно молит восьмилетнего отрока пожаловать чин боярина князю Юрию Михайловичу Голицыну-Патрикееву да чин окольничего Ивану Ивановичу Хабарову-Симскому, своим верным сторонникам, желая подчеркнуть этой рядовым, обыденным челобитьем, что власть-то принадлежит не князю Шуйскому, но Иоанну, что единственно словом великого князя должно решаться всё, что и есть на Русской земле.
Кажется, столь малое, сугубо келейное дело стоит всего лишь росчерка пера и большой печати московского великого князя, что оно никому не может принести никакого вреда, тем более не может представлять угрозы владычеству Шуйского, однако это не так. Владычеству князя Василия Шуйского наносится хотя и слабый, почти неприметный, тем не менее ощутимый ущерб. Чтобы власть его была полной, он обеспечивает себе одному не столько почетное, сколько прибыльное право сноситься с великим князем, так что все назначения и возвышения ведутся только через него, и эти назначения и возвышения, пожалуй, единственная забота, на которую он способен направить свою непомерную власть. Таким образом, любая попытка снестись с великим князем помимо него представляется ему прямым посягательством на его власть, на его достоинство, на его честь, чуть не на самую жизнь. К тому же становится очевидным, что князь Иван Федорович не так безобиден, полгода свободы, дарованной непродуманной милостью Шуйского, он успевает использовать с толком и уже добивается какого-то соглашения с митрополитом, с дворецким Михаилом Тучковым и ещё кое с кем из влиятельных, родовитых бояр, естественно, недовольных бесчинным всевластием Шуйского, впрочем, они всегда никем и ничем не довольны, поскольку не способны ужиться ни с кем.
Зачуяв зреющий заговор, князь Василий Васильевич без промедления бросается в наступление, однако делает это так, как только и способна делать всякое дело посредственность, то есть учиняет публичный скандал. Он бранится и брызжет слюной, он корит Ивана Бельского неблагодарностью, обвиняет в гнусных кознях против него, своего благодетеля. Князь Иван Федорович отвечает своему благодетелю тем же, то есть тоже бранится, брызжет слюной и обвиняет Шуйского не в одном самовластии, но и в тиранстве, на которое, по правде сказать, у князя Василия Васильевича способностей нет.
Другими словами, заваривается обыкновеннейшая боярская свара, которая начинается поношением прямо в глаза, непременно в присутствии бесконечно довольных, злорадно-молчаливых бояр, а кончается чаще всего клочьями вырванной бороды. Однако на этот раз обыкновеннейшая боярская свара оканчивается ещё и тем, что князь Василий Васильевич, своим именем, не считая нужным ставить в известность великого князя, заточает князя Ивана Федоровича в ту же темницу, из которой только что по глупости выпустил, его неосторожных приверженцев рассылает по наследственным вотчинам, а дьяка Мишурина казнит смертной казнью, едва ли сам понимая за что. Только до митрополита Даниила распалившийся князь не успевает добраться: достигнув вершины мыслимого могущества, покуражившись напоследок, наслушавшись лести, сорвав сердце в ненужной борьбе, он умирает, причем умирает, по всей вероятности, естественной смертью, может быть, именно оттого, что слишком пылко упивается копеечной местью, вот лишь бы себя показать и на своем настоять.
Злодейства довершает князь Иван Васильевич, его младший брат, человек ещё более жестокий, бездарный и жадный. Своей волей низлагает он Даниила и объявляет публично, будто митрополит «учал ко всем людем быти немилосерд и жесток, уморял у себя в тюрьмах и окованных своих людей до смерти, да и сребролюбие было великое». Низложенного первосвятителя простым иноком отправляют в Иосифов Волоколамский монастырь и там нагло вымогают собственноручное отречение. Струсил ли бывший митрополит Даниил, или в самом деле «уморял у себя в тюрьмах и окованных своих людей до смерти», только он соглашается написать, что утомился своими обязанностями и прямо-таки жаждет в тиши уединения молиться о благе великого князя и государства: «Рассмотрих разумения своя к таковому делу и мысль свою погрешительну и недостаточно себя разумех в такых святительских начинаниях, отрехося митрополии и всего архиерейского действа отступих…»
Шесть послушных епископов заранее доставляют в Москву. Сии составляют сильно укороченный освященный собор и неделю спустя после низложения Даниила нарекают московским митрополитом Иоасафа Скрипицына, нестяжателя, человека просвещенного, прямодушного и порядочного, заботам которого умирающий великий князь Василий Иванович шесть лет назад поручил своего несмышленого сына. Иоасаф поселяется на митрополичьем подворье в Кремле и объявляет, что во всем последует и станет согласовывать свои действия с константинопольским всесвятейшим вселенским патриархом, то есть заявляет желание укрепить слабеющие связи между московским и греческим православием, однако от каких-либо действий князь Иван Шуйский его отстраняет, так что Иоасафу остаются одни заботы о подрастающем Иоанне.
Тем временем князь Иван Шуйский щедро платит своим приверженцам раздачами и пожалованиями, назначениями на важные, в особенности на доходные должности, вроде сытных кормлений, и очень скоро во всех посадах и волостях прочно сидят его усердные прихлебатели, ничтожные в делах управления, зато богатыри в делах лихоимства и воровства. Сам князь Иван Васильевич, коварный и бессовестный лицемер, всюду появляется в ветхой шубенке, выставляя на вид свое бескорыстие, а тишком раскрадывает стремительно скудеющую казну великого князя, из покраденного золота повелевает начеканить драгоценных сосудов, причем его указанием на каждом из них вырезают имена его предков, единственно ради создания видимости, будто это наследственное его достояние, а заодно пристегивает к своим вотчинам многие деревни и земли, тоже принадлежащие великому князю.
Его лизоблюды не только не отстают от своего широко зашагавшего благодетеля, но превосходят его, пользуясь на своих на своих новых местах, как удаленностью от Москвы, так и полной своей безнаказанностью. Повсюду в Московском великом княжестве становится правилом наглое, бесстыдное, откровенное утеснение посадских людей, землепашцев, звероловов и рыбарей беззаконным данями, измышленными поборами и обложениями, вымогательство даров от богатых и безденежной работы от бедных. Повсюду поощряются доносчики и доносы, в судах возобновляются давно покрытые пылью дела и злостно заводятся новые, единственно ради взимания пошлин и взяток суду. В Пскове, где усердствуют Андрей Шуйский и Василий Репнин-Оболенский, жители пригородов стараются как можно реже наведываться в посад, именуя его вертепом разбойников, а самые несмиренные, бойкие сбегают с родной стороны, пользуясь близостью литовской украйны, так что пустеют псковские торжища и даже монастыри. Повсюду расхватываются черносошные, то есть казенные земли и закрепляются в вотчинную или поместную собственность. Понемногу принимаются и за дворцовые земли, личное достояние великого князя, нанося ощутимый ущерб не одному благосостоянию, но и чести его. Кормление своим расхищением земства умножается вдвое, а в иных посадах и втрое и вчетверо. Мздоимство растет, как грибы. За щедрое подношение выдаются тарханные грамоты, которые освобождают владельца от всех повинностей, даней и пошлин, сперва выдаются лично князем Иваном Васильевичем и его прихлебателями, а затем кем попало, в том числе казначеями и дворецкими, которые ведают посады и волости, и не в последнюю очередь, вопреки убеждениям нестяжателя Иоасафа, такие грамоты преобильно выдаются монастырям, и монастыри, быстрехонько разобравшись в разыгравшемся разграблении Русской земли, устремляются прибирать земли и рыбные ловли, принадлежащие черносошным землепашцам, звероловам и рыбарям, разрастаясь в богатейшие вотчины с такими доходами, какие получает не каждый боярин и князь.
Таким образом, разорение землепашцев, звероловов и рыбарей, которые по-прежнему в своем большинстве сохраняют свободу, как и разорение посадских людей, которые первыми попадают под тяжелую руку наместника и волостеля, достигает той предельной черты, когда им нечем становится жить. Каждому из них приходится выбирать: либо пуститься в бега, либо искать защиты у богатых и сильных, способных, коль что, задать перцу бедным и слабым. Вот почему не может быть ничего удивительного в том, что именно с этого безобразного, беззаконного времени всё чаще снимаются с насиженных мест и посадские люди, и землепашцы, и звероловы, и рыбари и скрываются в нехоженых дебрях, благо Русская земля велика и обильна и в большей своей части ещё не принадлежит никому.
Натурально, в бега, как водится, пускаются самые энергичные, предприимчивые, подвижные, сильные, способные в любом месте одним топором свалить лес, расчистить участок в две, а то и в три десятины под пашню, поставить избу, пристроить загон для скота и зажить как ни в чем не бывало, на полной волюшке, так любой русскому человеку, не видя больше в глаза ни господина, ни сборщика, не платя ни полушки в сундук удельного и даже великого князя. Те, кто поспокойней, слабей, обременен семьей или не надеется на себя, перебираются с черных земель и поместий мелких служилых людей в богатые вотчины князей и бояр, которые волшебной силой жалованных грамот освобождены от даней и пошлин, а вооруженными слугами защищены от поборов наместников и волостелей, арендуют пашни и ловища боярина или князя за четверть, треть или половину дохода и тоже приобретают пусть поскудней, но всё же возможность прокормить себя, жену и детей. Зато пустеют пашни и ловища великого князя и служилых людей, всё меньше доходов получает казна, всё слабей становится дворянское ополчение, защита и опора Московского великого княжества, иной защиты и опоры пока что у него не предвидится.
Кажется, уже ничто не может сравниться с этими дошедшими до крайней черты обезумевшими внутренними врагами, однако по всем украйнам полным полно врагов внешних, а эти только и ждут, когда откроется на их счастье благая возможность безнаказанно грабить и жечь и прибирать к рукам Оставленную без защиты Русскую землю. Крымский хан шлет московскому великому князю поносные грамоты, презрительно именует его младшим братом, требует подарков и даней, какие давались в прежние, давно прошедшие, почти забытые времена, и если не гонит своих диких орд на Москву, то лишь потому, что его хищные руки крепко связаны внутренними раздорами. Зато казанские татары наводняют волости Нижнего Новгорода, Кинешмы, Галича, Костромы, Тотьмы, Устюга, Вологды, Вятки, Перми и уже не оставляют надолго пылающей кострами Русской земли, поскольку князь Шуйский, самозваный правитель, не решается скликнуть служилых людей и бросить полки на разгулявшихся дикарей. Тут горят русские села, тут потоками льется русская кровь. Летописец свидетельствует с суровой выразительностью мудреца и печальника:
«Батый протек молнией русскую землю, казанцы же не выходили из её пределов и лили кровь христиан как воду. Беззащитные укрывались в лесах и в пещерах, места бывших селений заросли диким кустарником. Обратив монастыри в пепел, неверные жили и спали в церквах, пили из святых сосудов, обдирали иконы для украшения жен своих усерязями и монистами, сыпали горящие уголья в сапоги инокам и заставляли плясать, оскверняли юных монахинь, кого не брали в полон, тому выкалывали глаза, обрезывали уши, нос, отсекли руки, ноги и – что всего ужаснее – многих приводили в веру свою, а сии несчастные сами гнали христиан как лютые враги их. Пишу не по слуху, но виденное мною и чего никогда забыть не могу…»
Неурядицы и разорения, рожденные мятежом, рождают новые мятежи. Уже тлетворный дух мятежа и смутьянства проникает не только в душные палаты подручных князей и бояр, но и в тихие прежде монастырские кельи. На этот раз зачинщиком, даже главой мятежа становится новый митрополит Иоасаф, по недомыслию или ошибке возведенный на место первоблюстителя князем Иваном Васильевичем. Честный пастырь всё ещё помнит наложенное на него священное поручение, данное великим князе Василием Ивановичем на смертном одре, к тому же долгое игуменство в Троицком Сергиевом монастыре само по себе является свидетельством и надежной гарантией порядочности служителя церкви, а нетленный дух святого Сергия, дух Нила Сорского, живущий в просветленной, едва ли не детской душе, поставляет за долг вмешаться в земные дела и положить предел бесчинствам и безобразиям, творимыми на Русской земле всеми и каждым из тех, кто не умеет жить без узды. Но как вмешаться, что именно положит предел, кто накинет узду?