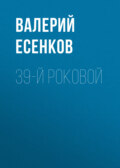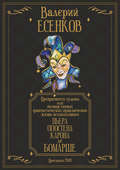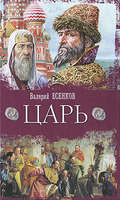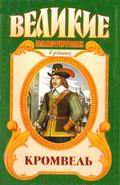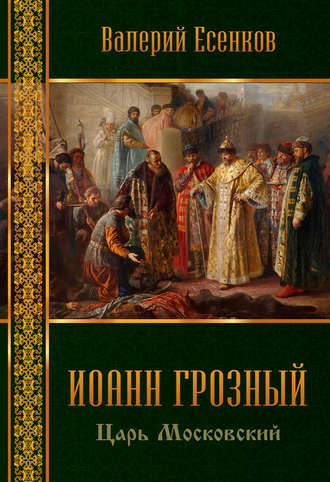
Валерий Есенков
Иоанн царь московский Грозный
Жизнь в Москве как будто шевелится заведенным порядком. В феврале, год спустя после венчания, как и было задумано, под поручительство виднейших князей и бояр, получает свободу и все права состояния Михаил Глинский, предполагаемая опора великой княгини Елены Васильевны. И вдруг великий князь Василий Иванович совершает невероятный, необъяснимый, хотя внешне самый обыкновенный поступок:
«Того же лета поставил князь великий церковь камену с пределы на своем дворе во имя преображения господа бога и спаса нашего Иисуса Христа и другую церковь поставил камену же у Фроловских ворот святого мученика Георгия…»
На первый раз ничего особенного, из ряда вон выходящего не происходит. Великий князь Василий Иванович, человек истинно верующий, благочестивый, уже возвел своими пожертвованиями немало церквей и теперь прибавляет к ним ещё две, одну в пределах Кремля, другую у Фроловских, впоследствии Спасских ворот. Однако почему же этот последний небольшой каменный храм об одной тонкой изящной главе посвящается именно святому мученику Георгию? Разве он успевает забыть, что не умолкает молва о его законном сыне Георгии, будто бы рожденном инокиней Софьей, да ещё как раз год назад? Разве сам он не посылал доверенных лиц для того, чтобы освидетельствовать опальную Соломониду и установить, была ли она «с коробом», как говорят, могла ли разрешиться от бремени сыном? Разве не отправлял её в заглазный монастырь, в богом спасаемый Суздаль? Не может не помнить. Тогда ради чего он этим храмом у Фроловских ворот словно бы нарочно поддерживает, утверждает молву? Признает ли он этим каменным храмом рождение сына? Ставит ли его во искупленье греха?
Этот всегда осторожный, благоразумный политик не способен поступить необдуманно. Едва ли в его намеренье входит каким-нибудь образом задеть, оскорбить великую княгиню Елену Васильевну, для которой храм во имя святого мученика Георгия должен служить каким-то тайным намеком. По всему видать, что в новом супружестве он счастлив безмерно, о чем можно заключить хотя бы и по тому, что он почти не расстается с юной супругой, а когда нужда все-таки заставляет расстаться, дня почти не проходит, чтобы стареющий муж, правитель, занятой человек, не писал бы ей таких нежных, таких чувствительных писем, которые представляются абсолютно невозможными в обиходе тогдашней московской семьи.
Такие отношения чересчур необычны, чересчур противоречат старинным обычаям, и потому нетрудно представить себе, что любое происшествие в этой семье, как только оно выплывает наружу, вызывает толки и смуту в гораздых на догадки русских умах. Разумеется, как и во всякой семье, далеко не всё выплывает наружу, тем более не всё сквозь преступления и туманы столетий доходят до нас, однако бывают такие обстоятельства в отношениях между супругами, которые при всем желании не представляется никакой возможности скрыть.
Прежде всего эта истина относится к детям, а именно детей великая княгиня Елена Васильевна не приносит супругу, детей, которых он с таким нетерпением ждет, детей, ради которых взял на душу тяжкий грех расторжения брака с порожней Соломонидой, детей, которые одни могут оправдать в его глазах и в глазах многих подручных князей и бояр и этот противный христианской морали развод, и этот новый, такой непривычный, такой подозрительный брак.
Тогда для чего же этим каменным храмом во имя святого мученика Георгия он напоминает всем и каждому о том таинственном сыне, которого ему с неистребимым упорством приписывает немилостивая молва? Желает ли он искупить беспокоящий грех расторжения брака с супругой, которая оказалась брюхатой? Искупает ли он грех перед маленьким сыном, которого в душе признает, однако уже не имеет права признать? Или, чего нельзя исключить в его безвыходном положении, наедине сам с собой он подумывает о том, чтобы признать этого неизвестно откуда прибывшего сына в том случае, если неплодной окажется и великая княгиня Елена Васильевна?
О чем-то он размышляет, ведь идет второй год его второго супружества, а Елена Васильевна всё ещё остается без «короба». Конечно, надежда на «короб» ещё не потеряна. По меркам времени он давно считается стариком, тогда как великая княгиня Елена Васильевна слишком юна, ей, возможно, тринадцать или четырнадцать лет, ему необходимо приладиться к ней, ей необходимо накопить животворящую женскую силу, созреть. Какое-то время у них ещё есть, но это время стремительно убывает, ещё год, ещё два – и придется объявлять о наследнике, кого же он объявит тогда, чье имя он назовет?
Верно заметил папа Клемент: Сигизмунд, литовский великий князь и польский король, не имеет наследника и по этой причине Литву и Польшу в скором времени ожидает распад и кровавая смута, они сами себя воюют, по выражению папы, так что не надо сторонним оружием воевать. Та же немилосердная участь ожидает и Московское великое княжество, пока у великого князя не появится прямого наследника, а тут ещё как на грех что ни год его воюют оружием.
Крымский хан Сайдет-Гирей присылает послов, послы нагло требуют даней, великий князь Василий Иванович никаких даней не желает давать, полагая резонно, что время татарских даней давно миновалось, предпочитает отделаться от разбойников кое-какими подарками, тогда как Литва ежегодно отправляет за Перекопь не менее семи с половиной тысяч дукатов да ещё на семь с половиной тысяч прибавляет товаров. Пока в Москве неприятные переговоры искусно затягиваются, царевич Ислам-Гирей своей голодной конной ордой угрожает открытым настежь южным украйнам. Всё лето 1527 года полки стоят на оке, готовясь отразить нападение, великий князь Василий Иванович переносит ставку в Коломну, чтобы лично руководить военными действиями, об этих приготовлениях царевичу доносят лазутчики, и коварный Ислам-Гирей затаивается где-то в бескрайних заокских степях, однако, как только поздней осенью, так и не дождавшись врага, дворянское ополчение расходится по городам и селениям, татары появляются под Рязанью, грабят и жгут рязанские села и нацеливаются устремить опустошительный набег на Коломну и на Москву.
По счастливой случайности полки князя Одоевского и князя Мстиславского не успевают отойти от Угры. При первом известии о вероломном наскоке татар они успевают встать у них на пути. Неожиданность их появления перед врагом, уверенном в полнейшей своей безнаказанности, приносит им полную и стремительную победу. Понеся большие потери убитыми и полоненными, Ислам-Гирей заворачивает потрепанную орду к Перекопи, полагаясь лишь на быстроту и выносливость татарских диких коней.
Слепой гнев помрачает великого князя. Василий Иванович повелевает утопить ханских послов, лишь немного спустя, успокоившись, он извещает Сайдет-Гирея, что его послы-де были растерзаны возмущенной толпой. В виде протеста Сайдет-Гирей повелевает ограбить московских послов, что за Перекопью приключается чуть ли не с каждым московским посольством, и как ни в чем не бывало продолжает требовать увеличенных даней, равных тем, какие даются слабодушной Литвой.
Дань означает признание верховной власти крымских татар над Русской землей, и великий князь Василий Иванович ни под каким видом не может согласиться на них, из чего следует, что оголодавшие, озлобленные татары, не имеющие доходов, кроме разбоя по всему югу Русской равнины, снова придут, и если они нагрянут в те несчастные дни, когда Московское великое княжество закружит кровавая смута, только что упрочившее свою независимость Московское великое княжество вновь разлетится на мелкие части, которые тотчас растащат в разные стороны и Литва, и Польша, и Крым, и Казань. А он уже чует первые признаки смуты. Ему доносят верные люди, что удельный князь Юрий, нелюбимый, может быть, ненавидимый брат, переманивает в свои и без того значительные полки служилых людей, что князь Федор Мстиславский, всего год назад из Литвы перебежавший на московскую службу, только что так славно отбивший крымских татар, лелеет намеренье, недовольный малыми вотчинами, пожалованными ему, обратным ходом перебраться в Литву, натурально, уведя за собой целый полк служилых людей, что ненадежны и другие князья, которым мнится заоблачное счастье за уж очень близким от Москвы рубежом.
Конечно, брата Юрия можно заставить ещё раз целовать крест на том, что перестанет переманивать служилых людей в свой удел, можно отобрать крестоцеловальную запись от князя Мстиславского и от всех тех, кто уличен или заподозрен в измене, и найти за них десятка два или три поручителей, которые ответят имуществом и головой, если сохранить верность не поможет ни целованье креста, клятва, по видимости, святая, да великий князь Василий Иванович знает отлично, как слабо удерживает эта величайшая клятва его подручных князей и бояр от новых измен.
Ему наследники, дети нужны. Не вызывает сомнения также и то, что великая княгиня Елена Васильевна едва ли не больше, чем он, понимает, что наследники, дети нужны позарез, и когда без зачатия пролетает и год и другой, она принимает свои, самые, впрочем, обыкновенные, самые употребительные меры против бесплодия: она обращается к Богу, отправляется на богомолье по святым местам, то в Переславль, то в Ростов Великий, то в Ярославль, то в неблизкую Вологду, то ещё на более далекой Белое озеро, пешком, как простая мужичка, посещает святые обители, отправляется едва приметными тропами в затаенные пустыни, раздает щедрую милостыню, многие ночи и многие дни проводит в слезах и молитвах, прося у милосердного Бога благодатной тягости в своих юных, но жаждущих чреслах.
Немудрено, что близкие и всякого рода сердобольные люди от души сочувствуют великой княгине и великому князю, опытные политики прикидывают в уме, кто сможет занять искусительное место очевидно стареющего великого князя, но неосторожно оброненные искры мятежа всё явственней затлевают во враждебных умах, и злые языки уже внятно шепчут о том, что сбывается, сбывается предсказание насильственной инокини Софьи, что всесправедливый Господь лютой карой карает ослушников и никогда не благословит нечестивого брака детьми.
Наконец, приблизительно три года спустя с того греховного дня, как была пострижена Соломонида, после стольких тревог и молений, у счастливой Елены Васильевны зарождается плод. Однако это вполне естественное событие в семействе молодой, созревшей, сформировавшейся женщины и мужчины, едва достигшего пятидесяти лет, только подливает масла в прежний, тлеющий пока что тихо огонь. Злые языки всё настойчивей распространяют нехорошую клевету, будто виновник зачатия вовсе не сам нечестивый, а потому бесплодный Василий, а молодой князь Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский, несомненный полюбовник великой княгини Елены Васильевны.
Самый год, когда великая княгиня Елена Васильевна ходит брюхата, выдается тревожным, тяжелым. Князь Иван Палецкий доносит из Нижнего Новгорода, что в замиренной было Казани подрастающий Сафа-Гирей, по обычаю басурманскому, нарушает данные клятвы и подбивает казанский народ восстать на Москву. Приходится скликать полки и вновь отправлять под Казань, чтобы предотвратить возмущение и, следовательно, неминуемое, ожесточенное разорение восточных украйн. Вниз по матушке Волге спускается так называемая судовая рать, предводимая Иваном Бельским, сушей идет конное дворянское ополчение во главе с Михаилом Глинским, с ним князь Михаил Васильевич Горбатый-Кислый, Кубенский, Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский и менее известные из подручных князей и бояр, расставленные по местам исходя исключительно из знатности рода.
На этот раз Сафа-Гирей намеревается нанести московитам серьезное поражение. Его умышлением предместье Казани укрепляется острогом, окапывается глубокими рвами, не одолимыми для конных полков. Всё Арское поле перегораживается от Булака до речки Казанки новой стеной. Для пополнения своих войск он призывает луговых черемис, воинов жестоких и стойких, от его тестя другого Мамая приходят ногаи, свирепые и воинственные, однако нестойкие в затянувшейся битве, склонные при первом же сильном натиске бежать с поля боя во всю прыть своих легконогих коней. Он не собирается отсиживаться в глухой обороне. Навстречу дворянскому ополчению он отправляет конных татар и ногаев, в надежде остановить московитов и затем разгромить их по частям.
Михаил Глинский всё же подходит к стенам Казани, правда, с боями, отразив несколько нападений, внезапных, но скоротечных. Сверху подплывает Иван Бельский с караваном тяжело груженых ладей. С ладей выгружают пищали и пушки. Казалось бы, воеводам остается только расставить их по местам и приступить к правильной осаде хорошо укрепленной, но одиноко поставленной крепости. Так и поступают в нормально организованных армиях, тогда как в московском стане заваривается обыкновенная свара между князьями по родословиям и чинам, Иван Бельский и Михаил Глинский не могут договориться, кто из них первый, кому командовать, кому подчиняться и что следует предпринять, а пока дерзко настроенные татары совершают внезапные вылазки и бесцельное стояние под Казанью ограничивается вполне безвредными стычками.
Убедившись, что московиты ничем не угрожают Казани, татары позволяют себе тревожить их только днем, а ночами беспечно спят, даже не выставив необходимых в таких обстоятельствах караулов. Нет ничего проще захватить их врасплох, тем не менее воеводы и тут продолжают топтаться на том же месте запутанных родословий и ещё более запутанных чинов до седьмого колена. Тогда несколько десятков молодых воинов на свой страх и риск подползают неприметно к стене, смолой и серой обмазывают её низ и вдруг поджигают. В татарском остроге вскипает ошалелая суматоха, когда все куда-то бегут и никто не знает куда бежит и зачем. Она достигает и до московского стана. Московские воины, внезапно выскочив из глубокого, привольного, беспечного сна, конные и пешие, кто в доспехах, кто в исподнем белье, бросаются сквозь дым и пламя на приступ, выбивают обомлевших татар из острога, опустошают предместье, сами обезумевшие и полусонные бьют и режут таких же обезумевших, полусонных татар. Сафа-Гирей, видимо, тоже обезумевший от внезапности нападения, выводит из крепости нестройные толпы татар и ногаев и устремляется с ними куда глядят его перепуганные глаза. Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский гонится за ним со своим легким конным полком, но, верно, не прытко, поскольку Сафа-Гирей успевает укрыться в Арском лесу. Татары растеряны до того, что ворота Казани в течение трех часов остаются открытыми. Московские воеводы могут за крепостные стены вступить беспрепятственно и навсегда покончить с осточертевшей Казанью. Они и тут умудряются упустить драгоценное время. Иван Бельский и Михаил Глинский никак не могут установить, кто из них имеет бесспорное право вступить первым в Казань и кому, стало быть, достанутся приятные лавры столь важной, столь долгожданной победы.
Тем временем на растерянную, мятущуюся Казань наползает черная туча, сверкают молнии, гремят громы небесные, хлещет дождь редкой силы, и без того потерявшие рассудок от ночного переполоха пушкари и посошные разбегаются, бросив на произвол судьбы вверенные им пищали и пушки. Татары, напротив, приходят в себя и замыкают ворота. Внезапно из пелены сплошных потоков дождя на поле несостоявшейся битвы появляются черемисы, в короткой схватке вырезают всех, кто попадается под руку, в том числе князя Дорогобужского, князя Оболенского-Лопату и ещё несколько воевод более мелкого ранга, захватывают обоз с запасом продовольствия, ядер и пороха и увозят семьдесят пушек, так что московиты в прямом смысле слова остаются ни с чем.
Всё же казнь просит мира, клянясь хранить прежнюю верность Москве и принимать своего правителя только по воле московского великого князя. Иван Бельский тотчас начинает отход. Москва вновь встречает этого странного полководца угрюмой молвой, будто изворотливые казанцы купили у него легкий мир серебром. Великий князь Василий Иванович с грозным лицом приговаривает его к смертной казни, даже не подумав о правильном розыске. Ивана Бельского оковывают в железы и заточают в темницу. И вновь митрополит Даниил, тоже не утруждаясь правильным розыском, печалуется, просит о милости. Напоминая благочестивому великому князю, что Иван Бельский его племянник со стороны матери. И вновь великий князь Василий Иванович освобождает Ивана Бельского от наказания, в данном случае едва ли заслуженного, натурально не подозревая о том, что оставляет жизнь зачинщику мятежа.
Да и самое появление на свет божий царственного младенца сопровождается мрачным знамением: двадцать пятого августа 1530 года, в семь часов пополуночи, посреди ясного неба сверкают молнии, гремит неистовый гром и какое-то время его раскаты в необъяснимой ярости следуют один за другим, в ту же минуту, как, впрочем, впоследствии утверждают, у великой княгини Елены Васильевны рождается сын.
Спустя десять дней после самого радостного свершения в его многотрудном правлении великий князь Василий Иванович отвозит младенца в Троицкий Сергиев монастырь. Обряд крещения совершают игумен Иоасаф Скрипицын, столетний инок Кассиан Босой и святой Даниил Переславский. В честь славного деда наследник престола нарекается Иоанном. Обливаясь сладкими слезами счастья, умиления и трепетной благодарности Господу, умягченный добрым сердцем отец принимает из рук святителей своего долгожданного первенца, опускает его на раку святого подвижника Сергия, основателя единственной в своем роде обители, и молит угодника, чтобы наставил невинное, пока что абсолютно беззащитное дитятко и взял под защиту в неминуемых треволнениях и опасностях жизни.
Счастье великого князя не имеет границ. Он сыплет золото в казны монастырские, преобильно отпускает на бедных, повелевает растворить вес темницы, снимает опалы с многих подручных князей и бояр, провинившихся перед ним, в том числе с Мстиславского, Щенятева, Суздальского-Горбатого, Плещеева, Мороза, Лятцкого и многих других, прежде подозреваемых в том, чтобы были недоброжелательны к великой княгине Елене Васильевне, поручает соорудить богатые арки для мощей святых митрополитов Петра и Алексия, для одного золоту, для другого серебряную, наконец дозволяет меньшому брату Андрею жениться и дает ему в жены княжну Ефросинью Хованскую, которая в положенный срок приносит Андрею сына Владимира, стало быть, двоюродного брату младенцу великого князя, ещё одного претендента на великокняжеский стол.
Рождение Иоанна не только награждает исключительным счастьем отца. В его лице Русская земля получает прямого наследника, то есть получает гарантию мира, единения и независимости Московского великого княжества, добытые многими трудами и многой кровью нескольких поколений русских людей. Следом за этим поистине благоприятным приобретением выясняется, и это особенно важно здесь подчеркнуть, что династическая идея, то есть идея прямого наследования государственной власти от отца непременно к старшему сыну, понемногу овладевает умами и насчитывает довольно многих приверженцев среди верных патриархальным устоям руководящего сословия московского общества. Подворье великого князя наполняется усердными поздравителями, причем почитают своим долгом явиться не одни официальные лица, которым по своему положению при дворе положено по малейшему поводу, хотя бы притворно, лебезить, умиляться и поздравлять великого князя со всем, с чем только можно поздравить. С утра до вечера толкутся посадские люди Москвы и многих других городов, испытывая единственное желание взглянуть на счастливого государя и лично заверить его, что и города и села и веси счастливы вместе с ним и желают многая лета и ему самому и его долгожданному сыну. Младенца своим попечением не оставляет и церковь. Пустынники, святые отшельники из отдаленных углов Московского великого княжества являются в стольный град, чтобы благословить царственное дитя в его пеленах. Во всех этих бесчисленных поздравлениях и пожеланиях слышится явственный голос всей русской земли: она возлагает на царственного младенца большие надежды, с его именем, с предстоящей жизнью его она связывает благоденствие, процветание, мир, ненарушимость своих рубежей, то есть всё то, чего от правителя ждет испокон веку земля.
Всенародный праздник точно удваивает силы великого князя. Великая княгиня Елена Васильевна вновь понесла. Вскоре ещё один сын озаряет счастьем преклонные лета отца. То ли во искупленье греха, то ли бросая дерзкий вызов судьбе, его называют Георгием-Юрием, как и того, что приписывает инокине Софье злая молва, верно, в надежде с корнем вырвать самую память о нем. Приблизительно в те же дни в Суздале появляются доверенные люди великого князя и его именем требуют, чтобы инокиня Софья выдала им своего пока что никем не виданного Георгия-Юрия, если он, вопреки всякому вероятию, все-таки существует. Вместо сына инокиня Софья будто бы предъявляет небольшое надгробие, красиво украшенное резьбой, но без имени, без даты рождения и даты кончины. Надгробие вскрывают, тогда же или немного поздней, но в погребении обнаруживают лишь рубашечку мальчика трех-пяти лет и тряпье. Неизвестно. Продолжает ли инокиня Софья морочить голову бывшему мужу, или этим ложным погребением оберегает действительно существующего ребенка, известно только, что на этот раз великий князь Василий Иванович обрушивает на нечестивицу свой праведный гнев, о чем сокрушенно скорбит летописец:
«Князь великий Василий московский… остриг её в мнишество не хотящу и не мыслящу еи о том, и заточил в далечайш монастырь, от Москвы более двухсот миль, в земли Каргапольскии лежащь, и затворити казал ребро свое в темницу, зело нужную и уныния исполненную, сиречь жену, ему богом данную, святую и неповинную…»
Но и эта попытка заткнуть рот стоустой молве оказывается напрасной. С рождением второго сына в семью великого князя приходит несчастье: если первый сын, Иоанн, растет здоровым и крепким, то Георгий-Юрий оказывается болезненным, слабым и к тому же глухонемым, а так как в те времена таких детей не умеют учить разговаривать жестами, он представляется окружающим дурачком.
Стоустая молва возрождается, едва этот слух о несчастье в семье великого князя расползается по Москве. Припоминается, что в Калитином семени не случалось такого рода болезней, что и все Глинские тоже здоровы как на подбор, тогда как среди Оболенских немало всякого рода уродов, чему свидетельством множество выразительных прозвищ: Немой, Лопата, Глупый, Медведица, Телепень, Сухорукий. Других доказательств злокозненным людям не нужно: Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский является отцом и второго сына великой княгини Елены Васильевны. Правда, и сам Иван Федорович и его отец Федор вполне здоровые, нормальные люди, он это обстоятельство уже не способно никого вразумить, клеймо выжжено на всю остатнюю жизнь: незаконные дети, и одного этого нарочито поставленного, однако бессмысленного клейма будет довольно, чтобы вспыхнул мятеж.
И всё сходится так, что ждать остается недолго.