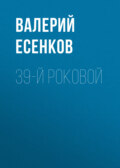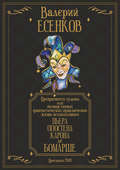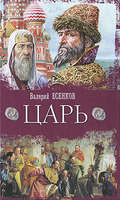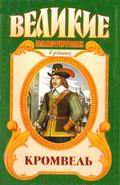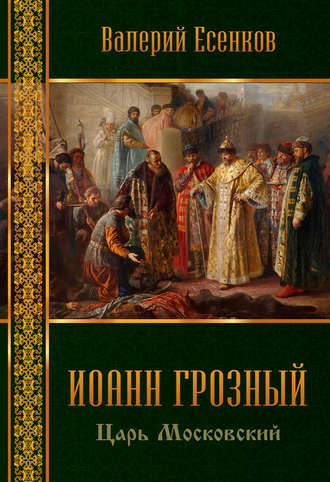
Валерий Есенков
Иоанн царь московский Грозный
Глава десятая
Венчание на царство
Его переломные годы, от тринадцати до шестнадцати лет, проходят внешне малоприметно, внутренне довольно спокойно, в постах и молитвах, в обдуманном чтении полюбившихся книг, в тихих многозначительных беседах с митрополитом Макарием, в одиноких, нередко трагических размышлениях. И книги, и беседы с митрополитом Макарием, который всё тверже, всё обдуманней поддерживает его, особенно одинокие размышления убеждают юного великого князя, что он никому не подвластен, в своих поступках и действиях он обязан отчетом единственно Богу, самому праведному и самому грозному судие. При этом, благодаря рассудительным разъяснениям митрополита, он уже знает, что дать отчет этому праведному, но грозному судие придется за каждый сой шаг.
С тем большим усердием, с трепетной жаждой очистить душу от невольных, в особенности от вольных грехов спешит он на богомолье во святые обители, с тем большим наслаждением испытывает на себе суровую строгость древних монастырских уставов, с тем большей придирчивостью следит за неукоснительным исполнением этих уставов со стороны своих приближенных, и горе тому из развинченных, непокорных, циничных его царедворцев, кто хоть в какой-нибудь малости решится в его присутствии нарушить уставной порядок обители. Он вспоминает многие годы спустя, как пятнадцатилетним юнцом посещает Троицкий Сергиев монастырь, с какой неуклонностью следовали тогда троицкие монахи установлениям великих святителей и как гнусно вел себя в тихой обители беспутный князь Иван Кубенской:
«А до этого времени, – сообщает он в укор белозерским монахам, – в Троице были крепкие порядки; мы сами это видели; когда мы приезжали к ним, они потчевали множество людей, а сами блюли благочестие. Однажды мы в этом убедились собственными глазами во время нашего приезда. Дворецким тогда у нас был князь Иван Кубенской. Когда мы приехали, благовестили ко всенощной; у нас же кончилась еда, взятая в дорогу. Он и захотел поесть и попить – из жажды, а не для удовольствия. А старец Симон Шубин и другие, которые были с ним, не из самых главных (главные давно разошлись по кельям), сказали ему как бы шутя: «Поздно, князь Иван, уже благовестят». Сел он за еду, – с одного конца ест, а они с другого конца отсылают. Захотел он попить, хватился хлебнуть, а там уже ни капельки не осталось: всё отнесено в погреб. Такие были крепкие порядки в Троице, – прибавляет он одобрительно, – и ведь для мирянина, не только для чернецов!..»
Ему давно мерзит этот князь Кубенской, убийца, один из главнейших соратников и сподручников мятежного князя Андрея Михайловича, предводитель мятежников, посягнувших на митрополита Иоасафа, тем более ему мерзит кощунственное непотребство столь нечистоплотного человека в Троицкой трапезной, и он, воротясь с богомолья в Москву, тотчас накладывает на беспутного князя опалу и для проясненья рассудка отправляет под стражу в один из переславских монастырей.
На этот раз он без сторонних указаний и навязчивых просьб проявляет свою государеву волю, наказывает ослушника и преступника, обнаглевшего единственно оттого, что ослабела над им государева, высшая власть. Кажется, в этом деле он может быть чист перед Богом, но даже и в этом случае бесспорной вины и оправданной казни опалой проявляется одна поразительная закономерность: как бы ни был виновен тот, кто подвергся опале и казни, великий князь Иоанн всегда помнит о христианском прощении, о своей обязанности не только казнить, но и миловать, Не проходит и пяти месяцев, а князь Иван Кубенской возвращен и по-прежнему как ни в чем не бывало исправляет должность дворецкого, несмотря на то, что Иоанну противно даже видеть его.
Подручные князья и бояре вскоре улавливают, как взрослеет, меняется великий князь Иоанн, как тяжелее и тверже становится рука государя и утихают, раболепно склоняются перед ним, всем своим видом показывая покорность, отдавая должную честь. Один Афанасий Бутурлин забывается, позволяет себе поносные слова в присутствии Иоанна, и ему, по не вполне проверенным данным, отрезают язык. После такого жестокого, однако вполне своевременного примера подручные князья и бояре и вовсе смолкают, тем не менее после десяти лет такого милого, такого сладкого, такого безбрежного своеволия имя трудно принять его власть, какой бы она ни была, жестокой или гуманной, ведь рыцарям удельных времен никакая власть не нужна. Очень скоро между ними сплетается заговор, причем во главе заговора неожиданно становится когда-то ими избитый, чуть не убитый Федор Воронцов, бывший любимец великого князя, вызволенный из Костромы тотчас после казни князя Андрея Михайловича. Летопись объясняет, что именно толкает Федора Воронцова на участие в заговоре. Воротившись из заточения, пользуясь близостью к великому князю, он сам пытается занять первое место, освобожденное чересчур занесшимся Шуйским. Цель у него, естественно, низменная, как и у Шуйских, как и у Бельских, поскольку все они слишком мелкие, малодостойные люди: он стремится распределять все пожалования по своему усмотрению, не доложив, не спросясь, однако ж именем Иоанна. Ему невдомек, что Иоанн успел измениться и что на ту же роль претендуют его дядья Глинские, главные участники в свержении князя Андрея Михайловича, его супротивника. Встретив противодействие с их стороны, Федор Воронцов не находит ничего лучшего, как сговориться со своими врагами, отпетыми мятежниками, запятнанными пролитой кровью, повинными в грабежах и насилиях. Неизвестно, начинают ли заговорщики действовать, раскрывают ли заговор Глинские, стоящие на страже своих собственных, тоже далеко не возвышенных интересов, поступает ли на заговорщиков тайный донос, только князя Ивана Кубенского, князя Петра Шуйского, князя Александра Горбатого, князя Дмитрия Палецкого и с ними Федора Воронцова постигает опала. И вновь та же закономерность, идущая от доброго сердца великого князя: всего два месяца спустя Иоанн, для отца своего митрополита Макария, как он выражается, столько же искренне, сколько подчиняясь обычаю, снимает опалу, и бывшие заговорщики возвращаются к своим прежним обязанностям и прежним умыслам против великого князя.
Понятно, что Иоанн наблюдает за подручными князьями и боярами всё с большим и давно обостренным вниманием. Безрадостны его наблюдения. На подручных князей и бояр ни в чем нельзя положиться, и самое унизительное, самое вредное, самое непоправимое заключается в том, что на них нельзя положиться даже в войне. По зимнему времени татары Имин-Гирея, сына крымского хана, проходят по окрестностям Одоева и Белева. Дело как будто привычное, чуть не каждый год ходят, если не летней порой, так с первым зимним морозом. На южных украйнах по этой причине всегда должны быть наготове полки. Полки стоят и на этот раз, только с места не двигаются, позволяют татарве беспрепятственно грабить и убивать. Видите ли, князья Щенятев, Шкурлятев и Воротынский рассорились из-за мест и не пошли против татар. Татары погуляли в свою полную волю и увели громадный полон, вскоре проданный ими на восточные рынки. Почти та же история приключается под Казанью. На этот раз по весне, как только вскрываются реки, три отряда отправляются стоять против казанских татар: князь Семен Пунков с князьями Иваном Шереметевым и Давыдом Палецким спускаются по Волге в ладьях, князь Василий Серебряный-Оболенский двигается от Вятки, воевода Львов держит путь от Перми. Серебряный-Оболенский с Пунковым сходятся под Казанью в один день и час, товарища, как было назначено, ждать не возжелали, своими полками нападают на казанские пригороды, побивают кое-сколько не успевших скрыться татар, пораженных страхом внезапности, отчего-то с остервенением жгут местные кабаки, затем пожигают и побивают всех, кого встретили на Свияге, беззаботно поворачивают восвояси домой и свои незначительные, в основном грабительские успехи расписывают такими сильными красками, что получают от юного великого князя, не равнодушного, как оказалось к воинским доблестям, пришедшего в неподдельный, прямо-таки детский восторг, всё, о чем ни били челом, а тем временем от Перми подходят воины Львова, не встречают московских полков, которые были обязаны их дожидаться, и вместо дружеских объятий натыкаются на разъяренных татар. Стоит ли сомневаться, каков итог безалаберности и своеволия. Это плачевный итог: растерянные воины Львова окружены и наголову разбиты, и сам воевода сражен в этой короткой, но яростной сече.
Иоанн хорошо и прочно запоминает эту историю, однако никого не наказывает, хотя следовало бы наказать тех, кто подвел целый полк под мечи, под смерть и позор, не наказывает из свойственного ему милосердия и, может быть, ещё потому, что устроенный в казанских пригородах переполох неожиданно идет на пользу Москве. Сафа-Гирей обвиняет в измене своих подручных ханов и мурз и принимается их истреблять, нисколько не думая о справедливости и гуманизме. Те, кому удается спастись от резни, присылают в Москву, просят двинуть полки и посадить им царем Шиг-Алея, в обмен на это благодеяние московского великого князя они обещают выдать ему Сафу-Гирея, хоть на бессрочное заточение, хоть на лютую казнь. Иоанн отвечает благоразумно: заговорщикам следует взять Сафу-Гирея под стражу и ждать московских полков, сам же без промедления отправляется во Владимир, возможно с намерением самому возглавить поход. Во Владимире ему доставляют известие, что Сафа-гирей из Казани сбежал, что казанские татары перебили верных беглому хану крымских татар и с нетерпением ждут Шиг-Алея. Посему поход на Казань приходится отложить. Тем временем подлая склока Щенятева, Шкурлятева и Воротынского приводит к вполне предсказуемым следствиям. Увидев перед своими шатрами полон, взятый своевольным сыном под Одоевым и Белевым, Саип-Гирей явным образом восчувствовал собственную персону великим правителем и направил в Москву поносную грамоту, в какой уже раз нанося тяжкое оскорбление московскому великому князю, всё ещё полагая, что имеет дело с отроком и его бунтующими князьями:
«Король дает мне по 15 000 золотых ежегодно, а ты даешь меньше того; если по нашей мысли дашь, то мы помиримся, а не захочешь дать, захочешь заратиться – и то в твоих руках; до сих пор был ты молод, а теперь уже в разум вошел, можешь рассудить, что тебе прибыльнее и что убыточнее?..»
Саип-Гирей говорит нечаянно правду: Иоанн «в разум вошел». Пошло то позорное время, когда трусливые князья и бояре принуждали его подавать крымским послам чаши с медом из собственных рук. Он отправляет князя Дмитрия Бельского сажать Шиг-Алея на казанский престол, спешно скликает ратных людей, получив известие. Что Саип-Гирей готовит к южным украйнам новый набег, сбивает полки и походным порядком направляет к Оке, чтобы упредить супостата и заблаговременно занять рубежи, преградив прямой путь на Москву, сам же, однажды ощутив себя государем и предводителем московского войска, идет на богомолье в Угрешский монастырь, отмолясь Богу, прибывает к полкам, с намерением предотвратить новую ссору воевод за места, и воздвигает свою ставку в Коломне, при слиянии Коломенки и Оки.
Ждать набега приходится долго, месяца три. Молодой человек, внезапно оторванный от своих привычных, возлюбленных книг, лишенный спокойствия жизни духовной, томится в полном бездействии. Его молодая энергия, бьющая через край, просит, естественно, выхода, хоть какого-нибудь, лишь бы не сидеть сложа руки, лишь бы занять хоть чем-нибудь скучающий ум. Так объясняют его неожиданные поступки подручные князья и бояре, их мнение заносит в летопись трудолюбивый монах. Иоанн то пашет и сеет гречиху, то ради шутки наряжается в саван, пугая степенных думных бояр, то как простой деревенский мальчишка учится ходить на ходулях.
Нельзя не почувствовать в этих метаниях, как он весь напряжен. Тут ещё в первый раз обнаруживается непреложный закон его внутренней жизни: всякий раз он едет себя неожиданно, странно, когда обдумывает такое серьезное, такое важное и неожиданное решение, которое способно ошеломить подручных князей и бояр и вызвать их на открытое противодействие. Он им точно отводит глаза своими шутками да ходулями. Он так беспокоен, так стремится отвлечь и запутать других, что, с малолетства презирая звериные ловли, с началом сезона, в сопровождении небольшой свиты, начинает выезжать на охоту.
Как нередко случается, обстоятельства точно нарочно наводят его на то решение, которого ищет, однако страшится принять его взыскующий ум. Однажды, посреди поля, его останавливает полусотня вооруженных новгородских пищальников, и предводитель их довольно бесцеремонно, поскольку никто по-настоящему не уважает его, просит выслушать жалобу страждущих смердов и посадских людей на злодейства московских наместников, которые всюду хуже волков для стада овец.
Возникает законный вопрос: что это за необыкновенная, неотложная жалоба, которую, непременно в открытом поле, далеко от московских полков, необходимо предъявить великому князю полусотней хорошо вооруженных людей? Невольно возникает подозрение в том, что тут дело нечисто, что здесь что-то не так, тем более, что в этом странном, подозрительном деле замешаны новгородцы, именно та ударная сила, которая привела к власти князя Андрея Михайловича и так издевательски глумилась над митрополитом Иоасафом.
И без того при малейшем подозрении в душе Иоанна пробуждается страх, посеянный боярскими мятежами, а тут ещё какие-то бесцеремонные подданные появляются неожиданно и абсолютно некстати. Тем не менее Иоанн держит себя в руках, не выказывает ни страха, ни раздражения. Он отказывается выслушать челобитье посреди поля, только-то и всего, таким образом нисколько не выступая из пределов установленного прядка: всему, так сказать, свое место и время, челобитья он принимает в положенном месте, в положенный час.
Слово московского великого князя, хотя бы и молодого, только входящего в возраст, должно быть неоспоримым законом для ратных людей, тем более во время похода, когда с часу на час может налететь татарва. Однако подступившие к нему с оружием новгородские служилые люди отчего-то отказываются подчиниться повелению своего государя, и не только не удаляются, но преграждают ему путь к московскому лагерю. Тогда Иоанн, как и следует, подает знак конвою отогнать забывших свое место упрямцев и очистить дорогу. В ответ на это абсолютно законное требование новгородцы обнажают мечи. Ни с того ни с сего в чистом поле заваривается настоящая сеча, даже с пищальной пальбой, и, что особенно любопытно, не простая сеча, а яростная, так что с обеих сторон на месте остается до десяти мертвых тел. Хорошенькие просители, по правде сказать.
Совершенно естественно, что после схватки, оконченной с такими потерями, Иоанн предполагает неладное и начинает дознание. Однако и в этом деле объявляется странность: он поручает расследование не Глинским, не кому-нибудь из первых князей и бояр, а Василию Захарову, неприметному дьяку. Василий Захаров должен узнать, кто именно подучил новгородских пищальников поднять против государя мятеж, причем мысль о мятеже после десяти убиенных вполне правомерна, тем более что новгородцы испокон веку связаны с Шуйскими, а Шуйские, как ему довелось испытать на себе, горазды на мятежи.
Теперь уже невозможно с полной уверенностью сказать, докапывается ли Василий Захаров до истины, успев тайным повелением Иоанна завести соглядатаев среди подручных князей и бояр, братья ли Глинские пользуются подвалившей на их счастье оказией подвести своих недругов под топор палача, только Василий Захаров вскоре доносит, что негласными вдохновителями сего мятежа являются князь Иван Кубенской, известный убийца, не так давно попавший в опалу за непотребное поведение в Троицком Сергиевом монастыре, а также Василий Воронцов и с ним Воронцов Федор, бывший любимец великого князя, только что его милостью освобожденный от уз.
Едва ли после розыска и доклада дьяка Захарова в душе Иоанна заводятся хотя бы тень колебания. Да и какие могут быть тут колебания, о чем сожалеть, над чем размышлять? Виновны или не виновны представленные на его суд персонажи в подстрекательстве к мятежу, уже не имеет большого значения, поскольку все эти лица, в особенности князь Иван Кубенской, и прежде бывали замешаны в беззакониях и бесчинствах при Шуйских, да и в самое последнее время не находят нужным смириться перед вдруг окрепшей волей великого князя, который в возраст вошел, даже Саип-Гирею из-за Перекопи видать.
Выслушав дьяка Захарова, Иоанн выносит беспощадный и окончательный приговор. Интересно отметить, что назад тому всего несколько месяцев наложенная на Кубенского опала не имела для жизни князя Ивана ни малейших последствий, его помиловали и прежней должности не лишили, а тут никто не вступается за него, митрополит Макарий не приходит с печалованием, и обвиненным в покушении на жизнь государя палач сносит головы с плеч.
Трудно определить, что больше руководит Иоанном в этом неожиданном и таком загадочном происшествии: страх смерти от руки заговорщиков, который он наверняка испытал в открытом поле при виде обнаженных мечей и звуках пальбы, опасная подозрительность, развившаяся в годы несуразных боярских бесчинств, или какой-то тайный, ещё не оформленный в сознании замысел? Может быть, всего понемногу. Но если отбросить все предрассудки, все предубеждения против царя и великого князя, недаром вошедшего в историю под впечатляющим именем Грозного, то стоит спросить: кто же не испугается полусотни вооруженных людей, с ножом к горлу подступающих в чистом поле? кто не заподозрит мятеж, когда эти до зубов вооруженные люди в ответ на повеление своего государя ступать себе с миром палят из пищалей и обнажают мечи? у кого не возникнет предположения, что не своей волей действуют эти простые Пищальники, пусть и принадлежащие к вечно неспокойному новгородскому воинству? кто усомнится, что в дело замешан известный убийца и мятежник князь Иван Кубенской? какой правитель не предаст зачинщиков мятежа?
Правда, перепугаться можно только в самый момент непредвиденной сечи, а внезапные подозрения необходимо дважды, трижды проверить, как необходимо дважды, трижды проверить результаты расследования. Проверил ли Иоанн? Поверил ли дьяку Захарову на слово? Или сведения, представленные дьяком Захаровым, оказываются неопровержимыми? Или Иоанн просто-напросто действует по примеру императора Константина, князя Федора Ростиславовича и ветхозаветного царя иудеев Давида, о которых так много и с таким вниманьем читал? Или он предупреждает, испытывает слишком распустившихся князей и бояр перед тем, как своим новым решением встать неизмеримо выше над ними, чем кто-либо из московских великих князей?
Во всяком случае, неизвестно, насколько добросовестно вел дьяк Василий Захаров предписанный розыск и в какой мере Иоанн в своем приговоре опирался на достоверные факты, но едва ли убедительны и свидетельства летописцев, которые говорят, что казни преданы абсолютно ни в чем не повинные люди, скорее наоборот, именно эти свидетельства летописцев, возникшие в более позднее время, наводят на подозрение, не свидетельствуют ли они уже задним числом, как это сплошь и рядом приключается с далеко не беспристрастными героями летописания.
И всё же в благочестивой душе Иоанна не может не пробудиться горькое чувство вины. Прав или впал в заблуждение? Для благочестивого человека прямой ответ на этот не только важный, но и страшный запрос имеет особенный смысл, ведь это вопрос о спасении. В представлении истинно благочестивого человека души казненных, точно так, как любая отлетевшая от тела душа, неминуемо предстает перед Всевышним. Всевышнему, а вовсе не смертным ничтожествам, пусть эти ничтожества именуются даже царями, императорами, князьями, душа дает последний, самый бестрепетный и самый правдивый ответ, и если она безвинно предана казни, ей предназначается вечное блаженство в раю, как своего рода награда за напрасно перенесенные земные страдания. В сущности, безвинно убиенный ещё должен благодарить своего опрометчивого палача за такого рода подарок судьбы.
Иное дело тот, кто, призванный Богом казнить или миловать, посылает на смерть невинных людей, Его бессмертная душа тоже неминуемо предстанет перед Всевышним и тоже отдаст последний, самый правдивый ответ, причем кому много дано, с того много и спросится. Что заслужит она, если по её, вольной или невольной, вине свершилась роковая ошибка, если в самом деле безвинная голова пала под топором палача: вечное блаженство или вечная мука? Такой обнаженный ответ и сам по себе страшная мука, от такого запроса душе никуда не уйти, от такого запроса спасения нет. Гонимая ужасом перед тем, последним ответом, благочестивая душа обращается к Богу, кается, страждет и молит, обливаясь слезами, прощения.
Видимо, что-то подобное происходит и в растревоженной душе Иоанна. Едва успевает просохнуть кровь убиенных его повелением, как он, забрав брата Юрия и другого брата, Владимира старицкого, в сопровождении многих князей и бояр, отправляется в самое длительное из своих богомолий, какие до сей поры совершал.
Однако слышится в этом внезапном отъезде и другая причина. Всякий раз, когда он готовится объявить подручным князьям и боярам нечто необычайное, способное укоротить их неисправимую страсть к своеволию и мятежу, он покидает Москву. Вполне вероятно, что в нем созрела и готовится высказаться единственная, всепоглощающая мысль всей его жизни:
«Управление многих, даже если они сильны, храбры и разумны, но не имеют единой власти, будет подобно женскому безумию. Ибо так же, как женщина не способна остановиться на едином решении – то решит одно, то другое, так и многие правители царства – один захочет одного, другой другого. Вот почему желания и замыслы многих людей подобны женскому безумию…»
Только единая, сильная власть спасительна для государства, и он обязан стать единовластным правителем, не для себя ничтожного смертного ради, но ради Московского великого княжества, он обязан пресечь управление многих, когда один хочет одного, другой хочет другого, а в конце концов все жаждут самовластно править в посадах и волостях, мздоимствовать и вымогать, грабить открыто, презрев Бога, без зазрения совести пренебрегая законом и справедливостью. Но что единая, сильная власть будет означать для него? Насилие, кровь и ответ перед Богом!
Не один он видит необходимость для обуздания своевольных князей и бояр посягнуть на единую, сильную власть. Всё чаще и чаще, сперва исподволь, полунамеками, потом всё прямей, говорит о необходимости единой, сильной власти московского великого князя митрополит, тоже вдоволь наглядевшийся на боярскую смуту, сначала из Великого Новгорода, после воочию здесь, на Москве. Макарий разъясняет ему, что русская православная церковь уже унаследовала силу, славу и честь византийской, что центр православия уже переместился в Москву, что бы ни думал на этот счет плененный басурманами константинопольский патриарх, из чего следует, что здание необходимо достроить, что московскому великому князю самое время сравняться по положению с императорами Восточной Римской империи, а Московскому великому княжеству возвыситься до её высокого и прежде во всем мире славного положения.
Стало быть, поддержка митрополита Макария ему обеспечена, ему остается провозгласить себя императором или царем, выбор между этими титулами большого значения ни для него, ни для Макария не имеет. Кажется, больше не о чем размышлять, однако Иоанн размышляет уже много дней и ночей. Тревожное одинокое детство приучило его мыслить самостоятельно, и он понемногу начинает угадывать, что единой, сильной власти Макарий ищет не для него одного, даже не для умиротворения Московского великого княжества, а для церкви, для митрополита, в конечном счете для собственного своего возвышения прежде всего.
Макарий помышляет учредить Святорусское царство, которое должно существовать только для церкви, как её утверждение и ограда, его главнейшей, едва ли не единственной обязанностью станет удовлетворение насущных нужд русской церкви, очистить её от многих пороков, которые Макарий уже начал понемногу искоренять в новгородской епархии, и в конце концов её к тому привести, чтобы она стала единственной чистой хранительницей и выразительницей истины христианства, а будет достигнута эта поистине всемирная цель, истинным правителем святорусского царства станет её глава, митрополит, то есть Макарий, всё живое подчинится ему, должен будет подчиниться и тот, кто получит звучный, но в таком случае пустой титул императора или царя.
Иоанн тоже видит пороки, разъедающие монастыри, он тоже за очищение и возвышение русского православия, которому он предан всем своим существом, однако по его убеждению верховная власть в московском великом княжестве должна принадлежать великому князю. Видимо, уже в это время он начинает догадываться, что попы не должны вмешиваться в управление государством, как позднее он станет доказывать в первом послании беглому князю. Тогда как же ему поступить? Ему предстоит сделать выбор: либо он, либо митрополит. Если он сделает выбор в свою пользу, Макарий покинет его, а без Макария не может быть ни единой, ни тем более сильной власти на Русской земле, подручные князья и бояре не нынче, так завтра его сковырнут.
Есть над чем ломать голову, и он отправляется на богомолье, в расчете, что Бог вразумит и простит. Громадный обоз великого князя движется из Москвы на Владимир, от Владимира поворачивает на Можайск, Волок Ламский, Ржев, Тверь, Великий Новгород, Псков. Повсюду на этом пути Иоанн посещает монастыри, выстаивает в каждом встреченном храме молебны, и так продолжительно его необычное богомолье, что невольно подтверждается предположение: сомнение истинно верующего в своей правоте подвигает его свершить этот путь, покаяние истомленной души, жаждущей вовсе не чьей-нибудь крови, но единственно братской, истинно христианской любви, а в то же время и подготовка к новой ответственности, может быть, к новой крови, как ни странно, во имя всё той же братской, истинно христианской любви.
Однако и на этом пути очищения и подготовки к новому бытию, точно Бог и в самом деле вразумляет его, подручные князья и бояре вовсе не с ним, не с его высокими, благочестивыми помыслами, не с раскаянием, не со смиреньем в душе. Всюду на этом долгом пути они устраивают пышные охоты и ловли, разорительные постои и шумные пиршества, обременяя черный народ извозом, поборами, а то и прямым грабежом, оставляя после себя разорение, озлобленные проклятия, безответные жалобы, бессильные слезы, ропот и глубокие семена народного мятежа, куда более кровавого, страшного, чем боярский, все-таки ограниченный, придворный мятеж.
И этот много размышляющий юноша, так часто встречавший в летописных сводах и хрониках то скупые, то пространные, всегда гневные описания сходных бесчинств, не может не видеть, не может не понимать, что никто из его приближенных ни по зову совести, ни по наставлениям митрополита Макария даже не думает оставлять своих укоренившихся зловредных привычек, что никто из них не снедается помыслом о неминуемом разорении и оскудении Московского великого княжества, точно все они чужестранцы в завоеванной ими стране.
Плохо то, что он всё ещё очень молод. Характер его только ещё устанавливается, но не установился вполне, не затвердел. Его энергия так и клокочет, просит выхода, он же не представляет, куда направить её, куда её деть. И он сам, после утрени или ранней обедни, скачет вместе с ними верхом, принимает участие в охотах и ловлях, которые именно своим зверством, своей кровью отвращают его, разделяет игрища и забавы, однако не по желанию, не по велению сердца, не по распутству пустой, беззаботной души, а как разум велит, применяясь к обстоятельствам неопределившегося его положения.
Это противовольное отступление от благочестивого покаяния, которое он наложил на себя, тоже падает камнем на чуткое сердце. Иоанн никогда не забудет, никогда не простит бесовских игрищ, бесовских забав, которым так привержены подручные князья и бояре. Он горько попрекнет ими беглого князя, когда тот укажет ему на такого рода забавы и дерзнет обличить в неблагочестии царя и великого князя, то есть обвинить в самом тяжком грехе:
«Если же ты вспоминаешь о том, что мы не твердо соблюдали обряды и устраивали игры, то ведь это тоже было из-за вашего коварно поведения, ибо вы исторгли меня из спокойной духовной жизни и по-фарисейски взвалили на меня тяжелое бремя, а сами ни одним пальцем не помогали его нести, поэтому я и не соблюдал церковных обрядов из-за забот царского правления, вами подорванного, частью – чтобы избежать ваших коварных замыслов. Устраивал же я игры, снисходя к человеческим слабостям, ибо вы много народа увлекли вслед коварным замыслам, устраивал для того, чтобы они нас, своих государей, признали, а не вас, изменников, подобно тому, как мать разрешает детям всяческие забавы, пока в младенческом возрасте, ибо когда они вырастут и превзойдут родителей умом, то откажутся от этих забав сами, или подобно тому как Бог разрешил евреям приносить жертвы – лишь бы Богу приносили, а не бесам. А чем они у вас привыкли забавляться?..»
Неудивительно, что весь этот длинный медлительный путь от Москвы до Пскова и от Пскова обратно в Москву он всё продолжает предаваться размышлениям, важнейшим и тяжким, от которых зависит и будущее его бессмертной души, и личная судьба, и судьба Московского великого княжества, таким размышлениям, которые в любом возрасте непосильны, нередко оканчиваются роковыми ошибками, способными определить ход истории, вдвойне непосильны для шестнадцатилетнего юноши, только ещё начинающего самостоятельно мыслить и самостоятельно жить.
В каком направлении, какими путями пробирается его пытливая, рано созревшая мысль? Трудно, в сущности, невозможно четко, с полной уверенностью ответить на этот важный вопрос, поскольку все источники упорно молчат. Можно только догадываться о конкретном содержании его размышлений, опираясь единственно на конечный их результат, исходя из решения, которое он внезапно для всех принимает зимой, в первые дни холодного, снежного января.
Вопреки распространенному предубеждению, которое рисует его законченным эгоистом, Иоанн вовсе не занят исключительно собственной безопасностью и личным благоустройством, за его чуть не детской беспечностью в играх и шалостях юности таится остро наблюдательный, глубоко мыслящий, государственный ум. Позднее он напишет беглому князю, вспоминая их молодость, проведенную вместе: