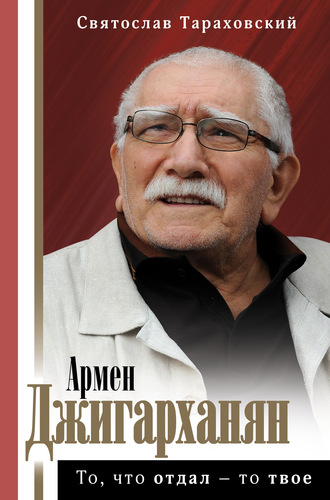
Святослав Тараховский
Армен Джигарханян: То, что отдал – то твое
23
Ух ты!
Распределение ролей на «Фугас» вывесили как обычно, в фойе на доске объявлений неподалеку от кабинета худрука и главного режиссера, возле маленького диванчика от Икеи и гипсового бюста Станиславского с отбитым по случайности рабочим-постановщиком правым ухом. Худрук сгоряча распорядился рабочего уволить, а Станиславского убрать в подвал, но завлит Осинов предложил другой вариант, который Армена Борисовича на время устроил. Рабочего оставили – где найдешь другого за такую зарплату? – а скульптуру Станиславского повернули правым ухом к стене, так, что зрители, гуляющие по фойе в антракте, дефекта не замечали, и все быстро успокоились, тем более, что художник театра Пырин обещал ухо долепить. Время шло, ухо долго не лепилось, потом Пырин снизошел, вылепил, но оно оказалось совсем не таким, каким было у бюста; ставить неправильное ухо новатору театра не решились, и вернули ухо Пырину на переделку. Сейчас же, на запуске «Фугаса» всем стало не до уха и даже несколько не до Станиславского, распределение волновало людей театра много больше.
Возле доски объявлений с самого утра толклись артисты, они спорили, удивлялись, не соглашались, смеялись и возмущались. Картина была живой.
Распределение ролей на новую пьесу – событие, оживляющее монотонную жизнь труппы, оно сродни камню, брошенному в застойную воду, из которой идут гнилые пузырьки. Составы театра приходят в движение, иногда болезненное.
Шевченко, расстегнув ворот и чуть ли не рыча от возмущения, ломанулся к худруку и зря, дверь была заперта. Тогда первый комик поспешил к завлиту. Он, конечно, знал, что не завлит отвечает за распределение, что распределением командует режиссер и худрук, но также знал, что завлит фигура в театре видная и повлиять на события может. Первый комик всегда считал Юрия Иосифовича своим дружком по рыбалке, горным лыжам и бане. Но, как выяснилось, ни первого, ни второго, ни даже третьего дружеского проявления оказалась недостаточно для того, чтобы не получить самую позорную роль в спектакле, а именно, бессловесную роль ожившего, одушевленного фугаса в пьесе какого-то гения Козлова. «Я – глухонемой фугас, – думал Шевченко – ну, не смешно ли, не стыдно? Худрука не было на месте, ладно, но Иосич-то, который наверняка в курсе, пусть ответит, какого черта дали мне, лучшему комику театра, такую звездную роль?»
Но не он один оказался у завлита с претензией. У входа в каморку Шевченко чуть не налетел на прекрасноволосую Башникову с агрессией на чудном лице.
– Я – первая! – заявила Башникова, и Шевченко отшатнулся к стене, уступая путь разогнавшемуся телу актрисы. Она ворвалась к завлиту – звуки, отлетевшие от нее, просквозив Шевченко, заполнили коридор, покатились по лестнице, достигли гардероба и востроухих гардеробщиц.
– Юрий Иосифович! Я не буду играть в очередь с Романюк! – закричала с порога Башникова. – Я Башникова! Я не крайний стул в галерке, я не последнее место! Я не буду ни с кем конкурировать! Не нравлюсь Армену – пожалуйста, пусть репетирует, пусть играет одна Романюк, но сравниваться с кем-то не хочу, не буду!
Шевченко не виноват, он не подслушивал, стоял под дверью, тянулся, против воли, слухом к тому, что происходило в кабинете, но не подслушивал. Двери были такие.
– Милая Алла, успокойтесь, – слышал Шевченко воркующий голос завлита, сразу сомлевшего от героического темперамента Башниковой, а также услышал он звон стекла и звук водной струйки, теребившей стакан. – До репетиций и спектакля еще далеко. Вы, конечно, наша звезда, наша первая надежда, вы – наше все, просто на случай экстраординарный или гастрольный мы сразу подбираем два состава…
Шевченко еще горел борьбой за справедливость, но понял, что придется немного дружка подождать. «О'кей, – сказал он себе, – ради такого дела, подожду…»
– Вы всегда так говорите, а потом оказывается… – слышал из кабинета Шевченко.
– Еще водички, Аллочка?
– Не нужна мне ваша водичка.
– Строго говоря, ваши претензии не ко мне. Режиссер, так решил Саустин.
– Так и знала. Сожительницу свою продвигает. Ну я вам, блин, устрою, я всем вам устрою!
– Конфеты. Угощайтесь, Аллочка. Ничто так не успокаивает женские нервы как конфеты…
– Спасибо… Хм, вкусные у вас конфеты…
«Чего он с ней так возится? – подумал Шевченко. – Сколько можно ждать?»
– Может, что-нибудь покрепче? – услышал он голос завлита.
– Вот вы всегда так говорите, – услышал Шевченко. – И потом… у вас дверь не закрывается…
– Ну, что вы, что вы, после прошлого раза… У меня недавно столяр был…
Замок щелкнул.
«Слава богу», – выдохнул Шевченко и отошел от двери. Зная дружка, он сообразил, что теперь вопрос решится значительно быстрее, чем решился бы в пустом разговоре. Шевченко знал, что Осинов был мастером ближнего боя.
И правда, короткое время спустя Башникова возникла из-за двери и, исполненная новым достойным смыслом, неторопливо пронесла себя мимо Шевченко.
– Он свободен, – бросила на ходу.
– Я понял, – кивнул комик.
Она хмыкнула, обошлась без комментариев. Шевченко заслужил доверие первой надежды и, воодушевившись, шагнул к завлиту.
Завлит был взлохмачен, но боевит, друга встретил в самом добром красноречии.
– Здр, Коля, здр! Рад видеть. Как сам?
– На букву «х»…
– Как всегда хорошо?
– Как всегда фуево.
– Садись. Выпей… – Говорил и энергично подталкивал товарища к дивану и уже наполнял рюмку бархатом коньяка. – Тут у меня товарищ был, работали над ролью…
– Знаю.
– Не допили.
– Не успели. Знаю.
– Ко-оля, – Осинов с таким выражением пропел старинное русское имя, что Шевченко в одной вокальной фразе словил небедный смысл. В ней было и подтверждение дружбы, и просьба простить собственную слабость, то есть силу, и уговор на вечное мужское молчание.
– Я и так молчу, – кивнул Шевченко. – Я глух и нем. Мне ничего не остается. Я бессловесный фугас. Лучшая роль. Выдающаяся роль, на «Маску» тянет. Кто так решил? А совесть, по ходу, есть?
Осинов опрокинул в себя коньяк и поморщился.
– Коля, это не я. Это… новая энергетика, ты же в ней специалист. Ты меня понял?
– Понятливый я.
– Плюс Саустин. И я тебе ничего не говорил.
– Нет, я все понимаю, – не мог успокоиться Шевченко. – Я и зайца могу, и козла, и Деда Мороза – если надо театру, но роль бессловесного фугаса – такого не приходилось. Я отказываюсь, Юра, я посылаю ваш выбор на фуй – ты должен меня поддержать.
– Это к Саустину, его пошлешь… А с другой-то стороны – ты не прав. Это ж так интересно любому серьезному актеру: сыграть роль бессловесного фугаса! А? Сколько фантазии, сколько находок можно найти! Кому такое выпадало? Редко, очень редко, и ты – сможешь! Играй, Коля, покажи себя, всем им покажи! Да ты в пантомиме без слов еще смешней, чем со словами. Вспомни Чаплина в немом кино – ты не хуже, Коля, тебя увидишь – жить захочется, хоть ты и взрывной, как фугас!
– Считаешь?
– Абсолютно.
Пятерня взлохматила рыжую голову. Шевченко задумался. Гениальность требовала подтверждения.
– А что? И покажу! Я им, блин, такое наиграю!..
– Классно, Коля… Слушай, Коля, одному тебе скажу, наш Саустин решил похулиганить. И ты хулигань. Это пьеса такая – как завлит тебе говорю. Ее – чем хуже, тем лучше. Хулигань, разваливай каноны и все, чему тебя учили. Карнаваль, Коля, кривляйся, Саустин только одобрит, лепи!
– Хм… Саустин-то одобрит, а худрук?
– Армена ошарашим по факту – он ведется на все неожиданное. А Саустин сам будет на сцене – в роли главного героя, который привез фугас в Москву. То есть привез тебя. Прикинь, какой у тебя с ним будет дуэт!
– Хм. А что…
Шевченко задумался, а Осинов тем временем уже наполнил и поднес. Друзья чокнулись, влили в себя.
Осинов был доволен. Не только коньяк и встреча с Башней согрели его, но ощущение собственного интеллектуального превосходства: в нескольких точных словах он смог разубедить и перенастроить комика на нужный лад, сделать его невольным союзником переворота. Не будет же он ему рассказывать, как вчера в долгой терке с худруком и Саустиным они окончательно решили ребус распределения, тем более, не будет рассказывать о том, что, когда артисты были уже утверждены, худрук вдруг сказал, что у него «какашка зашевелилась». Для непосвященных и недавно поступивших такое выражение означало нечто определенно – туалетное, для старожилов театра – а Шевченко служил в театре давно – сей оборот значил только то, что у Народного, Великого и Ужасного худрука возникли сомнения.
– Хочу фугас оживить, – объяснил свою «какашку» худрук. – Хватит ему немой железякой в спектакле существовать, неинтересно. Сошьем ему пятнисто-защитную форму десантника, пусть бегает по сцене, лезет везде, путается под ногами, всем мешает и все время имитирует взрывы!
– А это замысел не нарушит?
– Не нарушит. Укрепит.
– А насчет взрывов – это как? – Сразу не понял Осинов и шутканул, – пердит что ли?
– Грубо, завлит, совсем не по искусству. – отказался худрук. – Нет-нет. Дадим ему детскую хлопушку, пусть подкрадывается в серьезных любовных сценах и взрывает хлопушку у самого уха – ба-бах! По-моему, смешно.
– Гениально! – оценил находку худрука Саустин, он мгновенно сообразил сколько дополнительного идиотизма и дури внесет живой фугас в спектакль. «Спектакль будет точно провален, денежки сгорят, а худрук обречен!» – подумал он, – Великий и Ужасный сам идет нам на помощь, сам рвется к погибели…
Шевченко рванул еще рюмашку, выдохнул от души и признал, что завлит его убедил.
– Ладно, – сказал он. – Я им так нахулиганю – полицию вызовут.
– Полицию – это мы с удовольствием! – включился Осинов. – Вызовем и упрячем тебя, чтоб скандал погромче вышел – театру скандалы на пользу. Сам вызову, обещаю, – кивнул завлит.
Напоследок доломали шоколадку. Бутылка показала дно.
– Разбегаемся, Коля, – сказал Осинов. – Искусство штука хозяйственная, дел по и выше. Успехов тебе.
24
Спокойнее всех распределение приняла Виктория Романюк. Едва взглянула она на доску объявлений, потому что заранее знала, что ей предстоит играть. Худрук сдержал слово, а Олежек соответственно утвердил.
Роль развязной молодой идиотки, подружки владельца фугаса совсем не ложилась на ее мягкую, интеллигентную органику, но, с другой стороны, сыграть фельетонный образ сучки было заманчиво. «Юдифь в жизни плюс сучка в спектакле, – подумала Вика – да ведь круто же это, круто!» Идея нравилась. Она помнила, что спектакль должен оказаться отвратительным и провальным – сама ведь, дура, предложила – но все равно было интересно.
Поначалу сразу забежала к Армену сказать ему спасибо. Схватилась за ручку двери, и смысл по ней прошел: благодарить, а за что? За то, что участвует в перевороте? Кощунство. А все же зашла.
Он тотчас поднялся, заулыбался и произвел собою легкую неловкую суету, глаза его стреляли смущением и радостью одновременно. Пожал ей руку мягкой теплой своей рукой, немедленно усадил и угостил чаем урц с приторно-сладкими армянскими конфетами. Потом, ни на минуту не умолкая, наверное, для того, чтоб не утратить ее внимания, затеял долгий разговор о театре. Зачем? Почему? Произвести впечатление?
Да, собственно, и не разговор это был – его рассказ о том и о тех, кого он помнил и знал, кому пожимал руки.
До конца дней будет она помнить этот рассказ.
Он не застал Станиславского, хотя и считал себя последователем великой системы. Зато он учился у тех и жал руки тем, кто лично знал Станиславского и, значит, находился в одном рукопожатии от гениального патриарха театра. А это, сообразила и поразилась Вика, означало то, что подавая руку Армену, она всего лишь через одно рукопожатие касается руки самого Станиславского. «Господи, – подумала она, – как быстро бежит время и как долго оно стоит на одном месте! Время, – подумала она, – ты дождалось меня!» Как удивительно и как странно. И еще она глупо подумала о том, что руку сегодня мыть не будет.
Он хотел ее поразить, он ее поразил.
На какие-то минуты она забыла, зачем пришла. Помнила, пора уходить, но как уйти? Вот так, запросто? Повернуться, буркнуть спасибо и уйти? Невозможно это было, невероятно, неисполнимо! Надо было сделать для него что-то доброе, хорошее, душевное, вечное – отблагодарить. Как? Словами? Избитыми, затертыми, пустыми? Другие слова на ум не шли.
Заметила в кабинете пианино. Странно, никогда не обращала внимания, а сейчас заметила инструмент, и мгновенно вспомнилось ей свое недавнее, незабытое еще прошлое, и толчок решимости прошел по рукам и пальцам. Два легких шага, пока он не опомнился, перенесли к пианино. Вика присела на краешек стула. Откинута крышка, тонкие пальцы с ярким маникюром коснулись клавиш, войлочные молоточки в чреве инструмента ударили по струнам деки, и в неживом, заваленном бумагами, всякой театральной всячиной кабинете возникли звуки.
Музыка искрила, переливалась, перекатывалась звуками, шевелила старую пыль и несла жизнь. Худрук глотнул ее чистого кислорода, задохнулся, уронил голову и, кажется, потерял сознание.
Звучала вечность, привыкнуть к ней было невозможно.
Наконец, он снова поднял голову, чтобы теперь, не отрываясь, наблюдать за чудом, которое рождало музыку. Чудо было миниатюрным, тонким, изящным, и звали ее артистка Виктория Романюк. Господи, как чутко, как божественно она играет! Почему? Откуда? Зачем?
Она не просто играла, не просто повторяла ноты, найденные гением двести лет назад. Она, как и он, умирала в звуках, в эти мгновения ничто окружающее ее не интересовало – отсутствовал даже он, ради которого она вошла в музыку.
Вопросы множились, вопросы умирали без разрешения. Слова и смыслы исчезли. Шопен был выше всех вопросов. Шопен был единственной доступной им обоим формой жизни. Шопен сделал их родными.
А потом, взлетев аккордом, Шопен разом утратил дыхание. Жизнь высокая оборвалась и началась прежняя, обыденная, привычная, скучная. Переход был ужасен.
Старого мастера заставили вернуться в себя. Великие звуки отлетели, истаяли, исчезли, но еще звучали в его памяти.
Вика осторожно опустила крышку пианино.
– Спасибо вам за рассказ о театре, – сказала она. – И за роль. Я пойду?
– Иди, красивая, иди… – сказал худрук и запнулся. Не знал, что говорить дальше. Смотрел на нее другими глазами. Любил ее музыку. Любил ее, но старался не думать об этом. – Откуда ты знаешь Шопена?
– Я с детства занималась художественной гимнастикой. А потом бросила. А еще закончила Центральную музыкальную школу в Киеве.
– Браво, Романюк. Спасибо, что бросила и спасибо, что закончила. Спасибо, что зашла. – Задумавшись, сделал паузу и вдруг осенило. – Слушай, Вика, а что, если сделаю тебя завмузом театра? У меня его как раз нет. Зав. музыкальной частью! Звучит! И работы полно. Хочешь?
– Но я же некоторым образом…
– Знаю, артистка… Вот все вы, молодые и красивые такие. Не понимаете, что служить театру не значит выходить на сцену и кого-нибудь изображать. Бутафор, помреж и какой-нибудь осветитель не менее вашего, товарищи артисты, служат театру, не менее важны. Потом поймете, когда постареете…
– Я артистка, Армен Борисович… Извините.
Запикали, затрезвонили вдруг часы на его руке – он накрыл их свободной ладонью…
– Не обращай, – сказал он. – Таблетки проклятые пить пора.
Он открыл стол, потянулся за таблетками…
– Воды? – спросила она.
– Я сам, сам, – сказал он.
Но она уже наполнила стакан из графина, протянула ему.
– Спасибо, – сказал он, заглотав таблетки. – Ты не только здорово играешь, ты еще и… Приходи, когда время будет, подлечи старика музыкой. Скажу правду: ничего в жизни не люблю. Кроме музыки.
– А театр? – спросила она.
Он усмехнулся.
– Театр – другая любовь, – сказал он. – Честно скажу: театр – мучение, без которого нет смысла дышать.
Сказал пафосно, усмехнулся – теперь уже над собой, посмотрел на нее и понял, что не хочет, чтоб она уходила.
Он был в другой рубашке, тоже старенькой и мятой. Удивительно, но, как и в прошлый раз, она почувствовала его рубашку в своих руках и снова подумала о том, что с удовольствием выстирала бы и отгладила ее! «Что это значит?» – быстро спросила она себя? Прачечное извращение или что? «Прачечное извращение», – ответила она себе, да, конечно, только оно.
О роли в «Фугасе» поговорить не успели. Начались звонки, разговоры, вошел Осинов, кто-то взбудораженный и шумный еще.
– Иди, – благодарно кивнул он ей, – иди, девочка моя, иди, – негромко добавил он и, как ей показалось, чуть крепче обычного сжал ей пальцы.
Его «девочка моя» мгновенно вогнало ее в краску; ничего особенного не было в этих двух словах старого артиста, обращенных к молодой женщине, так принято в театре – ну, разве лишь проявление особого расположения, не больше – но именно этот последний возможный смысл и вызвал в ней смятение, и ответить она не смогла.
– Начнете репетировать, появятся вопросы – зайди, – уже на прощание, вместо до свидания, добавил он. – Заходи без вопросов. Музыке здесь рады…
Целый день не отпускали ее на волю его слова. «Девочка моя» – их тон и смысл снова и снова повторялись в ее памяти, обрастали фантазиями и домыслами. В них было тепло и была ласка – то, в чем она давно испытывала недостаток. Смешной старикан. Она повторяла их до тех пор, пока с их помощью, совершенно случайно, не набрела в себе на истинный смысл своего утреннего визита к худруку. Поколебалась в истинности своего открытия, но окончательно в нем утвердилась: да, так оно и было! Не пьеса волновала тебя и не распределение – это был лишь повод, призналась себе Вика, а было у тебя одно подспудное желание: увидеть его мятый воротничок, услышать его голос, окунуться в море его обаяния. «Что бы это значило? – спросила она себя. – Не знаю, ничего, – ответила себе Вика, – а просто так, захотелось и все». И не зря захотелось. Помимо «девочки моей» – слов само по себе приятных, она услышала вещи во сто крат интересней, чем пивные разглагольствования Осинова или прожекты повернутого на перевороте и захвате театра мужа, не к ночи помянутого Олежека Саустина, кстати, почему его до сих пор нет дома? И хорошо, что его нет. Она хоть успеет благополучно заснуть.
Вика перемыла посуду, зашла в ванную, занялась собой, прической, глазами, кожей, но мысли о худруке не покидали. И странно, не думала она о том, что он стар и болен, что, скорее всего, не сможет любить ее как мужчина и, значит, не сделает ей ребенка – она думала и мечтала совсем о другом, а именно о том, что только с ним она сможет стать по-настоящему счастливой. Что она вкладывала в свое представление о счастье – сказать сейчас было бы ей трудно. Женская влюбленность – состояние почти гипнотическое, в нем мало трезвости, но много порыва и ветра. Вику понесло на парусах.
«Если ты счастлив, значит, ты живешь, – сказала она себе, – и я хочу жить».
«А Олег, с которым ты говоришь, сидишь за столом, обсуждаешь проблемы, споришь, репетируешь, да еще и спишь – уже тебе неинтересен? Получается так. Олег по сравнению с Арменом… – она поискала слова – как старый кнопочный телефон по сравнению со смартфоном. Забавный складывается сериал, – сказала она себе, – началось с Козлова, с моей идеи детектива, а кончается черт знает каким сюжетом. Именно черт знает каким, потому что до конца и какого? – еще ничего не ясно».
Но в дополнение к этим мыслям возникла в ней еще одна, последняя и самая нерадостная. «Тебе с ним интересно, это факт, но интересно ли ему, великому худруку, с тобой? – спросила себя Вика и пожалела, что задала себе такой вопрос, потому что ответ на него был очевиден. – Чем я могу быть для него интересна? Умом, знаниями, опытом? Смешно. Разве что моим несовершенным Шопеном?» Вика безнадежно усмехнулась, но вдруг увидела себя в зеркале. «Разве что стройными ножками, фигуркой, милой мордашкой, то есть, беззащитной молодостью своей? А что, вполне возможно, есть, есть во мне кое-что, на что можно полюбоваться. Он ведь не только крепкий старикан, он еще все-таки и мужчина, которые по отношению к женской красоте все одинаковы. Впрочем, что я несу? Разве может такой интерес всерьез привлечь большого человека и великого художника? Он великий худрук, я щепка, артистка на большую роль в два слова: „Кушать подано“».
Плазму Вика включать не стала. Легла в постель, запустила тонким пальчиком айпэд. Побродила по ютьюбу, ничего занимательного не нашла, полистала книжку какого-то бесполого француза, отложила в сторону и быстро, и глубоко заснула. «День был замечательный, – успела подумать она, – мне, наверное, приснится добрый сон. О его мятом воротничке и о том, как рядом с ним ко мне придет успех, я стану женщиной и хранительницей теплого очага».
Ей приснился добрый сон. Она, легко ступая, шла по юной, чуть распустившейся березовой роще, нежные листочки бестелесным зеленым туманом едва касались, гладили, ласкали ее молодое тело, она плыла. Внезапный рев из чащи напугал и заставил остановиться; зверь, она почувствовала, обитал где-то там, в глубине рощи, ей хотелось его избежать, обойти, она попыталась это сделать – не получилось, зверь приближался, страшный, зубастый и наверняка мохнатый. Она замерла, затаилась, ей хотелось крикнуть: «мама!», но губы, сведенные ужасом, не шевелились и звук не рождался. Дрожь и судороги били ее, наконец, она проснулась в поту и тревоге – звериная физиономия Саустина ревела ей в лицо храпом и пивным духом. Хороший добрый сон, отдышавшись, подумала она. Сон в руку.






