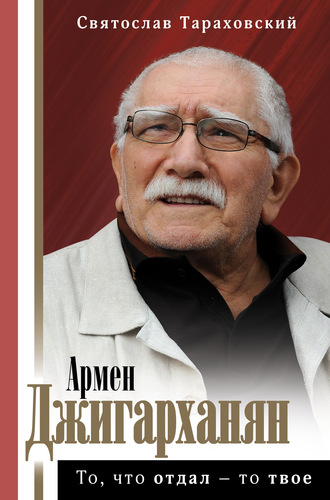
Святослав Тараховский
Армен Джигарханян: То, что отдал – то твое
11
Ступил в театр, кивнул вахтеру с планшетом в руках, спросил: «У себя?»
Чуть тюкнул костяшкой руки в дверь и сразу вошел.
Худрук пил чай.
Восседал все на том же итальянском кресле-троне и был так безразличен к вошедшему, что весь осиновский энтузиазм мгновенно испарился и сменился обычным подобострастием.
– Приятного аппетита, – вырвались из завлита привычные слова, которые он не собирался произносить. – Здравствуйте, – добавил он и вытащил на первый план драгоценную папку. – Вот.
Худрук, едва глянув на папку, укусил дорогой бутерброд и запил его длинным глотком чая.
– Что это?
– Вы просили бомбу. Вот, Армен Борисович, пожалуйста, все для вас. И название соответствующее – «Фугас».
Худрук принял пьесу, пролистнул на желтом ногте ее страницы и вдруг сказал:
– Сядь.
И Осинов на автомате сел. И все пошло не так, как он себе придумал.
От дымящихся струй армянского чая Осинов отказаться не смог, любил он его больше водки, испытывал к нему слабость. Урц, по-армянски называл его Армен, но завлит-то знал, что это никакой не урц, а самый что ни на есть натуральный и душистый чабрец. Осинов припал с чашке с чабрецом, смаковал во рту ароматные капли и с некоторым сожалением предсказывал себе, что, когда уйдет худрук, уйдет и урц. «Жаль, – подумал завлит, – очень жаль, такого мочегонного в Москве не сыщешь, впрочем, – потаенно успокоил он себя, – за все надо платить – пусть я буду без чая, зато со свободным театром и итальянским троном под пятой точкой, а уж трон-то я менять не буду – реликвия! Простоит годков пять и сдадим в музей – породнимся задницами на троне», – усмехнулся про себя Осинов и сам прервал свою недалекую шутку…
– В двух словах – о чем твой Фугас? – спросил худрук, и Осинов понял, что ему не терпится. «А раз так, – сказал себе по мстительной вредности завлит, – пусть подождет, помыкается, пусть на себе почувствует, как благотворно действует долгая пауза на собеседника», – и завлит с удовольствием позволил себе долгий, зловредный глоток урца.
– Ну? – Повысив голос, переспросил Армен.
Завлит всегда боялся, когда худрук в разговоре с ним повышал голос, он понял, что как бы, не дай бог, ситуацию не перетончить, – чтоб не рвануло! – и что пора отвечать по сути.
Сбросив напряг, улыбнулся в не идеальные свои чужие зубы и сказал, что о пьесе говорить предварительно нельзя, ее надо читать. Его ответ, словно пару в парной, поддал худруку интриги.
– Как это так: нельзя? – худрук сдвинул на лбу куст бровей. – Хорошая пьеса рассказывается в трех предложениях.
– Прочтите, Армен Борисович, сами все поймете… – Завлит старался быть убедительным. – Как профессионал могу сказать: пьеса новаторская, заглядывает в завтрашний день театра, жизни вообще и, что самое интересное, будто специально написана для вас, поставить ее способны только вы с вашим мастерством, интуицией, опытом. Поставить с блеском, чтоб другим от зависти поплохело, чтоб публика у касс передушилась… Такая там, знаете, острая тема, что требует кропотливой реалистичной работы, а не фокусничанья, авангарда и демонстрации задниц. Вы, только вы владеете этим…
Худрук был бы плохим актером и никаким режиссером, если бы не обладал даром выщелучивания из собеседника души и скрытого смысла. Он внимательно слушал славословия Осинова, ввинчивал в него глаза и чувствовал: что-то идет не так. Разгулялся Иосич, будто речь заученную говорит, не свои слова, не свои мысли, все будто с чьей-то подачи. «С чего бы, – соображал худрук, – моего несмелого и преданного завлита так по воздуху лести понесло? С чего бы, с какого перепуга? А не связан ли он с театральным дымком, каким все-таки тянет по театру? А не он ли этот дымок пускает?»
– Наговорил много, вагон, – сказал он, – Ладно, оставь, прочту… – Подгреб к себе поближе папку с пьесой, снова поднял глаза на завлита и снова увидел, что в них что-то не так. Кривизну в них увидел и испуг момента. Но, как умный хозяин, решил верного служаку огладить. – Вообще-то ты, Иосич, молодец. Честно скажу: сработал оперативно. Если еще и пьеса окажется не козьи шарики, награжу по-царски.
– Буду рад, – правильно отреагировал завлит. – Царские подарки люблю, они дорогие, – добавил он и мелко, и неприятно рассмеялся. Мелко, сказал он себе, да, мелко, знаю – зато метко, в самый раз, чтоб деда расположить…
Но худрук не расположился и виду не подал. Долго, увесисто, плотно глядел он на мучающего глотками урц завлита, и вдруг здравая мысль посетила его. «А не проверить ли мне завлита, – подумал он, – на предмет преданности лично мне».
Хватит ему только пьески почитывать, пусть хоть половину театрального дела на себя возьмет, пусть за климат театральный отвечает, за здоровую атмосферу за кулисами! Проверить его надо на крепость: двинуть по темени и посмотреть, как он удар держит, не трещит ли по швам, не течет ли снизу? Двинуть его надо, ой, как надо двинуть!
– Ну, а вообще-то, – спросил Армен Борисович, – как атмосфера на театральной территории?
Завлит Осинов, хорошо знавший мировую драматургию, мгновенно проник в зерно вопроса, но принял вид простачка.
– Атмосфера здоровая, туч нет, осадки не ожидаются, – хохотнул Осинов.
– Уверен? – переспросил худрук. – Честно тебе скажу, не будем дурака включать.
Ловко извлек из пачки, вложил в губы сигаретину Мальборо. Он давно и настрого запретил курение в театре, исключение делал понятно для кого. В кабинете запахло Америкой.
Затянулся, глаз с завлита не спускал, морщился, покряхтывал, поскрипывал, нагонял страх, но Осинову видеть такое у народного артиста было не впервой. Насмотрелся на репетициях, пообвык, знал все ходы и приемы большого мастера. Помнил Арменом же сказанные слова, что все, без исключения, артисты работают на штампах, но хорошего артиста отличает от плохого единственно одно: количество штампов; у плохого их мало, они легко читаются, механически повторяются, потому игра его кажется формальной, бездушной, никакой – у хорошего артиста штампов много больше, просчитать их труднее и зрителю кажется, что хороший артист никогда не играет, но принародно проживает на сцене предложенную роль, как кусок жизни, причем каждый раз заново, искренне и с душой: надо будет сделаться собакой – сделается собакой, надо будет стать убийцей, станет и первоклассно убьет, или, еще интересней, если надо, сделается влюбленным и так полюбит партнершу, что у дам в публике зачешется в горле и появятся платочки…
А сейчас, видел завлит, худрук подсел на штамп запугивания, надувается и явно перебирает, пережимает, или, как говорят на театре, плюсует – но зачем? «Меня, Осинова, напугать? Вряд ли получится, не станцуется у вас, Армен Борисович, несмотря на весь ваш талант, думал, не пряча глаза, завлит, видел я такое и привык. И „дурака включать“ здесь совершенно ни при чем. Я свое дело сделал: пьесу просили – достал, а что там будет дальше, и кто кого запугает – лукавая жизнь очень скоро и очень неожиданно покажет…»
– Меня волнует, о чем болтают в грим-уборных наши звезды, чем они дышат, Иосич, – встык, без разгона озвучил худрук. – Ты и я, мы два капитана на этом судне, я главный, ты – мой старпом, старший помощник… Ты включись старпом, помоги кораблю идти верным курсом, помоги капитану держать руку на компасе с ударением на «а». Короче, мне нужна информация.
– Я заведующий литературной части, – сказал Осинов. – Согласитесь, Армен Борисович, немного другая профессия. Мое дело пьесы находить.
Худрук прикурил от прежней, запалил новую мальборину и наставил на старпома проникающие рентгеном, понимающие глаза.
– Профессия у нас с тобой одна – любить свой театр. Но вижу: кашка бздит, как говорят в горах. Боишься или не хочешь? Вопрос: почему боишься? Или: почему не хочешь? Отвечу честно: не сам ли ты участвуешь в пускании слухов по театру, что я министру не по вкусу?
Прыгнули губы, Осинов невежливо и громко фыркнул. И опять его ткнула под дых тупая игла страха, и он быстро подумал о том, что сердце может не выдержать разоблачения. Однако, выдержало. Врать, врать, сладкое дело врать, сказал себе Осинов. «Вранье – сродни искусству» – Шекспир!..
– Оправдываться, Армен Борисович, не буду. Роль, которую вы предлагаете, она, конечно, яркая, увлекательная, рискованная, захватить может на всю жизнь. Однако дополнительной нагрузки не потяну, нет, своей работы хватает выше черепа.
Худрук задавил мальборину в пепельнице. Америка отлетела за океан.
«Говорит гладко, аргументирует, – думал худрук, – но, видит бог, не верю. Мама учила верить жизни, а людям не верить, так я и живу, потому в порядке. Посмотрим, подумаем, понаблюдаем, но то, что он отказался, я запомню. Отказался мне помочь – плохо, значит, совесть передо мной не чиста…»
– Ладно, Иосич, иди пока, работай, – сказал худрук. – Я «Фугас» почитаю. Это интересней. Если не подорвусь, позвоню.
12
Что такое хорошо – понимают все понимают в театре примерно одинаково, что такое плохо – все понимают по-разному.
Худрук был прав: открывать новую пьесу чуть ли не самое интересное театральное занятие. Читаешь первые строки неизвестного автора и всегда ждешь откровения и восторга. Открытия бывают не часто, редко, но иногда бывают, нежданная встреча с талантом всегда приводит в трепет, в желание действовать, играть и ставить – к сцене, к спектаклю, к зрителю, к успеху. К тому, что на время насыщается алчный червь честолюбия. Всеобщий космический червь.
Он прочел первые строки «Фугаса», они показались ему любопытными, потащили за собой. Он увлекся и потащился охотно.
Но самое любопытное произошло с ним через несколько быстрых минут.
В дверь постучали.
Он позволил войти, дверь скрипнула и на пороге заветного кабинета блистательной тенью возникла Вика.
– Здравствуйте, – сказала она. – Я к вам, Армен Борисович. Можно?
Ему давно нравилась эта девушка, он ее двигал, давал роли. Тонкая, стройная, искренняя на сцене, глаза-блюдца, исполненные правдой. И артистка неплохая.
Когда он впервые ее увидел, подумал о том, что формулу Достоевского о том, что красота спасет мир, он бы дополнил и уточнил: не всякая красота спасет мир, но именно эта – женское совершенство.
Когда он впервые ее увидел – ахнул вслух. Невероятно она была похожа на его любимую первую женщину, не на ту, что застряла в Штатах, а на первую и единственную любовь.
Гаяне…
Лицом была похожа, еще больше – улыбкой, манерой, движением; общаясь с Викой, Армен как в счастье переносился в драгоценные, безумные ереванские годы, к горячей Гаяне, лелеявшей ночами у груди юного Армена как любимую куклу. Глупостью был его отъезд на учебу в Москву, непоправимой глупостью было хоть на день расстаться с Гаяне – все это он понял сразу же, как только оторвался самолет от земли, и понеслись под крылом плоские крыши Еревана и заныло поздно услышанное сердце – он вернулся в Ереван через месяц, но Гаяне уже не нашел…
– Откуда ты такая взялась? – спросил он Вику, удивившись тому, как похожа она на Гаяне.
– Всегда была, Армен Борисович. Всегда была в вашем театре. Вы меня не замечали.
С того дня заметил. Полюбил и продвигал.
– Заходи, Романюк. Привет, красивая. Что у тебя?
Вика произвела два заинтересованных шага, улыбнулась направленно на худрука.
– Я слышала… – сказала она и сделала еще полшажка к столу. – Я слышала, у вас появилась интересная пьеса. Армен Борисович, я бы очень, я бы очень хотела в ней играть…
– Откуда ты слышала? – насторожился худрук.
– Юрий Иосифович сообщил…
Ни своему Олежеку утром, ни, понятно, завлиту она не рассказала о том, что собирается сделать. Знала, что пьеса уже у худрука, и мысль посетить самого пришла внезапно, по дороге в театр, времени на обсуждение не было, но было у нее актерское чувство, что идея правильная. «Бей по кольцу, Романюк, бей сама! Инициатива побеждает» – вспомнила она слова баскетбольного тренера Кошкина из недалекого небогатого своего детства и поняла, что вспомнила неслучайно. И вот она здесь, перед тем, кого нужно погубить, и она должна сыграть роль. Соблазнить и уничтожить – так выстроила она эту роль. Роль библейской Юдифи, великая, трудная, вечная, и у женщин всегда наготове. Соблазнить и уничтожить, но сначала – соблазнить, что, по большому счету, означает покорение мужского в мужчине и, если надо, уничтожение мужчины вообще.
А он глядел на нее с удовольствием. Много было женщин у народного артиста. Он не верил в любовь, говорил, что знает женской любви истинную цену, но, когда видел перед собой красивое и доступное, всегда охотно подчинялся воле основного инстинкта.
– Хорошо, Романюк, – мягко сказал худрук и обласкал ее глазами. – Твое горячее желание играть примиряет меня с действительностью – ты будешь играть в «Фугасе», дай только дочитать.
Она чуть не подпрыгнула от радости. «Точно все сыграла, правильно, – звучали в артистке слова, – Олег будет доволен». Приблизившись к худруку, хотела в знак благодарности слегка поклониться – вдруг увидела женским глазом, что воротничок его рубашки посекся и несвеж, а узел галстука по-стариковски съехал на бок. «Как у папы», – автоматом отметила Вика. Как у папы.
Комочек женской жалости нечаянно шевельнулся в ней.
С каким удовольствием, вдруг мелькнуло у Вики, я бы дотронулась до его воротничка, выстирала и отгладила бы его рубашку – даже пальцы, почувствовала Вика, чуть вздрогнули от такого ее желания. С детства любила она стирать, и гладить, утюг и глажка были ее любимыми занятиями. Но еще больше, редкий случай, Вика любила стариков.
Она выросла без рано умершей матери, с махонькой деревенской бабушкой – учительницей, привыкла к ее мятой седой голове, аромату застиранных платьев, к ее замедленности и негромкости, она играла с бабушкой, баюкала ее, спала с ней в ее кровати как с любимой мягкой игрушкой. Худрук совсем не был похож на бабушку, щеки его поросли колючей, сухой, седой щетиной, маленькие глазки резали лезвием, внешней симпатичности в нем не рисовалось никакой, но все же кое-что в нем было другое: он был великим артистом с нечеловеческим обаянием, и стоило ему открыть рот, как девушек до пят парализовало на любовь.
Рука ее снова самодельно вздрогнула; безотчетно и отрешенно протянулась она к узлу на галстуке, схватила его, сдвинула на правильное место и остановилась.
Худрук умолк. В предлагаемых – по Станиславскому – обстоятельствах сей жест прописан не был, и как его отыграть великий артист не знал.
Поняв, что сотворила, Вика поспешно отступила, словно отскочила на шаг, зарделась, и быстро-быстро принялась извиняться.
– Армен Борисович, я чисто автоматически, у меня папа военный, я привыкла к порядку. Извините!
Однако извиняться, оказалось, не требовалось. Он прочел в ее жесте подлинную искренность, оценил ее и обмяк.
– Ты меня извини, – просто отреагировал он, коснувшись галстука. – Торопился, не усмотрел. Бывает с нами, старыми…
И странными взглядами как бы по поводу галстука мгновенно обменялись они, взглядами, в которых недоразумение смешалось с любопытством и каким-то новым неясным смыслом – каким, обоим было непонятно, но оба вдруг сообразили, что этот смысл и есть отныне их общий секрет, который, даже не распознав, стоит поскорее забыть потому, что это недоразумение вызвало общее сковывающее неудобство.
– Иди, Романюк, – мудро сказал он и сразу сдвинул ситуацию с места.
– До свидания, – сказала Вика и быстро вышла.
И полетела по коридору, не желая быть замеченной посторонними глазами. Главного она достигла: играть в спектакле она будет, и глаза мужские худрука заметила на себе, а уж там она постарается… «Олежек может быть доволен», – подумала она. – «Что касается галстука – любопытно получилось», – думала она, – «и черт меня дернул? Впрочем», – решила она, – «черт иногда дергает весьма кстати и по делу». Шла и думала: начало хорошее, клюнул, но дальше, что делать дальше? И вдруг – опять черт? – придумалось, влетело в голову и сразу стало ей тепло и понятно: оно! Решение нашлось! Так она и сделает!
И народный худрук тоже думал о ней, списав происшествие с галстуком на ее актерскую, эмоциональную и, главным образом, женскую натуры, усмехнулся ее прелести, позавидовал ее юности – потому не примерил ее прелести к себе – и продолжил чтение забавного «Фугаса».
Но чем далее он внедрялся в предложенный завлитом шедевр, тем все более мрачнел и раздражался. Сперва чуть-чуть и слегка срывались с его губ вздохи неприятия и неудовольствия, потом однако, окрепнув, вздохи превратились в проклятия и достигли, наконец, полнозвучного и художественного русского мата.
Худрук отодвинул от себя спутавшиеся листы безобразия и закурил спасение свое, ароматную мальборину. «Они все сошли с ума, – сказал он себе. – Все, кто вокруг меня, – сумасшедшие», – сказал он далее. Затянулся и развил мысль: «Они считают, я сумасшедший тоже. Они ошибаются, сильно ошибаются…»
Снял трубку телефона, сказал одно: «Зайди».
13
«Госпереворот живет и крепнет», – думал иногда Саустин и гордился тем, что впервые в жизни занят не режиссерской и актерской фигней на сцене – любимой и приманчивой, но все же фигней – но серьезным, почти государственным проектом. «Госперевороты, как и все самое важное в жизни человека, – тонко подметил Саустин, – рождаются в творческих головах: поутру ли в теплой тачке, в бессонную ночь после перебора шашлыков, на футбольном ли матче под рев фанатов, у компа, в парной или на сладком женском теле – не важно когда, важно, что именно в головах творческих».
У него лично такая идея родилась в момент показа великому худруку отрывка из «Незабвенной» Ивлина Во, точнее в то мгновение сцены, когда герой – бальзамировщик, изобразив на лице трупа нежную улыбку, отправляет его по конвейеру своей возлюбленной гримерше.
«А хорошо бы, – взглянув на Армена, – непонятно почему подумал тогда Саустин, скинуть ненавистного худрука и самому рулить в театре. Тиранов – вон! – подумал и чуть не крикнул тогда Саустин. – Власть нуждается в периодической замене! Авторитаризм – на свалку истории!» – чуть не добавил он вслух! Идея показалась крамольной, преступной, даже антироссийской, в первые секунды напугала, но испуг испарился, а идея прижилась и стала рабочей. И товарищи у него сподобились надежные, пили, пили, говорили – водка и пиво надежно сплотили людей и вынесли их вместе к одному берегу, к единому мнению. «Завлит Юрий не подведет и не отступит», – анализировал ситуацию Саустин, скинуть тирана худрука и самому стать худруком – святое, жизненно важное для него, для его дальнейшего существования в театре дело. О Вике говорить не приходится, она влюблена в Саустина, он это знает, он огладил ее как кошку, и она как кошка побежала за ним… «А что же я сам? – спохватился Саустин, – я-то что делаю кроме высказанной решимости и полного одобрения? Мало, ничего практически не делаю, – разумно рассудил Саустин, – во вновь захваченном, то есть, простите, освобожденном театре, боюсь, и доля моя будет сообразна моим деяниям – минимальной. Главным режиссером худсовет, простите, хунта, может и не назначить, в лучшем случае назначит очередным, что означает, что тебе придется ждать собственной постановки в очередь с другим или другими режиссерами, в очереди, иногда растянутой на годы. Плохо, Саустин, – сказал себе Саустин, – очень плохо, догоняй, наверстывай, думай, что можешь предпринять, чтобы твое участие стало не словесным, но действенным, рисковым, и чтобы люди театра это оценили».
Саустин думал недолго, профессией в театре он владел только одной и потому решил ее использовать в полной мере.
Бриться не стал, щетина была подходящим гримом, он шел на бой, небритость – так его когда-то гримеры научили – придавала суровость и мужество.
Утилитарно натянул джинсу и отправился в высокий храм, то есть, в любимый театр.
14
Осинов остановился у кабинета худрука, привел в порядок мысли и собственную решимость до конца бороться за «Фугас» и победу, другого выхода и другой пьесы и другой победы у него не было.
– Не топчись в коридоре, входи! – услышал он знакомый хрусткий голос, вздрогнул и в который раз напугался охотничьим даром худрука. Через стены видит и чует дед, сказал себе Осинов и спешно потянул на себя дверь со знакомой медной табличкой на обитой кожей груди.
– Заходи, талантище, – садись, – мягко начал худрук, но Осинов хорошо знал, что скрывается за этой мягкостью.
Он сел в предложенное кресло и незаметно для худрука сжал руки в кулаки. «Сидишь, царь, – подумал он, – блаженствуешь в своем мягком кресле и не знаешь, что уже загорелся подлесок, что еще немного и, подхваченный ветерком, перекинется пожар на верхушки деревьев и остановить его будет возможно только одним, единственным средством: потерей царства…»
Армен Борисович закурил американку и поднял глаза на любимого завлита.
– Видишь, – сказал он, – снова курить стал. Из-за тебя.
Осинов пожал плечами и нейтрально усмехнулся милой шутке, другая реакция на ум не пришла, но та, к которой прибегнул завлит, оказалась правильной, позволила продолжить общение.
– Ты что мне принес? – стараясь быть дружелюбным, спросил худрук.
– Пьесу, – не моргнув, сказал Осинов. – Новаторскую пьесу.
– А кто такой Козлов?
– Автор. Мне неизвестен, но мы его найдем.
Худрук прочистил горло – плохая примета, отметил завлит.
– Знаешь, в Ереване случай был, – сказал худрук. – Старый «Москвичок» все болты на переднем колесе потерял, завихлял и остановился. Шофер, толстый такой армянин, вышел, увидел, чуть не заплакал. Вах, заорал, как ехать? Ни одного болта не осталось! А стоял он возле больницы психиатрической, невысокий такой желтый домик, все в Ереване знают. Шофер убивается громко, мамой клянется, а из окна второго этажа на него больной смотрит. Смотрел-смотрел, потом крикнул. Эй, говорит, шофер! Свинти с каждого колеса по болту – будет три, и поставь на то колесо, которое пустое. Три болта – до гаража доедешь, вах! Шофер прикинул и обалдел – как просто, как гениально и, главное, кто ему такое советует?! Эй, крикнул он больному, неужели ты правда сумасшедший? Сумасшедший, отвечает ему больной, конечно сумасшедший – но не дурак же!.. Вот так же и я, – скромно заключил худрук, – я, может, сумасшедший, но не дурак! Если это новаторская пьеса, то я Папа римский.
Завлит Осинов хорошо знал, что негромкое, почти шипящее словоговорение худрука есть предвестник взрыва – он благоразумно решил смолчать. Помогло не очень.
– Ты слышал меня? – угрожающе повторил худрук и протянул ему ворох спутанных листов с пьесой, – Вот, иди. Иди вместе с Козловым. И вместе с фугасом. Взрывайтесь на стороне. Желательно подальше, чтоб вонь в другую сторону понесло.
Осинов тянул с озвученным ответом, но внутри себя соображал скоротечно.
«Почему так гнусно устроена жизнь? – быстро соображал Осинов. – Почему вместо того, чтоб честно работать, я должен оправдываться, доказывать, внушать, убеждать приличного человека в том, в чем далеко не уверен сам? Где ты, Олежек Саустин, почему ты взвалил на меня это говнище? Да, я нашел ужасную пьесу, но все остальное должен был сделать ты. Приди и обаяй Армена, ты артист, любимый артист, у тебя получится лучше! Гадкая и постыдная жизнь – где она? Вот она перед вами, и я ее глупый носитель. А за окном идет красивый снег, и никто никогда не поймет, зачем он идет именно сейчас…»
Завлит еще раз взглянул на снег и решил изменить тактику.
– Как я вас хорошо понимаю, – сказал, наконец, он. – Со мной точно также сперва произошло. Я, когда читал Козлова, думал, с ума сойду. Писанину хотелось выкинуть, руки вымыть, выпить и поскорее забыть. Но на другой день я снова начал читать… Я прочел «Фугас» несколько раз и знаете, Армен Борисович, пьеса постепенно затянула, с четвертого раза показалась мне даже интересной, это, знаете, – Осинов по-идиотски хихикнул, сообразил, что по-идиотски, и снова взял серьезный тон, – я бы так сказал: это фугас замедленного действия. То есть, вы смотрите спектакль, плюетесь от возмущения, ходите в буфет, возвращаетесь домой, идете спать, а ночью он вас достает, цепляет, бьет и вы плывете в нокдауне. Редкая вещь, Армен Борисович, говорю я вам, достает исподтишка и сильно, до страха, извините, в мошонке, что она, мошонка, никогда более не понадобится. Приплюсуйте к тексту, который так хорош, вашу новаторскую режиссуру, вашу новую энергетику, наших артистов – да если ее правильно поставить, то уверен, что… Вы еще раз, пожалуйста, перечитайте – мнение ваше изменится. А уж поставить вы сможете, не сомневаюсь. Молодежный тренд, Армен Борисович, – так я вам скажу, и еще я вам скажу, что для движения театра вперед, нам надо обнулиться и обо всем забыть, хватит нам бронзоветь, начать надо заново, с нуля, Армен Борисович, с заповедного чистого листа…
И замкнулся, потерял слова. Увидел глаза худрука, увидел руку его, ожесточенно затаптывающего сигарету, приготовился к тому, что сейчас его выставят вон, и слов более не нашел.
«Черт знает этих молодых придурков, – теперь думал худрук, изучая лицо завлита, отмечая всегдашние его мешки под глазами, прыщ под левым ухом и общую некрасоту. – Может я действительно чего-то не понял? Да ведь не пьеса, глупость неприкрытая, графомания, никакого понимания сцены и актерской профессии, играть ее невозможно!»
«И зачем вообще мне все это нужно? – страдательно думал далее худрук. – Честь, почет, деньги, друзья – все у тебя есть, так зачем? На вершине славы сидишь, как на горе Арарат, так зачем? Нет, все мало тебе, мало! Дверью хлопнуть хочешь, шуму на Москву навести – этого хочешь? Честно скажу, хочу. А обосраться жидко в конце карьеры, не хочешь? Не хочу. Тогда зачем?»
Общение с худруком зависло в равновесии. Каждой стороне требовалось подкрепление для окончательного наступления или, наоборот, в отсутствие оного, тихого бегства с поля боя.
Завлит ждал, что пошлют подальше. Он сделал все, что мог, что обещал Саустину и Вике. Не пошло, не получилось, не охмурил мастодонта, не сумел развести. На подкрепление не рассчитывал – откуда? Значит, прощай переворот, мягкое кресло и должность худрука. «Ну и ладно, – смирился завлит, – не дано перепелу стать орлом, зато и геморроя от мягкого не будет. Нет худа без добра», – закончил размышления завлит и получил легкое умственное удовлетворение от того, что изящно закруглил переживания.
Но открылась дверь. И крупно, уверенно шагнул Саустин, и прямо к худруку. Заметив Осинова, мельком, как малознакомому, кивнул, будто еще вчера не пил с другом, не называл его Юрком.
– О, все начальство здесь. Привет-привет… Армен Борисович, слышал я, гениальная пьеса есть у вас для меня. Требую ознакомиться.
– Откуда слышал? – Худрук был удивлен.
– Театр говорит. Про какую-то бомбу. Что выходим на новые рубежи. Артисты суетятся, а мы, Армен Борисович, так просто не суетимся. Мы чувствуем, – добавил Саустин и без приглашения, а чисто как любимый артист, плюхнулся в кресло напротив худрука.
«Ах, как ловок, Олежка, как хитер!» – оценил саустинский заход Осинов. Вот оно подкрепление, лучше не бывает. Все чудно с этой пьесой – и само появление ее, и все, что происходит с ней далее, да и сама она, видимо, чудо, до которого мы все еще не доросли.
Натиск Саустина добавил сил.
– О как, Армен Борисович! – заново возбудился Осинов, – Артисты чуют! Артисты как дети, их не обманешь!
– Не повторяй чужие мысли, Иосич, – сказал худрук, а про себя подумал о том, что, может быть, Саустин прав и Осинов прав, а он, старый пень худрук, мышей уже не ловит, сбился он с крутых молодежных ориентиров и новаторских оценок. «Признание в собственной устарелости, – думал далее худрук, – страшная вещь, но наступает время, когда об этом стоит задуматься и признать – это много лучше, чем об этом задумаются другие». Знает он, знает, о чем мечтают эти молодые самцы – не задумываются даже, а так, на уровне подсознательных шевелений – мечтают они только об одном: скинуть его, старого волка. Им кажется, что у них все пойдет по-другому, успешней и лучше. Они дураки, им так только кажется, придет время и ровно по этой же причине их точно также скинут другие. Не новая мысль, которая всегда остается новой, подумал худрук и похвалил себя за трезвость подхода, а также за то, что все другие и прочие никогда не узнают об этой его глубоководной трезвости. Потому что, пока он у власти, им, оголтелым и борзым, хода не будет. Старость и молодость – злейшие друзья. И потом: зачем его скидывать или менять, если он лучший и заменить его некем? Завлитом что ли, этим несчастным Осиновым? Меняйте, жизнь пойдет еще смешнее. Со слезами на глазах…
– Чего же ты хочешь, Олежек? – спросил худрук.
– Ознакомиться, только и всего, – повторил Саустин.
– Имеет право, – подхватил завлит. – Не так ли, Армен Борисович?
– Конечно, – сказал худрук. – В нашем театре все возможно. Мы никогда ничего не запрещаем. Отдай ему пьесу, Иосич.
Сказал об этом мирно и наблюдал за передачей пьесы в руки Саустину с улыбкой, но внутри себя ненавидел Осинова жгуче. Через голову прыгает завлит, из штанов выпрыгивает завлит, на глазах всей улицы рожает завлит, только чтобы эту дрянь протащить на мою сцену – с чего бы, Иосич, так старается? – спрашивал себя худрук, ответить пока не мог, но мысль неприятная запала в голову.
Саустин принял пьесу с благодарностью.
– Предложение хочу вам сделать, Армен Борисович, – сказал он. – Если пьеса мне придется, доверьте постановку. А что? Мы круто заделаем молодежную премьеру, шум на всю Москву наведем, взорвем столицу смехом – как фугасом! Я смогу, Армен Борисович, вы меня знаете. Не смогу – вы поможете, на хрен нам режиссеры со стороны, в собственном нашем героическом театре они есть, уверяю вас!
– Имеешь в виду Слепикова? – усмехнулся худрук.
– Хорошая шутка, – усмехнулся Саустин. – Нет, против Гены я ничего не имею, но нужна свежая кровь.
– Меня свалить хотите? – от фонаря забросил вопрос худрук и попал в точку.
Внезапное его прозрение как взрыв фугаса над ухом. Саустин впал в ступор; ответить не смог, дернулся лицом и руками и очень искренне сыграл недоумение и обиду. Не сыграл даже, нет, прочувствовал душевно и весьма искренне актерским своим аппаратом запечатлел. И худрук полностью поверил любимому артисту, из чего можно сделать вывод, что талант всегда способен талантливо обмануть.
У талантов собственные разборки. Один талант талантливо вводит в заблуждение, другой талант талантливо верит.
– Идите и помните, – сказал худрук, – в нашем театре никогда ничего не запрещается. Больше скажу: почитайте сперва, потом потолкуем. Либо вместе руки отмоем от глупости и грязи, либо обмоем удачу армянским.






