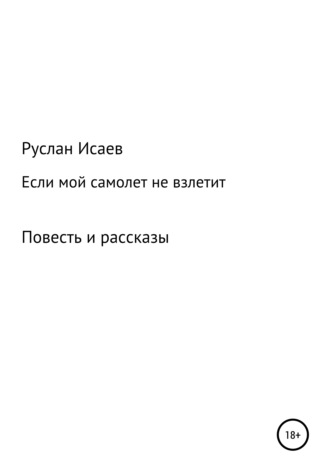
Руслан Исаев
Если мой самолет не взлетит
3 Наука как пирамида Хеопса
– Вставай, пора сваливать, – разбудил меня Толстый, – сейчас дневной директор придет.
Вместе с населением Девятки (а лучше сказать с "личным составом"), в— общем, со всеми этими биомеханическими куклами, я двинулся на работу, сжимая в кармане удостоверение жителя (читайте, завидуйте, я полноправный гражданин Девятки).
С восьми ноль—ноль до семнадцати ноль—ноль это население называется научными сотрудниками. Слово "научный" попало туда явно по недоразумению. Каждый день они получают десяток образцов, вставляют их в микроскоп, проводят положенные измерения и вычерчивают кривые— то есть делают работу, с которой успешно справилась бы дрессированная обезьяна. Множество выпускников хороших институтов занимаются в Девятке примерно такой научной деятельностью. Лаборатории Девятки набиты физиками, забывшими уравнения Максвелла, электронщиками, смутно знающими закон Ома, химиками, помнящими только, что метиловый спирт в отличии от этилового не пригоден для приема внутрь.
Годами эти специалисты приходят на работу только для того, чтобы нажимать единственную кнопку какого-нибудь прибора и следить за показаниями единственной стрелки. Их научная деятельность очень напоминает известные опыты по выработке условных рефлексов у морских свинок, где эти умные животные нажимают на кнопку возле кормушки.
Именно в таких местах, как Девятка, родилось открытие, что в XX веке науку делают большие коллективы. По своему опыту могу сказать: да, очень—очень большие коллективы нужны, чтобы такими очень маленькими, просто муравьиными, усилиями двигать науку.
Мы, коллектив лаборатории разработки компонентов управления, называли себя "детьми подземелья". Потому что помещение наше не имело окон и действительно находилось под землей. Солнца сотрудники лаборатории не видят по полгода. Зимой рабочий день начинается раньше восхода и кончается после захода солнца – край у нас довольно северный.
Два года назад, когда я пришел сюда после института, работа мне нравилась. Но меня с первого дня не покидало ощущение, что я здесь слегка посторонний.
Я не чувствовал искреннего волнения при обсуждении вопроса, почему отобрали червонец, доплачиваемый за вредность, или почему обеденный перерыв перенесли с двенадцати на тринадцать часов. В коллективе лаборатории отношения между людьми были довольно сложными, связанными с запутанными давними историями, как кому—то накинули десятку к окладу кого—то обидев при этом. Или как кого—то перевели из другого отдела по знакомству, что тоже было несправедливо. Во все это вникать было лень. Но зато благодаря тому, что я этим не интересовался и ни на что не претендовал, я прослыл хорошим парнем.
И все же в первую зиму после возвращения с учебы я с удовольствием выходил утром из дома, когда небо на востоке только начинало краснеть (из-за того, что красная часть солнечного спектра меньше поглощается водяным паром атмосферы) и пешком шел вдоль железнодорожных путей завода. Проезжающие мимо меня локомотивы изменением тона гудка наглядно демонстрировали эффект Доплера. Поскрипывал снег под ногами, когда я давил миллионы снежинок, своей совершенной формой обязанных прихотям полной энергии кристаллической решетки.
Часто мы выходили вместе с отцом, почти всю дорогу мы шли молча. Отец не мешал мне, считая, что я витаю в физических материях. В Девятке никто точно не знает, чем занимается родственник – подобные расспросы запрещены. Да, был в моей жизни год, когда батя меня очень уважал. Потом, махнув мне, отец поворачивал к остановке служебного автобуса на полигон реактивного движения, а я шел на свою проходную.
Я действовал по правилу стека—"приходящий последним уходит первым". Самым последним я приходил, потому что шел пешком, следовательно, мог не накидывать запас времени на ненадежность автобусов. Самым первым я уходил, потому что уходил вовремя, отработав ровно восемь часов. В лаборатории признаком хорошего работника считалось то, что он должен находиться на рабочем месте дольше других, менее хороших.
В этом есть смысл, потому что большинству сотрудников лаборатории вполне хватало часу—двух, чтобы справиться со всеми обязанностями, и, следовательно, каким-либо другим способом прилежного от ленивого отличить было трудно.
К тому же большинство дней в неделе кончалось какими-нибудь занятиями или учебами. То экономическими, то политическими, всех и не упомнишь. Я сразу отказался их посещать, сославшись на то, что в Правилах ведь написано, что занятия— это дело добровольное. Из-за чего прослыл невероятно смелым.
С удивлением я открыл, что я человек добросовестный.
–Хоть после кого-то можно не проверять, – говорил мне шеф.
Уже через полгода мое положение в лаборатории было очень прочным.
–Ты должен быстро сделать карьеру, – как-то похвалил меня шеф. Но, правда, добавил "если будешь серьезнее". Под этим он, видимо, подразумевал занятия после работы, которые я не посещал, и общий моральный облик.
И все же, легко войдя в работу, я так никогда не стал до конца своим в коллективе лаборатории.
Там существовала сложная система правил поведения, даже, можно сказать, правил приличия, которым я, ввиду своей несерьезности, не придавал значения.
Ровно в семнадцать ноль—ноль, по звонку, я начинал собираться домой.
–Уже пошел? – как бы с удивлением спрашивал Саня.
–А чего сидеть? – легкомысленно и неполитично отвечал я, – Пошли, чего сидишь. Можно подумать, ты делом занят. Или вот Нина Егоровна делом занята.
Конечно, ни Саня, ни Нина Егоровна не были заняты делом. Но Саня в тот год высиживал давно причитающуюся, как он считал, десятку к окладу.
Сказать же, что Нина Егоровна не занята делом, было вообще прямым оскорблением. Потому что Нина Егоровна никогда, ни до, ни после за все десятилетия своей трудовой деятельности не была занята делом. Поэтому слышать такое от меня, самонадеянного сопляка, ей было особенно обидно. Нина Егоровна дожидалась пенсии, а так как она действительно была абсолютно не нужна, то ей приходилось высиживать на работе гораздо дольше других.
Нина Егоровна относилась к жизни, как к грузу за плечами. Грузу, который придется тащить до самой смерти.
Вот так, всех обидев, и даже не понимая этого, я одевался и первым покидал помещение лаборатории.
Я считал всех этих людей очень мелкими, как, впрочем, считаю и сейчас, но потом я понял, что есть одна веская причина, из-за которой они стали такими. Дело в том, что каждый человек испытывает потребность глубоко интересоваться, быть очень занятым хоть чем-нибудь. Большинство работавших со мной людей просто не имели в жизни почти ничего, кроме этого подземелья. И простая человеческая потребность увлекаться принимала такую замечательную форму, когда смыслом жизни становится получение надбавки в пять рублей путем хитрых многолетних интриг.
В последнее время маленькие новости нашего террариума— кто получил повышение, а кого скушали, совершенно перестали меня интересовать. Шеф больше не говорил, что я быстро сделаю карьеру.
Кстати, к шефу у меня двойственное отношение. Чем-то необъяснимым он мне очень симпатичен, но по многим вполне понятным причинам я его совершенно не уважаю. Например, в сорок лет шеф бегает за автобусами, как школьник, опаздывающий на уроки. Ну да черт с ним, с шефом, он меня мало интересует.
В то утро я от Толстого забежал домой привести себя в порядок и позавтракать, в результате опоздал на работу на час. Было страшно неудобно, когда я звонил шефу с проходной, чтобы он быстренько бежал меня отмазывать. Шеф прилетел пулей и стал униженно тыкать охране увольнительную, якобы он меня отпускал. Дело в том, что на заводе для улучшения дисциплины придумали наказывать не только опоздавшего, но и его начальника.
4 Закон притяжения
На посту на проходной была Прекрасная Прапорщица. Эта женщина прекрасна как мечта о женщине. Эта женщина, глядя на которую понимаешь, что все другие женщины то ли слишком худые, то ли слишком толстые, что у всех других женщин неправильные пропорции и короткие шеи. Пилотка ей очень к лицу. Такой женщине все к лицу. Уверен, раздетая она еще прекрасней, чем в форме внутренних войск. Мы любим друг друга уже две недели – с первого взгляда, с тех пор как она появилась здесь. Я набираю личный код, в ячейке электромагнит отпускает мой пропуск. Я достаю пластиковый прямоугольник и подаю ей в окошечко.
Когда я подаю ей пропуск, я жадно разглядываю ее. Она отводит взгляд и смотрит на мою фотографию на пропуске. Мой пропуск в ее прекрасных руках.
Она не замужем. Это, конечно, не имеет для меня значения (это только все немного бы усложнило), но она не замужем, я знаю, – нет ни кольца, ни следов от кольца. Она вообще не носит колец. Пальцы такой формы не нужно украшать. Невольно я представляю, как эти пальцы дотрагиваются до меня, ласкают меня. Расстегивают рубашку, пояс. Я тоже краснею. Старый друг неудержимо рвется из штанов.
Ее грудь взволнованно вздымается, я впиваюсь взглядом. Она переводит взгляд на мое лицо – это трудно для нее, но таковы правила, таков регламент осмотра. Когда наши взгляды встречаются, нам трудно оторваться. Она подается вперед, меня тоже влечет к ней. Наши глаза выдают наши желания. Ее глаза— это когда все сразу знаешь о человеке, как будто прожил с ним жизнь. И как обещание, что все будет прекрасно. Но если она откроет рот – это сигнал тревоги. Если заговорю я – это попытка установления контакта с работником охраны. Выскочит старший прапорщик, начнется дополнительная проверка часа на полтора, составление протокола о дисциплинарном нарушении и лишении премии, короче, трэш и угар. Распорядок работы охраны и где они выходят по окончании – тоже государственная тайна, так что я даже не могу встретить ее после работы.
Когда я увидел ее первый раз, я испытал шок от счастья и боль разлуки. Как нам встретиться? Как нам узнать что-то друг о друге? Мою любовь отделяет прозрачная стена, непреодолимая как рок. На стене огромный плакат: "Разговаривать с караульным запрещено". Почему запрещено? Узнать невозможно. Самое главное табу Девятки – пытаться узнать, почему запрещено.
Она тоже не может узнать обо мне ничего – в этом пропуске только моя фотография и неведомый набор символов. Они означают форму допуска, ограничения прохода в выходные и ночные смены, запреты входа на разных объектах. У меня, например, много маленьких зеленых пентаграмм, кружочков и квадратиков с циферками, а у шефа они красные. Я не знаю, что они означают, но они маркируют наше положение в иерархии жизни. Чем их меньше и чем они крупнее – тем круче. У Таниного папы была одна большая красная звезда.
Моя любовь тоже не может узнать ни как меня зовут, ни где я работаю. Все это во внутреннем пропуске, который она не может увидеть, который я извлекаю из стойки после того, как она открывает турникет. Остается бродить по улицам в выходные, вглядываясь в лица встречных женщин. А может быть, она живет в городе и ездит только на работу? Нам суждено только видеть друг друга и никогда не встретиться? Когда я думаю о знакомых женщинах, я почему-то вспоминаю одну и ту же характерную черту. Например, когда я думаю об Анюте, я вспоминаю ее попу, обтянутую красным платьем (старый друг привычно делает стойку). Когда я думаю о прекрасной незнакомке на проходной, я вспоминаю эти глаза.
Я знаю, влечение может обмануть. На третьем курсе на лабораторных по охране труда я встретился взглядом с незнакомой девушкой с физико-химического факультета. Я молча положил измеритель загрязненности воздуха, а она измеритель уровня шума, и мы помчались в общежитие. Никогда не было призыва сильнее. Но это чувство умерло на следующий день. Нам стало невыносимо скучно друг с другом. Скука была не менее сильной, чем призыв. Я даже не помню, как звали эту девушку.
И вот на нашей проходной, после множества чужих глаз, в которые я смотрел на протяжении своей жизни, я встретил глаза, которые принадлежат моей женщине. Обладательница этих глаз не может быть глупой, скучной, недоброй, не моей. Господи, спасибо тебе за это мгновение, когда она держит пропуск в руках и смотрит мне в глаза! Открывается последний турникет, и я выхожу из проходной весь в чувствах. А тут трескотня моего шефа. Вместе поперлись мы на испытательную станцию. Молчали, о чем нам разговаривать? Шеф весь извелся— даже просто молчать с человеком ему трудно. Ну как его уважать?
5 Красный свет
Кстати, а как же что-то все-таки летало в космос, стреляло и взрывалось, спросит мой пытливый потомок, которому весь этот текст кажется фантастикой и гротеском. Ответ простой: в каждой лаборатории Девятки есть как минимум один странный человек. У нас их двое (было трое, но я выпал из обоймы). Это шеф и Витя. Итак, мы все получаем по двести рублей. Будешь работать или не будешь – все равно по двести. Если начать работать, можно наделать ошибок и лишиться премии. Как поступим, товарищ?
Но есть Витя – человек, которому интересно. Простому человеку трудно представить, на что способен человек, которому интересно. Когда Витя разворачивает схему, которую он набросал в выходные, мы все чувствуем, как далеко оторвались отдельные экземпляры нашего вида от основной массы приматов. Все-таки большинство этих людей специалисты. Хотя для Нины Егоровны схемы Вити – это просто тараканчики со стрелочками. Дома, кстати, работать или держать любые рабочие материалы запрещено строго—настрого. Но Витя ничего не может с собой поделать.
Вообще русская жизнь основана на чуде, что всегда вовремя находится человек, который затащит, совершит невозможное, слетает в космос, ляжет на амбразуру. И остальные скажут «ай, да мы».
Шеф – это немного другое. Он тоже может. Но для него это как основа жизни, как опора. Он не так талантлив, как Витя. Он овладел этим через силу, через труд. Это стена, отделяющая его от хаоса. Для Вити это удовольствие, для шефа – обязанность, но обязанность, которая делает его статус. Шеф не знает, чем он будет, если лишится работы.
Я тоже могу. Но не хочу.
Только разделся, позвонили из комитета комсомола, просили зайти. Шеф сказал "велели зайти". Я его поправил "попросили зайти". Как он меня терпит? Специально не спеша собрался, размышляя, почему старый приятель меня давно не вспоминал.
С нашим секретарем мы вместе занимаемся в спортзале, он иногда вызывает меня к себе поиграть в шахматы. Делал он это, разумеется, через секретаршу, он вообще умел бездельничать с очень занятым видом. Настраиваясь на партию (Толик играл отлично), пошел по бесконечным пустынным тоннелям в заводоуправление.
–Одну секундочку, я спрошу, свободен ли он, – сказала секретарша Юлечка.
Я заулыбался: ха—ха, свободен ли Толик. Если он ее не трахает и не сидит на совещании, значит свободен. С другой стороны, удивило, что встретила как неродная. Уж знала, чем я с ее начальником занимаюсь.
Лицо у Толика было очень озабоченное.
–Что-то вид у тебя, как будто не в шахматы со мной собрался играть, а обсуждать создание строительного отряда, – сказал я, широко улыбаясь.
–Я не в шахматы собрался играть, – сказал Толик, сморщившись брезгливо, как будто ему неприятны и шахматы, и воспоминание о том, что мы с ним играли.
Я сидел очень удивленный, Толик Вообще-то нормальный.
–Вот, старик, ты должен подписать одну бумажку, – он протянул листок.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я _______________ (Фамилия, имя, отчество)
член рок (поп) группы ____________ (название)
даю подписку в нижеследующем:
1. Я обязуюсь публично не воспроизводить и не прослушивать песен, изготовленных лицами, не являющимися членами союза композиторов, а также песен, не одобренных советскими и партийными органами.
2. Обязуюсь не изготавливать музыкальные произведения самостоятельно.
3. Дэвид Боуи – извращенец и бездарный пропагандист бездуховного западного образа жизни.
Подпись __________ дата ___________
Я прожил здесь всю жизнь, но иногда я как неродной. Я стоял и туго соображал – это серьезно, или это розыгрыш старого товарища.
–Да ладно, кончай, – сказал я с неуверенной улыбкой.
Толик утвердительно качнул головой, мол, серьезно, надо подписать.
–А почему Дэвид Боуи, а не, скажем, Пол Маккартни? – спросил я.
–О Дэвиде Боуи вышла статья в «Комсомольской Правде». А о Маккартни там ничего не было. И вообще, Маккартни – это святое, – я опять не понял, серьезно ли он это говорит.
Да кто такой мне этот Толик? По сути, малознакомый человек, с которым мы страхуем друг друга вечером в спортзале, когда делаем жим лежа с большим весом, и иногда играем в шахматы. А Дэвид Боуи мне дорогой друг, старший товарищ, близкий человек! Толик совсем охренел, если думает, что я могу предать брата.
– Я хочу тебя выручить. Говорю, как другу. Подпиши и выполняй, – сказал Толик, ставший каким-то совсем чужим, несмотря на то, что назвал меня другом.
Бедняга боялся знакомства со мной. Я встал и вышел. Не все карьеристы трусы. Даже я бы сказал, нужно не быть трусом и уметь рискнуть, чтобы сделать карьеру. Толик не был трусом, я знал это.
С Анютой из-за ее страстности и взбалмошности у нас вышла некрасивая история, и он выручил меня. Мы расстались с Анютой довольно странно. В одно из наших свиданий она вдруг заявила, что ждет от меня ребенка. Это было неожиданно, мы предохранялись. Мне стало тоскливо – это была первая непосредственная реакция. Не сильно, слегка, как тень, но я понял, что не хочу быть с ней. "Теперь мы можем не предохраняться, раз уж я жду от тебя ребенка", – сказала она. Мне стало скучно и почему-то показалось, что она врет. Аллилуйя, я был прав – вскоре начались месячные. Анюта страшно разозлилась. Ее поступок показался мне странным и непонятным. Барьер между нами в виде зрачков, в которые смотришь, который я всегда чувствовал, оказался непреодолимым. И я скрылся в своем замке из колючей проволоки.
Когда прекрасный принц исчез в логове дракона, Анюта разразилась письмом в комитет комсомола. Толик вызвал меня в кабинет и дал почитать.
–Юлька рыдала, когда читала, – сказал он.
Я понял Анюту именно тогда, когда читал эту тетрадь. Это был большой текст, тонкая тетрадь, почти полностью исписанная. Без исправлений – текст был переписан набело почерком отличницы. Может ли почерк быть эротичным? Анютин был. Он был какой-то такой, как ее зад совершенной формы. Эротика проступала везде в ней и во всем, что она делала – это был ее талант. Там были вот эти ее смутные надежды, и готовность и желание следовать за мной. Да, она была обо мне, о моей жизни и моей семье странного восторженного мнения. Она бывала несколько раз у меня (я делал ей гостевой пропуск в Девятку на сутки) и была знакома с родителями. Мать относилась к ней приветливо, но настороженно. А папаша глаз не мог оторвать от ее зада в красном платье, ну так не ставят светильник под стол, а ставят на видном месте, чтобы светил людям.
И наивная надежда на то, что я ключ к ее будущему. Я не соответствовал ее смутной шикарной мечте, но я ее понял. И просьбы меня вернуть и призвать к порядку. И какой я мерзавец, и подлец, и воспользовался. Про ребенка, правда, не писала.
И себя я тоже понял именно тогда, понял, что так привлекало и отталкивало меня. В Анюте было что-то от вещи, и она сама относилась к себе, как к дорогой вещи. Обладание которой льстит. Как к красной спортивной машине. Ее цвет был красный. Анюта была вещью, которая хотела сама выбирать хозяев. Ее так задел мой уход, потому что подорвал ее веру в то, что все хотят ей обладать.
И везде в этом тексте проступала ее страстность, и странная логика (странная, хотя она была умна), и эротика, эротика, эротика. Кстати, то, что кукла умна – это тоже было эротично. Но все было очень искренне, она вообще была очень искренним человеком. И хорошо написано. Я же говорю, Россия – страна слова.
Анюта была первым человеком, которому нравилось то, что я делаю. Действительно нравилось, и не потому, что она хотела меня или льстила мне. Тогда у меня была всего пара песенок – так, талант заметен, не более того. Я любил импровизировать – дурачиться перед ней. Так что она была и первым зрителем. Это ее, кстати, возбуждало. Это были хорошие минуты: лежа на подушках я играю стандарты на гитаре, на ходу придумывая слова, Анюта делает минет – чудесно! Ну не жениться же из-за пары приятых минут?
Я всегда подозревал ее в том, что она хочет за меня замуж, потому что это открывает путь в Девятку. Я думал, поэтому она придумала всю эту историю с ребенком.
Пока я читал (заявление, донос, мольбу?), я разогрелся, и возбудился, и даже мелькала мысль "а что мешает еще разок". Но тогда, в комитете комсомола, я понял, что, несмотря на ее расчетливость и меркантильность, Анюта хотела от меня ребенка просто потому, что иногда женщина хочет ребенка от конкретного мужчины, потому что она женщина. Я понял, что это слишком серьезно. Поэтому я залег на дно, выключил передатчик, убрал антенны, и никогда больше не встречал ее, хотя она пыталась меня достать.
–А ты знаешь, это здорово, – сказал я Толику, – Будь другом, отдай мне тетрадь.
–Да, ты вызвал в ней чувства, – сказал Толик, – не могу отдать. Я ничего не отвечу. Положу в стол. Либо она отстанет, либо ты уладишь как-нибудь с ней.
Я же говорю, Толик был необычным секретарем. На этой должности он смог остаться почти человеком.
Когда я в тот раз выходил мимо Юли, она посмотрела на меня с интересом и выражением "вот сволочь" на лице. А в этот раз Юля отвернулась, как будто мы незнакомы.
"Что Толик хотел сказать этой распиской?"– думал я.


