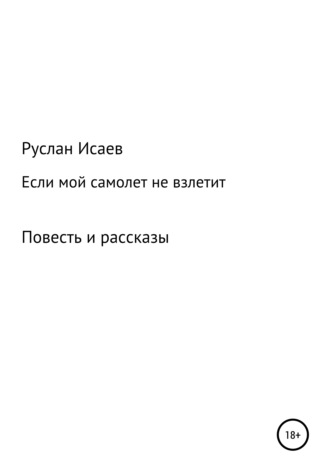
Руслан Исаев
Если мой самолет не взлетит
Если мой самолет не взлетит
Неоконченная поэма для электрической гитары
1 Пляж
Я, собственно, и занялся музыкой, чтобы не заниматься литературой. Чтоб случайно не сболтнуть что-нибудь умное.
Сколько было в России людей, которые так прекрасно, так умно и так много говорили! Мне кажется, предыдущую цивилизацию и погубила ее излишняя болтливость. Нынешняя наша цивилизация почти бессловесная. Там, где раньше так много и красиво говорили, раздается одно мычание. Да и вообще, когда самый умный человек много говорит, постепенно становится заметно, что он не так умен, как на первый взгляд. А может, он глупеет в процессе.
Ну и что? Болтали-болтали, а чем все кончилось? Разоренная, пустынная страна. Как любит говорить Толстый, "по плодам их узнаете их". Или что-то в этом роде, но мне страшно понравилось.
Кстати, Толстый сказал еще: "Ты мне нравишься еще и потому что у тебя на лице написано, что тебе не нужно ничего, кроме баб, свободы и гитары". Вот такой романтический портрет меня набросал мой друг. Но, правда, когда мы уже изрядно выпили. Честно говоря, я бы много отдал, чтобы соответствовать этому портрету на сто процентов. Но я уже давно чувствую что-то такое мешающее. Мне все чаще не хватает чего-то такого, что я и не знаю, как назвать и где искать.
Как-то становится грустно, когда подумаешь, что мне уже двадцать четыре года, и как-то нет никакого итога. Какое-то идиотское чувство, что я должен что-то сделать. Вот я и бренчу на гитаре по нескольку часов в день. Но до сих пор нет ничего, что я мог бы показать самому себе и решить "да, это гениально".
И я бы даже не пытался на этом бабки стричь или славу зарабатывать (наверное (ну постарался бы, по крайней мере)). Я бы вот так запросто ходил на завод и только знал бы, что я гений. Даже не часто думал бы об этом. Ну, гений и гений, подумаешь. Мне выговор, или премии лишать – пожалуйста, а зато я точно знаю, что я гений. Я бы только мысленно поплевывал на них, тихонечко так: тьфу-тьфу. Но никогда б ни одним мускулом лица этого бы им не выдал (как разведчик). Очень, очень скромно бы себя вел.
И главное, что двадцать шесть лет мне уже через два года. Я почему-то боюсь этой цифры. В ней есть что-то незавершенное, нецелое. Да и Лермонтова хлопнули в двадцать шесть. А он, кстати, был не болтун.
К концу рабочего дня я получил аванс, на проходной меня встретили Женька с Толстым, так что мы с такой радости взяли коньяку, потом закончили вечер в "Атоме”. Потом Толстый попросил у меня взаймы, так что утром в моем новом кошельке нашлось только несколько мятых бумажек.
Ночью мне снился дурацкий сон, как будто я забыл код своего пропуска. Как будто я стою в проходной со жгучим ощущением стыда. И в проходной какое-то тяжелое черное небо, или потолок, я пытался всмотреться, но не мог разобрать. Сон, повторяю, совершенно идиотский. Невозможно представить, чтобы житель Девятки забыл код своего пропуска.
Утром ощущение стыда не отпускало. Как я ни гнал эту тень, в какие логические рассуждения ни пускался, но вот с упорным чувством неловкости ничего поделать не мог. Даже не мог понять, откуда это. Утро вообще началось с сильнейшего приступа желания все изменить. Вдруг захотелось начать какую-то совсем новую, солнечную жизнь. Мерещились какие-то места, где всегда тепло, где люди веселятся без вина, где на лицах отражается что-то кроме тупой заботы. В-общем, все было как обычно с похмелья.
Я позвонил на работу и взял отгул. Голос шефа звучал несколько раздраженно. Он всегда завидовал тому, что я вот такой свободный человек. Потом я пошел выпить пива в шашлычную возле монумента Юрию Гагарину.
После пары кружек желание все менять показалось суетным. Денек был так хорош, женщины на улицах так красивы, приходила мысль о том, что нужно просто уметь ценить то, что нам дано. Пусть это не новая мысль, пусть я сам неисправимо тривиален, как на каждой репетиции доказывает мне Жека, плевать. Жека же у нас утонченный интеллектуал. Когда они с Толстым говорят об искусстве, я слегка завидую: откуда у людей столько умных мыслей? Поэтому в их присутствии я молчу обычно. Да я и не претендую на оригинальность своих мыслей. Претендовать на исключительность своих мыслей, по-моему, как музыканту предъявлять авторские права на ноту «фа».
Я вышел с территории Девятки через западную проходную на пляж искупаться в реке.
Я всегда хожу купаться именно на этот дикий пляж возле западной походной. Мне нравится, что здесь почти не бывает людей. Западная проходная используется главным образом тяжелыми грузовиками промышленной зоны. И если сесть спиной к забору Девятки, то видишь большую пустынную реку и обширную местность за ней, поросшую соснами. По реке плывут теплоходы и баржи. Почему-то у меня этот довольно холодный сибирский пейзаж всегда вызывал прилив сил и ощущение бесконечной свободы, доходящее почти до восторга.
"Нельзя хотеть слишком многого», – уговаривал я себя. "А я все равно хочу". Я перебрал знакомых женщин, но это было, пожалуй, не то. К тому же (еще один тревожный признак) я стал замечать, что если мне чего-то не хватает, то не обязательно женщины. Старею. Ищешь родства душ, а находишь только близость. После чего бывает неловко и скучно.
Но вот интересно, жизнь вроде потускнела, а все ярче во мне чувство, что она изменится неожиданно к чему-то очень хорошему.
Я взял на пляж томик Толстого (писателя Льва ТолстОго, а не нашего современного философа и мыслителя (и моего друга) ТОлстого). Это старая вещь. Хотя очевидно, что если вещь, то старая. Это относится ко всему – и к материальному миру, и к нематериальным произведениям. Одним из главных свойств окружающей меня цивилизации как раз и было то, что она разучилась производить настоящие вещи. И даже более того – люди даже забыли, какой бывает настоящая вещь. Это относится даже к колбасе – пределу мечтаний жителя нашего провинциального Города Солнца. Даже в магазинах Девятки она бывает всего двух видов: "по два—двадцать" и "по два—девяносто". "По два—девяносто" – довольно годная вареная колбаса. "По два—двадцать" – смесь жира и целлюлозы, пойдет, если водкой запивать. В спецмагазинах для таких успешных парней, как Танин или мой папаша, куда можно войти только по пропуску с большой красной звездой, бывает копченая колбаса нескольких видов. Представьте, там бывают даже абрикосы и персики. Даже апельсины, которые продают в Москве на Новый год. На счастье простого народа, рецепт главного национального продукта питания прост: сорокапроцентный раствор этилового спирта. Даже дурак справится.
Может и я никогда не узнал бы, что такое настоящие вещи, если бы не Танина семья. У моих родителей до последнего времени не было ничего. Хотя мать это тяготило. Но отец ругал ее за самые ничтожные покупки – он считал, что нужно быть налегке.
Если смотреть с пляжа в другую сторону, то на берегу увидишь коттеджи Дворянского гнезда. Там живут наши великие ученые. Это очень уютный поселок из коттеджей, расположенных как бы на окраине леса (хотя на самом деле в двухстах метрах за ними забор Девятки) столь тактично, что из окон этих чудесных домиков совершенно не видно ни проходных, ни заборов из колючей проволоки, ничего такого отвлекающего от ученых размышлений.
Когда я смотрел туда, я чувствовал легкий сердечный укол. За многими из этих дверей, я знал, еще скрываются остатки другого мира. Многого я бы не знал, или узнал бы позже, если бы не бывал в одном из таких домов почти ежедневно, когда заканчивал школу. Да и сейчас за одной из этих дверей живет моя несравненная Таня.
Единственная женщина, которую мне выпало любить. Давно это было, уже почти забыл, кажется, что возможности любви на каждом шагу, да и, честно сказать, очень хочется любить, но вот с тех пор не случалось. До момента, пока я увидел свою Прекрасную Прапорщицу. Боже, какой я был тогда молодой! Сколько мне было? Пятнадцать, шестнадцать. Как быстро пролетело время. Вот уже двадцать четыре. А как сейчас помню тот день, когда я пришел в школу (в восьмой класс, после того как мы здесь поселились), и меня посадили с Таней.
В ней была одна любопытная черта. Как многие выросшие в Девятке люди Таня страдала своеобразной разновидностью боязни открытых пространств. В глубине души она считала, что Девятка— это единственное место, где можно жить. Даже более того—это единственное место, где живут нормальные люди.
Мир за забором казался ей враждебным и странным. В этом мире люди резали и убивали, воровали, валялись пьяные в канавах, в общем, вели себя по-свински. И, между прочим, если сравнивать Девятку и город, то она была не так уж далека от истины.
К тому же она, как многие горожане, панически боялась животных: коров, гусей, петухов и даже кур.
Она никогда не рискнула бы в одиночку поехать в другой город в поезде, то есть в нашем обычном сибирском поезде, где едут бандиты, бывшие заключенные, где наблевано в тамбуре, и проводница (на вид страшней любого бывшего заключенного) торгует водкой.
И даже был еще один, более узкий круг, покидать который было немного опасным приключением – это был хрупкий и воздушный мир ее семьи. За пределами этого круга люди были жестоки, постоянно делали друг другу пакости. И все это было так мило и трогательно в ней. Так привязалась она ко мне, может быть, по контрасту.
В ее доме все было непохожим на то, к чему я привык. Во-первых, он казался мне необычайно роскошным. До этого я обычно пользовался библиотеками военных городков. Там было много книг, если считать книгами "Уставы внутренней и караульной службы", и тома серий "Подвиги советских воинов" и "Мемуары военачальников", написанные, казалось, одним человеком – тупым и косноязычным. Но книгу, которую можно почитать, там нужно было выискивать как самородок в куче шлака. Таким образом, при словах "наша библиотека" мне вспоминается, как мать упаковывает книги в посылочные ящики во время наших бесконечных переездов. Нашу библиотеку, которая помещалась в шкафчике, мы с матерью несколько раз прочитали от корки до корки, так что она служила только для того, чтобы ее упаковывать и распаковывать на новом месте службы отца.
Сам факт, что личная библиотека может занимать целую, специально отведенную комнату, меня глубоко поразил.
Во-вторых, в этом доме было множество мелочей, которые можно было встретить только здесь. Всяких таких старинных штучек, ни названия, ни назначения которых я не знал.
И отношения в их семье также удивляли меня.
Танин папа принадлежал к элите научной элиты. Этот прекрасный и умный человек придумал столько оружия, что им можно было бы несколько раз уничтожить Землю. «Я просто решатель задач», – вздохнул он как-то в разговоре со мной. Танин папа все прекрасно понимал, но что поделаешь, если жизнь так устроена.
Он был очень приятным человеком. По складу души он был похож на некоторых моих знакомых, бывших хиппи и панков, которые по-настоящему поняли жизнь, одели строгие костюмы и успешно сделали карьеру.
Юмор Таниного папы был умным, тонким и безграничным. Ко всему-ко всему он умел относиться с юмором. К Таниной маме Танин папа относился с некоторым превосходством, впрочем, веселым и как бы шуточным. Мама к этому привыкла, а вот Таня иногда раздражалась. В своей дочери он, кстати, души не чаял.
Хотя вроде жизненный успех был налицо (пусть даже засекреченный), Танина мама жалела папу, боялась его обидеть, и вообще относилась к нему, как умная любящая жена относится к хорошему, но неудачливому мужу. Их отношения отличались тонкостью, интеллигентностью и боязнью обидеть. Они действительно скучали друг по другу, если не виделись хотя бы два дня. Они любили доверять друг другу свои тайны. Они подолгу беседовали вечером за чаем.
Рядом с ними я чувствовал себя неловким и грубым. Что поделаешь, я вырос среди других людей. У меня тоже хорошая семья, но другая.
Все это было удивительно. Но самым удивительным было то, что я сразу почувствовал, что это есть разновидность того, что хорошо и правильно. Все счастливы по-своему. Только несчастные похожи – что может быть интересного и особенного в несчастье?
Танин папа был настолько крут, что даже не боялся рассказывать мне о проектах, над которыми он работал. В свое время он был противником самого Сахарова! Он считал идею Сахарова смыть Соединенные Штаты с помощью гигантского цунами бесчеловечной и бесполезной для народного хозяйства. Танин папа предлагал с помощью космического электромагнитного резонанса зажарить американцев в гигантской микроволновке. И победителю достанется все – авианосцы, автомобили и рестораны Макдональдс.
После уроков мы сидели в Таниной комнате, раскрыв учебник (считалось, что я помогаю ей заниматься математикой и физикой), и часами разговаривали о чем попало. Иногда Танина мама, постучав, входила с чаем и говорила почему—то шепотом: "Занимайтесь, занимайтесь". И уходила чуть ли не на цыпочках. Нам становилось очень смешно.
Потом Таня осталась в Девятке, а я уехал. Было очень жаль расставаться с Таней, но уехать хотелось сильнее. Все же само собой предполагалось, что мы вскоре поженимся. Почему-то мне казалось, что спешить незачем.
На каникулах второго курса Таня вдруг заявила мне, что я недостаточно деловой. "А мужчина должен быть деловым,"– сказала она. Тогда я ей сказал, что ничего никому не должен. Мы заспорили и поссорились.
Я не понял, что у нее тогда уже появился этот самый деловой мужчина. А потом я узнал, что она вышла замуж. На чем и конец моей юношеской истории любви. Я очень переживал. Но потом я постепенно понял, что мы не были бы счастливы. Теперь, когда мне двадцать четыре, я не представляю ее рядом с собой. Все в жизни правильно, даже если мы хотим по-другому.
Да. Вот такая волна воспоминаний накатила на меня в тот момент. За одно я благодарен судьбе – что я никогда не сомневался в том, что я единственный нормальный человек среди странной толпы. Я знал людей, которые в этом засомневались – тогда смерть от водки наступала очень быстро.
Да, я никогда не считал себя самым умным – я считал себя нормальным.
Может быть, я и любил подолгу сидеть на пустынном пляже возле западной проходной, потому что именно здесь испытывал чувство глубокого удовлетворения от того, что все так удачно сложилось в моей жизни. Хотя что сложилось и почему удачно, сказать трудно.
А может быть мне здесь так хорошо, потому что все это чем-то напоминало любимое место моего детства – холм в пустынной степи на юге, где мы прожили несколько лет (отца отправили туда командовать ракетным дивизионом).
В матовых окнах стеклянных башен научного центра уже неярко отражалось склоняющееся к вечеру солнце, а я все сидел на берегу, держа томик Льва Толстого на коленях, глядя на несущуюся мимо массу воды и не думая особенно ни о чем. Постепенно мне стало хорошо. Не хотелось никуда и не хотелось ничего. Плыли баржи с углем в направлении на север, ревели моторами грузовики в транспортной проходной перед тем, как исчезнуть в тоннелях промышленной зоны. Овчарка охраны, мощное и красивое животное, подбежала обнюхать меня и лизнула шершавым языком. Я не боюсь ни собак, ни людей. Песок под спиной был мягким и горячим. Жара была сибирская – уютная и недолговечная, как цветы сакуры.
Я невнимательно читал "Отца Сергия". Мне мешало сосредоточиться чувство полноты жизни, охватившее меня. Проблемы героев Льва Толстого казались смешными. Все это не имело к жизни вокруг никакого отношения. Сам представь: там один офицер собирается жениться. Невеста сообщает, что у нее был мужчина – сам царь Николай Павлович. Мало ли с кем спали наши женщины, перед тем как встретить нас? Не сильно, видно, он ее хотел. Но это парит нашего героя, и он уходит в монастырь. Зачем, почему? Назло кому? Сергий не выходит из кельи несколько лет, то ли расстроился, то ли боится открытого пространства, то ли боится людей, то ли правила такие, у автора не до конца раскрыто. Ну, это я тоже могу понять: у нас в доме есть пожилая женщина, которая несколько лет не выходит из дома (такая фобия), все ей приносит дочь. Но там, в повести, его никто не лечит, наоборот, окружающие решают на этом основании, что Сергий святой человек. Потом кульминация. Городская барышня – взбалмошная, глазки, губки, ветер в голове (типа Светки) проезжает мимо и решает соблазнить Сергия. Так, ни за чем, ради смеха. Это я тоже понимаю, Светка на такое запросто способна. Вообще довольно живой образ на фоне общей мертвечины. Да, Сергия называют "старцем", а по моим расчетам ему должно быть не более сорока. Ну, короче, у довольно молодого "старца" старый друг рвется из рясы на свободу. Сергий берет топор и рубит себе (не то, что ты подумал) палец (указательный). Тут дама раскаивается, жалеет Сергия, просит прощения. Ну, это уж совсем не натурально! Хотя, если представить: залетает к тебе ночью всклокоченный здоровенный монах с окровавленным топором и отрубленным пальцем – тут даже Светка упала бы на колени прощения просить. Многие от ужаса начинают резко раскаиваться и прощения просить, это я видел, но жалость то при чем? Ну, в общем, сцена не проработана. Мне стало неловко читать дальше – я всегда краснею, когда читаю об извращениях. Либо, когда вижу извращения в авторе. Я понял вдруг, что Толстой считает женщину исчадием ада, созданную на погибель человеку – мужчине. Взгляды Толстого эволюционировали в течение жизни – в "Войне и Мире" он только слегка презирает женщин (пахнущих молоком млекопитающих, живущих инстинктами, предназначенных для выкармливания человеков – мужчин с мыслями). В "Отце Сергие" он уже считает их исчадиями ада. Я посмотрел дальше: и точно, развязка в том, что Сергия соблазняет молодая шлюшка—нимфоманка, пришедшая на прием поговорить о бессмертии души. Вот это прямо как у меня – со мной тоже женщины часто начинают с разговоров о высоком. И заканчивают (надо же о чем-то поболтать после того как). Но Сергий пугается (педофилов нигде не любят), становится бомжом, его ловят мусора при проверке паспортного режима (смотри-ка, хоть что-то в России неизменно за последние пару веков). Сибирь за тунеядство. Слащавый конец: в Сибири Сергий живет жизнью простого человека, обретает покой. Толстому удаются шлюшки (вспомним «Воскресенье») – он любил этот тип женщин, считал это женской сутью. А может, мечтал о такой. Интересней было бы, если в Сибири Сергий находит женщину (ссыльную, бывшую проститутку, настоящую секс-бомбу) и живет с ней. Но это, пожалуй, ближе к Достоевскому.
Русские судьбы, горящие как спички, не дав ни света, ни тепла.
Подчеркивая архаичность текста, далеко за лесами на другой стороне реки с полигона реактивного движения стартовала ракета. Какое отношение может иметь Отец Сергий к стартующей в голубое небо ракете? Почему Сергий не строит железные дороги и броненосцы, не торгует с Китаем, не осваивает Сибирь, не основывает банки и акционерные общества? Какого хрена он сидит у себя в келье, даже если его девушка дала другому?
Но за сто лет произошел тектонический сдвиг – из употребления ушло слово "похоть". К счастью, это слово позади в мрачных веках человечества.
Я никогда не понимал, почему нужно побежать плоть. Я считаю это в лучшем случае заблуждением. Даже хуже – грязью, извращением сути жизни. Единение мужчины и женщины – доступный любому луч из Рая. Кто считает это грехом и мерзостью – отворачивается от Создателя. Умерщвление плоти – заблуждение, а призыв к этому – великий грех, попытка растоптать суть жизни. Это извращение встроено в большинство людей в раннем детстве, когда их бьют ремнем за то, что они залезли себе в трусы. Друг, помнишь, как ты испугался, первый раз неумело испытав оргазм, запершись от родителей в ванной комнате? Это от того, брат, что это настолько превосходит весь наш детский опыт. Потому что это ни на что непохоже, несравнимо даже с мороженным по двадцать две копейки!
Большинство людей – необработанные чурбаны, как обстругаешь, такой Пиноккио и получится. У меня в юности был друг, которому бабушка объясняла, что у тех, кто занимается онанизмом, вырастают волосы на ладонях, ухудшается слух и они тупеют. Волосы на ладонях у него, правда, не выросли, как он ни старался. Но добрая старушка добилась того, что он совершенно отупел от переживаний и чуть не сошел с ума. Он терпел до последнего, поэтому, когда страстно отдавался этому желанию, он не чувствовал ничего, кроме облегчения. Смог ли он потом сделать своих женщин счастливыми, или так же набрасывается на них, чтобы потом удовлетворенно отвалиться и заснуть?
Поэтому жизнь этого Сергия – сплошное заблуждение, извращение и позор. И главный грех лежит на тех, кто объявил его святым, сам он просто одержимый гордыней дурак. Ключевая фраза повести: "Даже победа над грехом похоти легко далась ему". Эта фраза поставила меня в тупик. Вот тебе и раз: Сергию нет еще и тридцати! Похоже, автор тактично намекает, что Сергий даже онанизмом не занимался у себя в келье? Если он здоров и не принимает никакой химии, то представить это невозможно. Может, автор, как бабушка моего школьного товарища, тоже считает, что онанизм – позор и блуд, и волосы на ладонях? У автора же не выросли? Или он стесняется, пытается забыть свои юношеские забавы? Непонятный, странный текст об извращениях. Стопроцентный "памятник литературы". Мертвый текст о том, что мертво.
Что такое «мертво»? Это то, что противно жизни. Это то, что противно человеческой природе, извращает ее. Извращение сути вещей.
Я вдруг почувствовал горечь и усталость. Как будто бы на меня из будущего дунуло холодным ветром. Вдруг меня поразила мысль, что впечатление мертвечины от прочитанного происходит не по вине автора – как раз написано блестяще, текст не устарел и через сто лет. Мертво то, о чем идет речь. Причем, не умерло, а всегда было мертвечиной. А поразила меня эта мысль, потому что она имела самое прямое отношение ко мне: я живу среди мертвечины, среди культа мертвечины, среди цивилизации мертвых. Можно ли в ней сотворить не мертвое? Или я обречен идти ее путями, не замечая этого? Как зараженный проказой не замечает, как отмирают его клетки?
Эта мысль наполнила меня тоской, но и желанием делать. Задача была огромна, почти непосильна. Как раз для такого человека, как я. Я готов был попробовать.
Все-таки Таня много сделала для меня. Если бы не она, я не знал бы, что такое настоящие вещи в их материальном воплощении, и может, не задумался, что это вообще такое: настоящая вещь. «Как много в жизни набралось такого, думая о чем испытываешь неловкость», – подумал я. Собственные родители, Таня, можно сказать, что все, мысль о чем должна поддерживать. Однако уже было пора идти.
Жека (который почти всегда опаздывает) страшно злится, когда (что бывает редко) опаздываю я. Боюсь я, конечно, не Жекиного гнева. Просто если он выходит из себя, то вечер, считай, потерян.
Как раз, когда я прошел проходную, население Девятки, наступая друг на друга, валом валило из проходных предприятий, торопливо разбегаясь по вечерним делам.
Толпа быстро неслась по проспектам сразу во все стороны, напоминая мне учебный фильм по теме "броуновское движение". От нее исходило такое мощное излучение торопливости и озабоченности, что приходилось даже напрягаться, чтобы не ускорить шаг. А куда они все так спешат? Купить колбасы и завалиться смотреть телевизор. Что они там видят в этом телевизоре? Надо будет как-нибудь посмотреть – может там что-то новое показывают.
Честно скажу, ребята, пытаюсь я заставить себя по-христиански любить это быдло, но как-то не получается.
Вскоре в толпе я заметил такой же медленно движущийся объект. Это был Жека. И, как я помню, я сразу же заволновался. То есть, конечно, было странно, что он идет мне навстречу, но я точно помню, что заволновался как-то чересчур. Есть, есть у человека дар предчувствовать повороты в судьбе.
–Привет, старик! Ты куда идешь? – воскликнул мой друг, как бы не зная, куда я собрался.
–На гитаре собрался поиграть, – ответил я.
–На гитаре? – воскликнул Жека как бы страшно удивленный.
–Ты можешь толком объяснить, что случилось?
– А я и сам не знаю. Прихожу я во Дворец культуры, а мне не дают ключи. Говорят, больше не велено вас пускать. А кем не велено, почему не велено разве ж у них узнаешь.
Я успокоился – такое уже бывало, что не давали ключи репетиционной, но потом все выяснялось.
Но Жека продолжил:
– Но самое главное. Я тут же позвонил Сереге, чтобы Серега сказал папаше, чтоб папаша распорядился, чтоб нас пустили, а Серега сказал, что он больше меня не знает, чтоб я ему больше никогда не звонил.
По своей наивности я заволновался только о том, где мы до завтра возьмем барабанщика.
–А я уже придумал, – сказал Жека, – мы будем играть вообще без ударных. Мы будем играть в две гитары.
Гениальность этой мысли потрясла меня. Сам Саймон с Гарфункелом могли бы нами гордиться. Мы тут же пошли репетировать к Жеке. Но уж если не везет, так не везет до конца. Через час явилась его мамаша и прикрыла лавочку.
–Что это у вас за музыка дыр-дыр-дыр, – сказала она, – в цехе целый день шум, домой придешь, тоже покоя нет.
Так что репетиция кончилась тем, что мы распили флакончик, слушая Дэвида Боуи и восхищаясь им, и собой, и нашей новой идеей. Обсудили предателя Серегу, но расстраивались не очень. Честно говоря, давно чувствовали, что он не наш человек.
Потом я потащился домой. Было уже поздно. В архитектуре Девятки есть одна особенность – ее улицы освещаются не фонарями, а мощными прожекторами с крыш зданий. Я шел по пустым улицам в призрачном голубом свете прожекторов. Из-за этого моря огней Девятка с окраины города выглядит как что-то очень праздничное, как олимпийский стадион, или международный аэропорт. Может быть, по контрасту с городской окраиной, которая освещается только искрами редких трамваев, причем скрежет этих редких трамваев только подчеркивает тишину и заброшенность.
Анюта по ночам часто вставала и смотрела в сторону Девятки. Да, признаться, и мне из ее окна Девятка казалась очень приличным местом. Она мечтала, что я как принц из сказки увезу ее туда, где полки магазинов ломятся от колбасы. Хоть она и старалась не говорить мне об этом, но мечта эта была так сильна, что она иногда проговаривалась. Самой Анюте допуск в Девятку был закрыт. У нее был дядя, который во время Второй мировой попал в плен (о ужас!), после войны остался в американской зоне оккупации (ужас—ужас) и женился на немке. Ее немец погиб на Восточном фронте. Мало того, этот гнусный незнакомый дядя стал успешным предпринимателем и теперь эксплуатировал немецких трудящихся, а его ни в чем не повинной племяннице, которая родилась на двадцать лет позже всей этой истории, и о которой он даже не знал, теперь невозможно было не только устроиться на работу в Девятку, но и получить гостевой пропуск за забор дольше чем на сутки.
Ну ладно, Анюта ладно. Ну а Таня, моя прекрасная Таня. Уж она-то кое-что понимала в жизни. Нет, есть все-таки в колбасе нечто неизъяснимо привлекательное, чего я просто не понимаю ввиду черствости своей души.
Ну ладно, не нужно пытаться плохо думать о том, что не сбылось, не получилось, не срослось. Это тоже разновидность предательства, от меня не дождетесь.
Все-таки Толстый неправ, когда говорит, что нужно только жалеть этих людей, потому что они живут так из-за того, что ничего в жизни не видели и не представляют, что можно жить как-то по-другому. Ну что такого видел сам Толстый, или я, или Жека. Однако мы же скотами не стали. Да, и неправильно он говорит, что эти люди испорчены привычкой к несчастью. Сам-то он не испортился.
В моих окнах горели огни, несмотря на позднее время. Я заволновался не на шутку— в таких семьях, как моя, такое бывает только при несчастных случаях. К моему удивлению, в квартире никого не приводили в чувство, и никто не ждал скорую помощь. Из коридора я слышал, что мать и отец разговаривают на кухне.
–А вы чего не спите? – спросил я, все еще несколько встревоженный.
Родители замолчали и смотрели на меня с минуту так, как будто впервые меня видели.
–Что случилось?
–Мы нашли у тебя страшную гадость, – сказала мать.
–Какую? – уже почти испуганно спросил я.
–Мы нашли у тебя вот эту кассету, – заметно волнуясь, сказал отец.
Позавчера на репетиции мы кое-что пробовали записывать, а вчера я поставил на магнитофон прослушать. А папаша возьми, да и наткнись.
–Ну и что? – спросил я. Все же я почувствовал себя виноватым, хотя и не знал за что.
Это такая рабская привычка – инстинктивно считать себя виноватым, когда тобой недовольны.
–Он еще спрашивает, ну и что! Ты слышишь, он еще спрашивает, ну и что! Мой сын поет "там, где раньше Сталин стоял, мы танцуем диско" и еще спрашивает, ну и что!
Я, честно говоря, удивился. Я-то думал, что папашу больше заденет Жекина песенка "Псы—полковники “, ведь это прямо про него. По свежим армейским впечатлением Жека создал целый альбом "Псы", там имелись все псы, начиная с лейтенантов и кончая полковниками. Выше Жека еще не забрался. Но вот папаше не понравилась именно смешная песенка "Там, где раньше Сталин стоял, мы с тобой танцуем диско". Кстати, ее сочинил не я и не Жека. Ее сочинил мой друг Леша Никитский из города Дубны на Волге. История этой песенки очень любопытная.
В недалеком прошлом на берегу Волги возвышался памятник Сталину размером со статую Свободы. Когда решили, что Сталин больше не отец народов, оплодотворяющий мировую цивилизацию, памятник снесли, а на освободившемся месте сделали танцплощадку. Вот Леша и придумал такую вполне документальную песенку. Когда я был в Дубне в командировке, Леша исполнил мне ее на ушко. Собственно, там только и были эти две строчки. Дальше сочинять Леше стало лень. Да и трудно к таким двум удачным и исчерпывающим строчкам прилепить еще что-то. Когда я исполнил эту вещь Жеке, ему тоже страшно понравилось, и мы обработали ее, спев эти строчки много раз с разной интонацией в стиле битловской "Уай дон'т ви ду ит ин зе роуд». Мы считали это одной из достигнутых вершин. Но вот товарищ полковник был другого мнения.
–Пап, ну ведь это шуточная песенка, – сказал я.
–Боже, какого идиота я вырастил! – схватился за голову отец, – Нет, ты правда не понимаешь?
–Пап, ну каждый же человек имеет право на свое мнение, ну что в конце концов такого …– начал я, но почувствовал, что в глазах отца несу какую-то чушь. Он смотрел на меня даже с некоторым страхом.
–Ничего у вас святого нет.
–Батя, ну пойми, то, что для вас так важно – для нас уже история древнего мира. Цивилизация сменилась, понимаешь? Давай жить дружно. Для меня что Ленин, что Гитлер, что Чингисхан – никакой разницы. Это все в прошлом. По мне хоть бы ты им, – я кивнул на портрет Ленина, – все стены оклеил, я тебе и слова не скажу.


