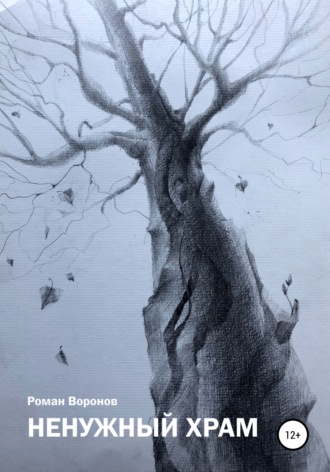
Роман Воронов
«Ненужный» Храм
Две руки Кармы
– Вон берег, сэр, земля, земля!
– Да, черт возьми, туда смотрите!
Но не согласно с нами тело корабля,
И скалится Сирена на бушприте.
Ночь в степи – всегда откровение. Небесный океан, таивший в своих глубинах звездные россыпи при свете солнца, являет их во всей красе взору того, кто, пылая жаром юного сердца, не смеет сомкнуть широко раскрытых глаз и, чутко прислушиваясь к дурманящим запахам полыни и медуницы, улавливает при этом в коротких промежутках бесконечных перепалок стрекочущей саранчи, выявляющей серьезные противоречия между самками и самцами, голоса далеких мерцающих миров.
Маленькая Карма, семилетняя дочь цыганского народа, обожает такие ночи – теплые, пряные, таинственные, уносящие воображение в те выси, которые девочка предполагает за сверкающим яркими точками черным пологом, берущие за душу, тянущие мягкими, но требовательными прикосновениями за руки… Здесь Карма, к своему великому сожалению, вынуждена спуститься с манящих бескрайними просторами небес на прикрывшуюся ковром из шелковистых трав землю – правая рука маленькой цыганки, словно плеточка, безжизненно висит вдоль тела с самого рождения.
Кто-то сильный, могущественный и очень добрый смотрит сверху, из тех самых зазвездных мест, о которых мечтает девочка, на затерявшийся в степи табор, выставивший свои повозки подковой (что за исполинский конь проходил здесь), в центре которой пляшет языками ветреного танца крохотный костер, а возле него, обнявшись, сидят две цыганки, одна из них – Карма.
– Бабушка, – шепчет она, дергая за бахрому подола юбки старушки, – почему меня так назвали? О чем имя мое?
Задремавшая было женщина разлепила веки и пошевелила прутиком угли, отчего искры, весело оторвавшись от тлеющей древесной плоти, взметнулись в воздух.
– Карма – путеводная звезда.
– А кого она ведет? – девочка подскочила с места, пытаясь живой рукой поймать хоть один гаснущий в ночи огонек.
– Душу, – цыганка вынула из складок юбок картофелину, постучала по ней все тем же прутиком, сбивая прилипшую грязь, и кинула в костер: – Душа ведома кармой Адама и Евы.
Карма перестала прыгать за исчезающими искорками: – Значит, она не одна, их две?
Бабушка согласно кивнула: – Путеводное созвездие.
– Расскажи мне о нем, – девочка прилепилась к старушке, а та обняла ее за худенькие плечи и прижала к себе.
– Карма Адама – личная, груз частицы Бога, тот «скарб», что нагрузишь в повозку сам, «содеешь от души». Карма Евы – привнесенное от противоположности. Для Бога карма Евы – эволюция Антихриста, то «добро», что накидают в твою повозку, чтобы облегчить свою.
– Зачем мне чужая? – Карма отпрянула от бабушки.
– Своя карма – это сам берег, с которого ныряешь, чужая – его высота, нырнуть поглубже. Адам не ушел бы из Рая, не будь рядом Евы, – цыганка притянула внучку к себе снова.
– Но в Раю хорошо, зачем покидать его?
– В Раю хорошо всегда, – вздохнула цыганка и смахнула предательскую слезинку, – а вечное «хорошо» есть пустота, пытка для души.
– Почему, бабушка? – каждый ребенок любит задавать вопросы.
– Покой для души – страдание. Душа – это энергия, а энергия – движение. Мы не можем остановить ветер.
Карма, словно отыскав давно потерянную вещь, радостно воскликнула: – И поэтому мы все время идем за ним?
– Да, Карма, мы, цыгане, все время идем за ним, – женщина ласково потрепала жгуче-черные кудри внучки.
– Но другие люди живут в домах без колес, на одном месте.
– Всю жизнь, – эхом отозвалась старая цыганка, задумчиво рассматривая звезды, давным-давно застывшие в ее зрачках. С детства она наблюдала их, обусловленные волей Всевышнего, еженощные перемещения, не оставаясь на месте и сама внутри своего созвездия – кочующего табора, ее большого дома на колесах.
Она ласково поглядела на Карму, вспомнив и себя в ее возрасте, такую же беззаботную, свободную и вопрошающую.
– Моей бабушке рассказывала ее бабушка, а той – своя, которая слышала от… – цыганка загибала скрюченные пальцы, звеня дешевыми перстнями и сбиваясь, бормоча имена женщин, давно ставших росой, которую Карма любила сбивать с притихших колокольчиков, выбравшись до рассвета из кибитки и накручивая вокруг нее круги с раскинутыми (всего одной, левой) руками, как парящая птица.
– В общем, – старуха оставила утомительное путешествие по родовому древу, – один из наших предков украл гвоздь, коим должны были прибить на кресте Бога.
У Кармы от изумления глаза полезли на лоб.
– Он спас Бога? – черные вишенки восторженно смотрели на рассказчицу.
– Нет, дорогая, Бога, когда это Ему не нужно, не спасет и сам Бог. Предок не сделал добра намеренно, но случайно изменил предначертанное. Он стал нюансом Самопознания, примером дуальности, когда воровство, грех, как один из аспектов бытия, по сути своей превратился в инструмент для правки и корректировки судеб других людей.
Девочка непонимающе смотрела на цыганку: – Бабушка, но тогда любой грех…
– Да, любой грех становится кармой Евы для того, кого он коснулся, и кармой Адама тому, кто его совершил.
– Но получается, если мне сделали плохо, то это хорошо? – Карма расхохоталась. – Вот маме-то сказать.
Женщина, улыбаясь веселью внучки, тем не менее серьезно продолжила: – Если тебе сделали плохо, то это плохо для того, кто это сделал, и одновременно хорошо, потому что он, если поймет, что сделал плохо, станет лучше.
– А как же я?
– Когда тебе сделали плохо, то это плохо потому, что ты так думаешь, но результат от этого действия будет хорошим.
Карма перестала смеяться: – Почему?
– Потому что так захотел поступить с тобой Бог, раз допустил это, а он любит тебя.
Девочка обняла женщину: – Как ты?
– Я люблю тебя как бабушка, а Бог – как все бабушки, которых я пыталась сосчитать.
Карма еще крепче прижалась к цыганке: – А что наш далекий-далекий цыган, который утащил гвоздь?
– Забрав принадлежащее Богу, он создал карму нашего народа, – женщина глубоко вздохнула и сильнее прижала к себе внучку.
– Идти за ветром, скитаться?
Цыганка покивала головой: – Искать Бога среди людей.
– Зачем?
– Вернуть Ему похищенное.
– Гвоздь? – девочка посмотрела старухе в глаза.
– Энергию, любовь.
Лошадь, мирно дремавшая в сторонке, мотнула головой и, фыркнув, снова закрыла глаза.
– Так что же, бабушка, в наших повозках, среди утвари, тряпья и лошадиной сбруи прячется украденная любовь к Богу?
Цыганка улыбнулась: – Если хорошенько порыться, да.
Маленькая Карма вскочила на ноги, готовая броситься к повозке в поисках столь ценной вещи. Бабушка взяла ее за руку и притянула к себе: – Найти любовь к Богу на стороне, и даже в старой, видавшей виды повозке можно, но проку от нее никакого.
Девочка остолбенела: – Но почему?
– Бог не возьмет ее, она ведь чужая и, стало быть, снова украдена.
– Что же делать, бабуля? – Карма запрыгала от нетерпения.
– Искать ее в себе.
– Тут? – девочка ткнула рукой себя в живот.
– Нет, – цыганка мягко подняла ладошку внучки к сердцу, – тут.
Карма закрыла глаза, прислушиваясь к собственному сердцебиению, а старушка охнула и, схватив полуобгоревший прутик, полезла в костер выковыривать засидевшуюся там картофелину. Сноп искр ринулся ей навстречу, обороняя свое сокровище, но цыганка, с упорством разозленных долгой осадой и стойким сопротивлением гарнизона, не отступилась от намеченного и выудила горячую и благоухающую добычу.
– Ну-ка, – обернулась она к девочке. Карма, свернувшись калачиком, мирно посапывала на остывающей земле.
Сверху кто-то сильный, могущественный и очень добрый шептал ей на ухо: – Занимаясь воровством среди людей, вы, цыгане, пытаетесь выкрасть «гвоздь Бога» и через него найти самого Бога. Это энергетическая карма, создающая модель поведения вашего народа. Через что человечество продолжает распинать Иисуса? Через материальные блага – гвозди, их-то и забирают цыгане. Ваша парадигма – одной рукой стянуть «гвоздь» у людей, чтобы другой отдать его Богу.
У тебя же, Карма, дитя мое, жива левая рука, отдающая Мне, но мертва правая, не желающая красть. Имя свое носишь не зря, ибо если один начал, будет и другой, что закончит. Ты есть твой предок, ты, Карма, – его карма.
Старая цыганка заботливо укрыла внучку огромным расписным платком, и ей на миг показалось, что мизинец на правой руке девочки дернулся, прежде чем «покрывало» спрятало в своих объятиях Карму.
В ожидании
Разверзнет уста свои в тысячи труб,
Так весть о Приходе срывается с губ.
Не знаю, как вы, а я жду Иисуса. Не Светом, восставшим в небесах вторым солнцем, не Гласом, прославляющим праведных и прощающим грешных, а просто зашедшим в гости. Я уже и стол накрыл, хлеб и вино, плоть и кровь Его, на белой скатерти, и стульев поставил тринадцать, вдруг с апостолами пожалует, ну и себе скамеечку в угол придвинул – посмотрю оттуда. Сел, примерился, пригляделся, а корка-то хлебная в плесени, не иначе гниет тело Христово в доме моем. Отхлебнул вина – кислое, знать, и кровь святая во стенах этих не свята. Вспомнил про воду, что из храма приносил, так и та зацвела на третий день. Опустился я, озадаченный, на стул, что во главе стола для Иисуса приготовил, руки на скатерть положил, а ткань ее скорее на саван походит, чем на праздничное покрывало.
Что ж за человек я, и каков дом мой, храм во Храме, коли все призванное держать – сгнило, давать жизнь – умерло, а сиять – не в силах даже отражать. Тут стул подо мной с треском разломился, и я оказался на полу, лицом к лицу…
Могу только догадываться, была ли женщиной, Еве подобной, та, в чьей утробе ожидал я часа своего, или может иную форму имел тот сосуд, ибо, пребывая в нем, слышал я только лязг железа, стоны раненых и проклятия поверженных. Запахи паленой шерсти, выгоревшей древесины и расплавленного свинца, проникающие в мои едва раскрывшиеся легкие через поры материнской кожи невообразимо отличались от ароматов райских цветов и небесного ветра, наполненного светом и радостью, только недавно покинувшего меня. Вся эта гнетущая обстановка пускала многочисленные споры страха в моем маленьком сердце, таком зависимом от пульсаций материнского органа, и я с ужасом ожидал момента нашего «расставания».
Обретя свободу (ограниченного свойства) и разорвав связь с выносившей меня через безоговорочное рассечение пуповины, я избавился на некоторое время от страхов пренатального периода и сам стал активно лязгать железным мечом о щиты себе подобных и, не без удовольствия, вдыхать дымы пожарищ, устраиваемых мной же. Чинимые безобразия носили коллективный характер, что тем не менее не снимает с меня личной ответственности, и казались нормой поведения и единственно правильным способом мышления. Терзая, я не терзался, похищая, не становился богаче, скорее наоборот, и именно так и происходило на самом деле: ненавидел и получал ненависть во след, любил так, что любовью угнетал и стяжал. Теперь и не знаю, кто я в действительности, очевидно одно: я жду Иисуса.
Не в надежде на помилование, ибо это понятие исключительно человеческое, Бог не милует, не прощает, не сопереживает – Он любит, потому что Любовь есть Его Суть и принцип существования. Помиловать и простить человека под силу только самому человеку.
– Так почему же мне нужен Иисус, раз все могу сам? – спрашиваю я себя, на миг переставая тыкать мечом в окружающий мир.
– Он (Иисус) единственный из людей (обличием) сделал это, как человек: истинно простил и помиловал себя, но через прощение и помилование недругов и мучителей своих, – получаю я ответ из пространства и, на всякий случай, рассекаю воздух своим оружием, словно отмахиваясь от невидимого противника, такова натура человека.
Отличаюсь ли я от всех остальных? И да, и нет. Действуя в общей парадигме, плечом к плечу, в одном строю – сверкают латы на солнце, трепещут флаги на ветру, я имел возможность выйти на шаг, на два, обернуться и посмотреть на свой слепок, медленно растворяющийся там, где я только что находился, и решить для себя – а Иисус мог занять мое место?
И чтобы я не представил себе тогда, это был бы поступок, вне зависимости от его истинности, но я не сделал этого.
Заверещала труба, шеренга вздрогнула и нехотя, но дружно отправилась на… смерть. Хотим мы этого, или нет – подобное стадное бытие неминуемо приводит к гибели, я сейчас не о теле, а о душе. Управлять одним – искусство, управлять толпой – удовольствие, и тот, кто призван управлять, прекрасно знает об этом. Я же жду Иисуса по той причине, что Он не управляет, но любит, Он призван возлюбить, а это как раз то, чего я лишен, будучи управляемым.
Помните, в детстве, маленький кораблик, привязанный веревкой к вашей руке, умел ходить против ветра и течения. Вы были его Управляющим. Но иногда кто-то выпускал игрушку из рук, даруя ей свободу, жертвуя своей привязанностью (в прямом и переносном смысле). Это был Иисус, его я и жду в гости.
Войди Он сейчас в мою дверь, как в жизнь, вся та ложь, которая толстенным слоем пыли скопилась на чердаке, просочилась, проникла бы сквозь щели в досках потолка, разошедшихся под Его поступью, и просыпалась мне на голову, осев на поседевшей шевелюре шутовским колпаком, а стыд, отбелив щеки, окрасил бы причудливый головной убор багряным румянцем.
Хочу ли я такого позора? Видимо да, раз жду Того, чей приход только и способен погрузить меня в истинное раскаяние. Я обхожу комнату-клетку, поправляю скатерть-саван, трогаю спинки стульев – один, два, три …тринадцать, все правильно, и маленькая скамеечка в углу. Пока Его нет, начинаю вспоминать апостолов – Андрей, Павел, …Иуда. Ученик, предавший Иисуса, не я ли потомок его, не по крови, конечно, хотя утверждать наверняка не возьмусь, но по духу (увы, предательства). И мне ли не жаждать ласковой улыбки Иисуса, слова, всепрощающего, объятий, кои сбросят с плеч моих груз, слой за слоем покрывший кожу чешуей того самого Змия, что нашептывал Адаму, обвивался вокруг ног Евы и жалил в сердце всякого их потомка, пустив яд однажды в кровь Каина.
– Кайся, кайся, кайся, – стучит мое сердце, – пока ждешь Прихода.
– Не жди, не жди, не жди, – вопиет разум. – Ему не до тебя.
До сих пор я не ждал, голос разума прекрасно встраивается в фаланги, манипуры, хирды и армейские коробки, ему удобно восседать на остриях копий и мечей, доводы его многократно усиливаются, эхом отражаясь от щитов противника.
Сердце же всегда сжималось от страха, слушая подобные речи, а что вымолвить в ответ, когда стянуто горло и сдавлены легкие? Но теперь ожидание стало смыслом существования, спасительным дождем, капли которого, подобно ядрам, сыплющимся на стены осажденного города, рвут нити паутины, в липких объятиях которых я безвольно повис, ибо излишняя активность в сложившейся ситуации только усугубляет незавидное положение жертвы. Паук, который «взял» меня в управление еще в утробе, записав в моем сознании грохот сражений и дым пожарищ, закодировав на уничтожение ближнего поведенческий (Авелев) принцип и вооружив разум соответствующими инструментами, явно не мирного характера, превратил всю мою жизнь в движение по сплетенным им нитям. Страх начинающего канатоходца перед пустотой, которая есть весь Мир, и доверие узкой и шаткой «дороге», канату, что натянут между заданными точками, как того пожелал протянувший этот канат.
Я жду Иисуса потому, что только Он ходил между нитей, уверенно шагая по водам, исцеляя недуги словом и преодолевая муки и унижения любовью, и только Он, войдя в мой дом, научит, нет, не воспарению над паутиной, но первому шагу с нее.
Я иду к двери и отпираю ее, пусть ничего не остановит моего гостя, когда пожелает Он встать рядом со мной, грешником, в окружении апостолов и праведников, и не устыдится общества того, кто, зная обо всем, вел жизнь, отличную от этого знания. Что давало мое увиливание? Сиюминутную сладость, иллюзорный покой, сомнительное наслаждение от того, что меч мой раскроил череп какого-то бедолаги, опередив на мгновение его клинок. Какова цена такой жизни? Я снова вспомнил Иуду. А ведь он, в отличие от меня, был честен в определении суммы предательства. На миг я представил, как в отворенную дверь моего сознания вплывает Чистый Свет, источающий любовь и благость, облаченный в белоснежные одежды и окруженный апостольскими песнопениями. Упав пред ним на колени, замираю в ожидании Слова, и Он не заставляет себя ждать.
– Умнее ли ты брата Иуды, что душу отдал за тридцать сребреников? На что себя обменял?
– Не ведал, что творю, Иисусе.
– Так ли это? – Свет не вопрошает с пристрастием, не давит, не подталкивает.
Конечно, ведал, проносится у меня в голове. Всякая мысль, порождающая деяние, прежде оформления в тонкое тело «встает» перед Вратами Иисуса, которые есть Порог допустимого, граница между грехом задуманным и свершенным, пока сознание еще младенческое.
Будь во мне праведности хоть частица, не думал бы грешить, но ее нет, и Господь Всемогущий таким, как я, овцам заблудшим, даровал Врата, что становятся последней преградой перед падением, и помещены они между сердцем и разумом.
Задумал, но сомневаешься – то не отворяются Врата, отбросил сомнения – отодвинул Христа в сторону.
– Так что, ведал? – мягко повторяет Свет.
Я согласно киваю головой.
– И цену знаешь? – Иисус не меняет интонации любви и сожаления.
Киваю снова: – Больше, чем тридцать монет. Прости, Господи, я хуже Иуды.
Слезы жалости к себе всегда горше и обильнее, чем грусть в отношении к другим. Соленые, они беспрестанно катятся по щекам, а я думаю: – Ведь ни одной слезинки не пролил я о Нем, обволакивающем сейчас Небесной Благодатью меня, отдельно «вырванного» из бесконечной толпы хулителей, веком спустя обернувшегося в истово молящегося перед распятием, а еще через столетие лезущего на стены Святого Города с единственной мыслью, и эта мысль не о Христе, и единственным чувством, и это чувство не любовь.
– Вытри слезы, брат, прошу, – говорит мне Свет.
– Не могу, – отвечаю я, – не могу остановить их.
– Я говорю о себе, – произносит Иисус. Его лик, проступивший сквозь сияние, увлажнен живой водой.
– О ком плачешь ты? – спрашиваю я, не решаясь прикоснуться к ясному лику Христа.
– О твоей душе, прекрасной, удивительной, но потерявшейся.
Я, переполненный чувствами, разрывающими изнутри, бросаюсь к Нему, но руки мои упираются в дверь – шершавую, рассохшуюся, изъеденную термитами створку моего сознания. Иисуса нет, как не было и нашей встречи, а если бы и состоялась она, вряд ли разговор случился бы таким длинным. Праведники по одну руку, грешники по другую, не Словом Его судейским, а тяжестью нами содеянного.
И все же, не знаю, как вы, а я жду Иисуса.
Золотая Птица
Стоит прислушаться к свисту меча,
Не перед носом, а из-за плеча.
Меч положили на плечи раба, рухнувшего на колени подле трона Короля. Монарху хватило одного взгляда понять – перед ним выдающийся экземпляр кузнечного искусства. Выкованное к восшествию на трон оружие имело прямой, стремительный силуэт лезвия, выверенный вес, мощную крестовину, защищавшую длань владельца, пожелавшего прикоснуться к обтянутой кожей буйвола рукояти, венчал которую хвостовик в виде оскаленной львиной головы. Из украшений меч получил гравировку на доле, выполненную столь утонченно, что при беглом осмотре ее можно было и не приметить.
Король привстал с подушек, обеими руками поднял с рабских плеч дорогое подношение и, определив на глаз центр тяжести оружия, опустил этой точкой на бритую голову слуги. Меч замер, словно прилип к макушке несчастного, боявшегося пошевелиться и оттого изрядно вспотевшего раба.
– Браво, Ваше Величество, – захлопал в ладоши Шут, с неподдельным восторгом разглядывая, впрочем, как и все присутствующие, удивительный клинок.
– Великолепно, – произнес нараспев удовлетворенный проверкой Король и, повернувшись к Шуту, сказал: – Мастера…
Шут не дал господину закончить фразу: – Обезглавить?
Монарх скривился, а паяц замахал руками: – Простите, Ваше Величество, оскопить, ой, то есть ослепить и отрубить правую кисть?
Король недовольно сдвинул брови: – Я когда-нибудь именно так поступлю с тобой, болтун, но в обратной последовательности предложенных действий.
Шут, активно жестикулируя, начал показывать на себе будущие экзекуции (вывешивание на дыбе, колесование, прилюдное сжигание на костре и прочие королевские забавы), корча при этом умильные рожи и извиваясь от вымышленной боли так, что господин расхохотался: – Может, мне и не ждать с этим слишком долго, а? Мастера сюда, живо!
– Хотите наградить, Ваше Величество? – заискивающе пролепетал Шут.
– Не твое дело, собака, – оборвал слугу Король. Подобное обращение – обычное дело для птиц высокого полета, из поднебесья не замечающих дымов пожарищ, съедающих посевы и всяких тварей, ползающих внизу, что кормят их, гордо реющих, собой.
– А как мы его назовем? – не обращая никакого внимания на королевские оскорбления, продолжил Шут.
Монарх взял в руку Меч и высоко поднял его над головой: – За тем и посылаю.
– Король доверит Имя Меча ремесленнику, простолюдину? – поразился паяц и, ловко изобразив кого-то сгорбленного и шаркающего (видимо, кузнеца), просипел: – Нарекаю тебя… Молот, или нет, Наковальня, а можно попробовать имя моей несравненной жены, крестьянки…
Меч просвистел в воздухе, и его острие замерло в дюйме от кончика крючковатого носа Шута: – Отправляйся, дружок, иначе я найду другого гонца, а заодно и другого шута.
«Я тоже могу поискать другого хозяина, – думал Шут, семеня через дворцовую площадь к воротам. – Еще посмотрим, кто из нас больше шут, а кто – король». Он продолжал бурчать, по привычке изображая языком тела и мимикой все происходящее в его голове, до самого выхода из замка. Стражники долго препирались с Шутом, не желая опускать подъемный мост, выпрашивая у паяца «показать мартышку». Пришлось уступить этим ряженным в железо идиотам, довольные солдаты заржали и заработали воротками, а шут, нежданным образом превратившийся в королевского гонца, проворчав: – Кретины, – направился к ремесленным мастерским.
По дороге, заприметив подходящую по размеру палку, он начал размахивать ею направо и налево, комично закатывая при этом глаза и театрально провозглашая: – Назови свое имя, о, дубовый сук, ибо с именем твоим на устах покорится мне весь мир.
Красно-желтый полосатый колпак громыхал бубенчиками, дурак распалялся в своих софистических упражнениях, а его «славный меч» летал в воздухе, сбивая алые головки маков, листву придорожных кустарников и зазевавшихся пузатых шмелей.
Мастерские располагались у подножия замкового холма. Кузня, судя по грохоту и дыму, валившему из полуразрушенной печной трубы, ютилась в самом конце этой пропахшей выделанной кожей, свежеструганной древесиной, сохнущей на солнце глиной, уже сформированной в горшки и тарелки, гряды. Проходя мимо столярки, Шут кинул под ноги стоящего в дверях владельца пил и топоров свой «меч» со словами: – Поправь, затупился, – и, увидев изумленные глаза столяра, захохотал как полоумный: – Плачу королевским золотом.
Жизнь шута при дворе сладка, словно мед: униформа и кормежка за счет господина, все, что нужно от паяца – молотить языком без устали в угоду хозяину, но помнить, переборщив в стараниях, можно оказаться на плахе. «Хотя, если поразмыслить, король родился королем, а шутом я сделал себя сам. Тогда кто из нас важнее?» – так рассуждал новоиспеченный гонец Его Величества, вприпрыжку приближаясь к огнедышащей кузне.
– Эй, кузнец, – пропустив какое-либо приветствие, проорал Шут, едва появившись на пороге мастерской, – тебя зовет король.
Мастер, довольно крепкий старик, оторвался от мехов и с удивлением посмотрел на разряженного не к месту посетителя.
– Я знаю, как выглядит королевский гонец, ты не похож на него, – старик вернулся к работе и начал раздувать меха.
Шут не оскорбился (иммунитет, знаете ли): – Король волен посылать любого, всяк слуга его на этих землях – и глашатай, и фаворит – станет гонцом, коли того пожелает владыка.
Мастер снова оторвался от работы: – Слушаю тебя, шутливый гонец.
– Скорее, гончий шут, – опять по привычке, будь она проклята, огрызнулся вспотевший паяц, стянув с головы колпак: в кузнице было жарко.
– Неужто королю не глянулся меч? – хитро прищурившись, спросил Мастер.
Шут, повторив его интонации, передразнил: – Напротив, так глянулся, что ослепил, и теперь Его Величество желает дать оружию имя, для чего и зовет тебя. Собирайся.
– Король решил дать Имя мечу, не одержав им ни одной победы?! – всплеснул руками Мастер и, чихнув, добавил, словно поставил точку: – Оно не приживется.
– Вот и скажешь это самому, – съязвил Шут, – и, клянусь всеми святыми, стоящими вдоль стен королевской часовни, твоя душа уже не приживется в расчлененном теле.
– Эка невидаль, мое тело, да и моя душа, – спокойно проворчал старик.
– Так не любишь себя? – смеясь, поинтересовался Шут. – Что даже не боишься смерти?
Мастер присел на корточки и глянул в печь, видимо оценивая жар.
– Душа, как известно, бессмертна, а в теле моем вся ценность – руки.
Старик протянул сухие, крепкие, как клещи, ладони: – Они выковали королевский меч, их смерть – его жизнь.
Шут задумчиво помял в руках свой колпак: – Так ты пойдешь?
– Да, – помолчав с минуту, вдруг решился Мастер, – пойдем. Имя – опасная вещь, безымянность свободна, поименованность обременительна.
Королевский посланец хмыкнул и подумал, что странный кузнец склонен к философствованиям, а Мастер скинул прожженный до дыр фартук и закрыл печную задвижку.
– Не жалко потраченных дров? – осклабился Шут.
– Идемте, мой друг, – не обращая внимания на сарказм, поторопил его старик, – истлевшее древо против растленной души на кону.
Явно придурок, решил Шут и поспешил за стариком, хлопнувшим дверью. Конвоируя кузнеца мимо столярки, королевский паяц проорал в открытую дверь мастерской: – Мой заказ готов? – и загоготал на всю улицу.
Короля они застали рассматривающим со вниманием свою новую «игрушку».
– А знаешь, Шут, – не глядя на вошедших, сказал он, – на доле имеется гравировка.
– Неужели, Ваше Величество, да благословит Господь столь острый взгляд на долгие годы, – изобразив искреннее изумление, воскликнул Шут. – Разрешите полюбопытствовать.
– Разрешу, но только себе, – оборвал его Король и повернулся к Мастеру. – Ничего подобного я не заказывал.
– Был заказ на меч, Ваше Величество, – спокойно промолвил Мастер, – а надпись – его неотъемлемая часть.
– Тогда извольте пояснить ее значение, – недовольно фыркнул монарх.
Старик взял в руки меч и торжественно зачитал витиеватую надпись: «Приблизившись к Истоку, возвеличишься подле него, отдалившись – исчезнешь в небытии», – после чего одарил Короля взглядом, говорившим: а что здесь непонятного?
Монарх начинал раздражаться: – Слова сии возможно истолковать как угодно, смысл зависит от толмача. Что вложил в это послание ты?
– Приближение к Истоку есть максимальное соответствие копии оригиналу, – Мастер провел ногтем по лезвию.
– Хочешь сказать, у моего меча есть оригинал? – возмутился Король.
– И у вашего, Ваше Величество, и у любого другого, – старик поклонился, протягивая оружие владельцу, – Меч Бога.
– Сейчас же сбегаю за своей копией Меча Всевышнего, – весело подхватил Шут, – в столярку.
– Заткнись! – рявкнул Король. – А ты, – обратился он к Мастеру, – продолжай.
– Меч Бога – это Меч Истины, и имя ему «Золотая Птица».
– Странное название для оружия, – промолвил Король, вглядываясь в свое отражение на полированной поверхности. Всего на миг ему показалось, что зубцы королевской короны «украсились» шутовскими бубенчиками. Он заморгал – видение исчезло.
– Золотая потому, что нет ничего дороже Истины, и она (истина) крылата, свободна, как птица, – старик расправил руки, словно крылья.
– Порою ложь приносит больше выгод, да и распространяется быстрее правды, – ухмыльнулся Шут и снисходительно посмотрел на кузнеца, стоящего перед Королем в рваных лохмотьях, но с золотой короной на голове. Челюсть отпала у насмешника, и он потерял дар речи, явление в его жизни крайне редкое. Шут нервно потер глаза – удивительным образом символ королевской власти переместился с плешивой лысины старика на монаршее чело.
– Ложь скорее расползается, как змеиный клубок, кинь туда горящий факел, а ценность ограничена сознанием породившего ее, что для Универсума – медный грош, – Мастер, сказав это, ощутил на своих плечах горностаевую мантию (именно ощутил, а не узрел), но скрыл изумление и продолжил: – Истина – энергия неоспоримая и прямоточная, ее-то аналогом в плотном мире и является меч, но качество копии зависит от того, в каких руках ему быть. Стоит «Золотую Птицу» взять в руки сути, находящейся под властью эго, – и она обращается в разящее орудие, с беспощадным стальным сердцем и крыльями смерти.
Король с опаской бросил взгляд на лезвие – в отражении его голову венчал шутовской колпак, а с плеч исчезла мантия, уступив место красно-желтому полосатому наряду. Не в силах созерцать подобные перемены (происходящие, видимо, исключительно в его сознании), монарх закрыл глаза и произнес, пытаясь удержать дрожь в голосе: – Всемогущему Господу, по-твоему мнению, меч-то зачем?
– Меч Истины в руках Бога – суть Луч, высвечивающий отклонения от Абсолюта и одновременно указующий Путь к Нему, – ответствовал старик, во все глаза рассматривая сидящего перед ним на троне шута: – «Золотая Птица» – прообраз, прародитель, идея в тонких планах владения энергией, являющейся самостоятельной силой и подчиняющейся владельцу или подчиняющей его себе, в зависимости от чистоты духа принявшего в руки свои этот символ. Меч несет на себе печать содеянного владельцем. Например, Меч Иисуса – Слово Его.
– Кто же кем управляет? – подал голос Шут, ежась от холода, будто не было на нем никакой одежды.
Старик обернулся к Шуту и, застав его в столь неприличном виде, «снял» с себя горностая и протянул бедолаге: – Сильные владельцы-воители давали имя оружию, понимая всю важность обладания и, самое главное, применения его, приравнивая тем самым сталь как один из элементов к человеческому пути. Экскалибур прославил Артура или Артур свой меч? Возьми в руки Король кельтов тисовый прутик и веди в бой рыцарей Круглого стола с ним, изменилось бы что-нибудь? Нет, каждый идущий за Королем сделал бы свое дело, как присягал разумом и чувствовал сердцем. Твори Артур разящим Экскалибуром бесчинства и смерть, вспомнил бы кто в веках имя и его, и кровавого меча? Нет. Но Экскалибур как символ Истины мог взять после Короля только достойный, а поднять с земли оброненную безымянную железку, даже дамасской стали и с рукоятью, инкрустированной алмазами, способен любой.
Король, ерзающий на позолоченном троне в неудобной, обтягивающей одежде шута, чувствуя себя при этом не на своем месте, как-то жалобно, почти по-детски, пролепетал: – Теперь и не знаю, Мастер, мне-то что с этим мечом делать?







