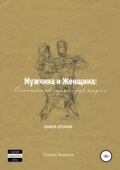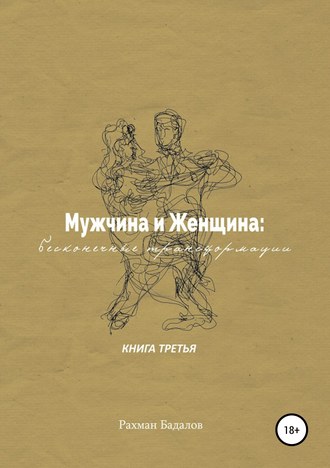
Рахман Бадалов
Мужчина и женщина: бесконечные трансформации. Книга третья
Истории, рассказанные моими молодыми коллегами…
История, рассказанная Жале Султанлы[83]
Молодая женщина, азербайджанка, обещала матери, что обязательно выйдет замуж.
Мать смертельно заболела, надо выполнять обещание. Как быть? Что делать?
Решила, единственный выход фиктивный брак.
Составила список мужчин, которым может довериться, и откровенно сказать, почему просит их немедленно на ней жениться.
Первым по списку был мужчина, которому доверяла больше других. Он согласился. Объявили умирающей матери. Она умерла, спокойная за будущее дочери.
Прошло некоторое время, и мужчина и женщина выяснили, что им не хочется расставаться.
Жале считает, что «полюбили». Пусть так, хотя как в одно слово вместить то, что произошло с этим мужчиной, и с этой женщиной.
Главное не ошиблись в выборе и решили больше не расставаться.
История, рассказанная Рашадом Ширином
В университете голландского города Наймихен, Рашад пишет диссертацию и подолгу там бывает.
Когда-то снимал квартиру в доме далеко не молодых мужа и жены. Подружились. Теперь он называет их своими голландскими «бабушкой» и «дедушкой». Когда бывает в Наймихене, обязательно их навещает. Порой, проводит с ними уик-энд.
Однажды Рашад оказался свидетелем их бурного спора по поводу результатов референдума в Греции. Они были разгорячены, взволнованы, никто не хотел уступать.
Обычно они общались с Рашадом на английском, сейчас перешли на голландский, которого Рашад не знал. Только сумел разобрать, что бабушка поддерживает греческую демократию. Какова позиция дедушки до конца не понял.
Дом буквально разделился на два враждующих лагеря.
Для себя Рашад решил, если спросят его мнение, шутливо ответит, что не имеет право вмешиваться во внутренние дела других стран.
К счастью до этого не дошло. Пришло время ужина, дебаты были отложены и все мирно уселись за стол.
Рашад рассказал не просто любопытную, а весёлую историю. Будем считать, что такой она и была.
История, рассказанная Русланом Асадом[84]
Последние годы Руслан работал в Тбилиси и, по его словам, встречался с людьми из разных стран.
Однажды ему пришлось пообщаться с женщиной из Италии. Ей 60 лет. Вот уже 17 лет, как она путешествует по миру. В Италию приезжает только для того, чтобы повидать свою мать.
В Азербайджане была три раза. Снова собирается, чтобы из Азербайджана перебраться в Казахстан и путешествовать по странам Центральной Азии.
Говорит, что относит себя к революционной молодёжи 1960-х годов. Тогда для них главным была свобода, поэтому ушла из семьи, не получила образование. Нашла работу чтобы обеспечить свою материальную независимость и скопить денег на путешествие.
По словам Руслана, итальянка женщина очень эксцентричная, полна энергии, всё время улыбается. Со смехом рассказывает, что в Азербайджане её остановили дорожные полицейские, попросили взятку в 200 евро, угрожали, если не даст взятку, сообщат на границу, чтобы её не выпускали из страны. Взятку не дала, из страны её выпустили, не боится приехать ещё раз.
Добавлять особенно нечего. Не думаю, то стоит особенно сокрушаться по поводу наших дорожных полицейских. Главное, чтобы и у нас появились такие женщины, которые и в 60, говорили о свободе и путешествовали по миру на мотоцикле.
И чтобы наши мужчины, хотя бы небольшая часть, не препятствовали появлению подобных женщин и у нас.
Именно не препятствовали, остальное сделает сама жизнь.
История, рассказанная Мурадом Насиббейли[85]
Мурад преподавал в Университета «Хазар» на английском языке. У него был студент из Барбадоса, которому было 50 лет, намного старше самого Мурада.
Как же он в этом возрасте стал студентом Азербайджанского Вуза?
У него была семья. Дети выросли. С женой расстался. Стал жить один.
На отдыхе на Гавайях познакомился с женщиной из Бразилии. Примерно его возраста. У неё тоже была семья, но и она жила одна.
Познакомились, понравились друг другу. Стали жить вместе.
Женщину направили на работу в посольство Бразилии в Азербайджане. Он решил поехать вместе с ней. Но визу ему не дали, кто он ей. Чужой человек.
Как быть? Тогда ему подсказали, поступай в Университет «Хазар». Он так и сделал.
При этом, по словам Мурада, не халтурит, вполне серьёзно относится к занятиям.
Он учится. Она работает. Порой приходит на занятия и слушает столь же внимательно, как и он. Продолжают жить вместе.
Не знаю как вам, но мне нравится эта история. Нравится мне и глобальный мир, поскольку в нём возможны такие истории.
…запись в дневнике: случай на улице
Сегодня 10 апреля 2015 года. Шёл в кафе, в котором обычно работаю, и одновременно наблюдаю молодых людей.
На улице молодой человек, дородный, явно любитель поесть, по всему видно самоуверенный, что-то грубо выговаривал девушке, много меньше ростом, худенькой, тщедушной. Девушка, стояла напротив молодого человека, молчала и плакала.
Потом он её ударил, прямо на улице, публично, при всех.
Естественно не знаю и не могу знать, что между ними происходило, да это и не столь важно. Главное как отчитывал прямо на улице, и то, что ударил при всех. Наплевать, уверен, что никто не вмешается.
За день до этого, прочёл информацию, что наш мужчина в общественном автобусе публично нанёс жене, несколько ножевых ранений, от которых она умерла. Пишут, что по причине ревности. Почему он вышел из дома с ножом, осталось неизвестным.
Не знаю, оставлю ли эти строчки в книге, скорее всего, оставлю, как напоминание о том, что тема настоящей книги не просто актуальная, болезненная для общества, в котором живу.
Понимаю, меня могут упрекнуть в том, что обобщаю на основе двух, вполне возможно, случайных историй, в которых, к тому же, до конца не разобрался. Согласен, возможны случайные совпадения, согласен, и в нашем обществе можно найти примеры благородного и деликатного отношения к женщине. Но разве трудно заметить, что в вопросах взаимоотношений мужчины и женщины господство «безличных людей» превосходит у нас все мыслимые пределы.
Разве многие из нас не знают, что «женщина за закрытой дверью» взывает о помощи, но мы предпочитаем сделать вид, что мы не слышим.
Разве будет преувеличением утверждение, что культурными практиками у нас не стали и «Гедда Габлер», и «Анна Каренина», и «Фиеста», и «Жюль и Джим, и «С широко закрыты ми глазами»[86], множество других произведений литературы и искусства, не говоря уже о книгах, статьях, обсуждениях на тему «мужского» и «женского».
И разве отсутствие подобных «культурных практик» не стало причиной существования иных «культурных практик», в которых не стыдно публично нанести оскорбление женщине, или даже убить её, заранее прихваченным ножом.
Банин и Кенизе: в поисках идентичности
…синхрон и асимметрия
Эти две судьбы, каждая в отдельности, обе вместе, заслуживают не только отдельного опуса, но и книги в целом. Я ограничусь записью в «Дневнике», просто чтобы обратить внимание, запомнить.
Признаюсь, две женские судьбы, которые заявлены синхронно, изложены будут далеко не симметрично. Больше о Банин[87], меньше о Кенизе[88]. Причина простая, о первой знаю намного больше, чем о второй, о первой достаточно материалов на русском языке, о второй практически ничего нет.
Что до асимметрии, повторю, легко с этим смиряюсь. О форме думаю в последнюю очередь, главное для меня высказывание.
Но на синхронном подходе настаиваю. Рискнул поставить Банин и Кенизе лицом к лицу, чтобы они могли прийти в соприкосновение, допрашивать, расспрашивать, просвечивать, облучать друг друга. Что-то глубокое, не схваченное мыслью, видится мне в сопоставлении судеб этих женщин.
Не исключаю, что просто мерещится. Жанр «Дневника» спасает, не приходиться додумывать, домысливать. Будем считать, что это просто «информация для размышлений», и мои читатели в своих «размышлениях» смогут пойти намного дальше моей дневниковой «провокации» (назовём её так).
Или окончательно отвергнут мой синхрон, как искусственный.
…после XX века
Сегодня, более или менее ясно, каковы были ожидания XX века после века XIX, и что произошло на самом деле. Движение времени постоянно вносит коррективы в оценку прошлого, но что-то кристаллизуется, принимает те или иные очертания.
…не само ли время запечатлевается в этих очертаниях, изменения происходят теперь от очертания к очертанию…
Кажется, древние греки говорили, прошлое тает перед глазами, но узоры остаются, почти не меняясь.
Куда труднее сказать, как будет развиваться век XXI после XX века, возможно, самого сложного за всю историю человечества. Пока ещё рано говорить о кристаллах или узорах. Но об одном явлении можно говорить уже сегодня. Оно не завершилось, но близко к тому, чтобы стать «узором». Речь идёт о национальных государствах, которые всё больше и больше меняют свою конфигурацию, суверенность всё больше подчиняется глобальной политике[89].
Не буду долго теоретизировать, приведу конкретные примеры.
Вчера, 26 июня 2016 года смотрел матч первенства Европы по футболу, играла сборная Франции. Я не расист, цвет кожи не играет для меня решающего значения, но не могу задать вопрос, в каком смысле этих футболистов можно назвать «французами».
Не склонен драматизировать эти процессы, есть время создавать границы, есть время их ломать. То, что сложилось внутри этих границ, не исчезает безвозвратно, но больше не нуждается в самих этих границах. «Французское» или «английское» как некий исторически сложившийся культурный феномен, не исчезли, не исчезнут, только «француз» или «англичанин» как граждане соответствующих стран, не всегда будут совпадать с «французским» или «английским». Точно также, «мужское» и «женское» не исчезли, не исчезнут, только не всегда будут совпадать с биологическим мужчиной или биологической женщиной. Не исключено, что сами эти биологический мужчина или биологическая женщина, в какие-то периоды жизни, в каких-то ситуациях, будут являться в обличье «мужского» («женского»), а в других «женского» («мужского»).
Если с этим согласиться, то идентичность, как национальная, так и половая, должна определяться самосознанием человека. Считает себя «французом» («турком», «эфиопом») значит «француз» («турок», «эфиоп»), считает себя «мужчиной» («женщиной») значит «мужчина» («женщина»).
Самое время перейти к моим героям, имена которых заявлены в названии, чтобы, скажем так, «отмыслить» их судьбы в контексте «после XX века».
Банин: поиски идентичности: «гражданка мира»…
Банин (Умм эль-Бану Асадуллаева) родилась в 1905 году в Баку. Она внучка двух бакинских миллионеров Мусы Нагиева[90] и Шамси Асадуллаева[91].
Шамси Асадуллаев, дед Банин по отцовской линии, родился в 1840 году в селе Амираджаны Бакинского уезда Бакинской губернии, в бедной семье.
Муса Нагиев, дед Банин по материнской линии, родился в 1848 году в Бакинском пригородном посёлке Баладжары, в бедной семье.
Нефть сделала и Асадуллаева, и Нагиева миллионерами, нефть ускорила преображение мусульманского населения.
У обоих дедов Банин первыми жёнами были азербайджанки, вторые не были азербайджанками. Мы знаем имена «вторых жён»: Мария Петровна, жена Шамси Асадуллаева, и Елизавета Григорьевна, жена Мусы Нагиева.
Официальный брак Марии Петровны с Шамси Асадуллаевым стал возможным благодаря тому, что Мария Петровна была по исповеданию лютеранкой. Браки между православными и мусульманами в то время не разрешались.
Отец Банин Мирза Асадуллаев[92], старший сын Шамси Асадуллаева, родился в 1875 году, в Амираджанах. Был членом парламента АДР, министром промышленности и торговли в третьем правительстве Ф. Х. Хойского[93]. После установления советской власти в Азербайджане был арестован, а затем эмигрировал с семьёй в Европу.
Его первая жена Умм эль-Бану, дочь Мусы Нагиева, умерла при родах четвёртой дочери, которая получила её имя.
Вторая его жена Датиева Амина[94] (Тамара) была осетинка. Как пишет Банин в «Кавказских днях» (в дальнейшем ссылки на эту книгу без особого упоминания), во второй раз отец решил избрать «культурную спутницу жизни». Банин признаётся, что относилась к мачехе с восхищением, постоянно искала её расположения, хотя и безуспешно.
1905 год когда родилась Банин, был по её же словам «годом общественных беспорядков, забастовок, столкновений, погромов, кровавого армяно-азербайджанского противостояния». Мать Банин вынуждена была скрываться в одном из нефтяных посёлков, и умерла от родовой горячки, поскольку не было соответствующей медицинской помощи. Банин, как и три её сестры, осталась на попечении немки-гувернантки, фрёйлейн Анны.
Несмотря на то, что Банин родилась в сложное время, она получила хорошее домашнее образование, изучала европейские языки, играла на фортепиано, училась танцевать, рисовала.
В те годы в моду вошла фотография и немка-гувернантка, фрёйлейн Анна, часто фотографировалась вместе с девочками. Банин вспоминает: «неописуемая была картина: белолицая женщина-северянка в окружении горбоносых, густобровых чернявых девиц».
Банин называет фрёйлейн Анну пришелицей из другого мира, которая пыталась превратить своих воспитанниц в мягкосердечных Гретхен[95]. Она рассказывала девочкам немецкие сказки, пекла пирожные с кремом, которые были для них в новинку, ввела в обыкновение рождественскую ёлку, а по христианским праздникам пела с девочками христианские псалмы.
Многое изменилось, когда старшая сестра Банин сбежала с каким-то русским пилотом. Сестру вскоре вернули, но происшедшее получило в семье название «великого позора». Учительницы французского и английского были уволены, танцы, музыка, рисование – отменены. Банин отправили в городскую школу для мусульманских девочек, занятия там проводились на азербайджанском языке, многие девушки носили чаршаб[96]. В основном здесь учились дети бедняков, и Банин постоянно чувствовала их враждебность. Она не хотела учиться в этой школе, вскоре отец смилостивился и забрал её из ненавистной школы.
Всё вернулось в старое русло.
В традиционном духе пыталась воспитать подрастающих девочек бабушка. Это была женщина высокая, крупная, дородная, всем своим видом демонстрирующая свой властный характер.
Бабушка категорически отвергала европейскую культуру. Относилась к русским с неприязнью и брезгливостью. Она была убеждённой мусульманкой, своевременно совершала омовение и намаз, предпочитала сидеть на полу на ковриках и подушках, носила чадру и была строга и неулыбчива. Бабушка не позволяла прикасаться к своей посуде «неверным», а если такое случалось, раздавала «оскверненную нечистым прикосновением» посуду, беднякам. Когда недопустимо близко от неё проходил посторонний мужчина, бабушка сплёвывала, поругиваясь. Европейских избранниц своих отпрысков она называла «сучьими детьми» и считала непристойным жениться на иноверках. У бабушки были на то свои резоны: когда-то собственный муж бросил её, женившись на русской женщине с дурной репутацией, и с тех пор жил в Москве, в доме, переполненном иконами.
Банин не скрывает, что бабушка принадлежала к чуждому для неё миру. Куда ближе ей был мир, который олицетворяла фрёйлейн Анна, и, не в меньшей степени, мир мачехи, которая часто ездила в Париж и установила в доме европейский стиль жизни.
По требованию Амины отец Банин приобрёл два автомобиля «Мерседес-бенц». Купить их оказалось не самым сложным, гораздо труднее – научиться ими управлять.
Из Германии в Баку привозили не только автомобили, пианино, прислугу, служащих, но и моду носить усы «а-ля Вильгельм» в подражание Вильгельму II[97], который считался защитником турок и мусульман. Отец Банин, который часто бывал в Германии, также привозил оттуда не только различные подарки, но и по-новому подстриженные и завитые усы «а-ля Вильгельм». Таким он и запечатлён на фотографиях того времени.
На каком языке говорили в семье?
С бабушкой и с прислугой, особенно летом, когда уезжали в загородный дом в апшеронском селении, говорили на азербайджанском языке, другого языка окружающие не знали. С фрёйлейн Анной на немецком языке, другого языка она не знала.
Французскому языку девочек обучала специально приглашённая француженка. На французском языке Банин прочла многие французские романы, да и мачеха привозила из Парижа множество музыкальных записей и книг. Банин впитывала дух французской культуры, готовила себя к будущей парижской жизни.
А был ещё русский язык, старшие знали его хуже, младшие – лучше, но поскольку жили сначала в Российской империи, потом при Советах, без русского языка обойтись было невозможно.
Банин не скрывает, что свой родной язык не любила, почему-то обращалась к нему в состоянии гнева.
Можно ли сказать, что это было некое подобие «смешения французского с нижегородским», если использовать образное выражение из комедии «Горе от ума» русского писателя Александра Грибоедова[98]? В какой-то мере, хотя никто здесь не окал, а на некоторых иностранных языках молодые говорили вполне прилично.
Кто-то может сказать, что Банин воспитывалась, как сегодня принято говорить, в духе «мультикультурализма». Не думаю, что это так, чужое европейское легко вытесняло своё национальное, и о «равновесии культур» говорить не приходится.
Банин иронически, если не презрительно, относилась к миру бабушки, считала, что он безвозвратно ушёл в прошлое. Во время традиционных мусульманских траурных ритуалов, когда приглашались специальные женщины-плакальщицы и все женщины должны были горевать и лить слёзы, Банин и её сёстры с трудом сдерживали смех.
Она не могла примириться и с тем, что все мужчины их круга были купцами, кем ещё мог быть мужчина, говорить они могли только о доходах, о купле-продаже, женщина в лучшем случае должна была быть демонстрацией их богатства, роскошества их жизни.
Совершенно по-другому воспринимала она фрёйлейн Анну и мир, который она олицетворяла. По сравнению с фрёйлейн окружающие казались ей грубыми и чёрствыми, Банин не хотела на них походить и мечтала о том, что вырвется из их мира.
Вместе с тем, не следует делать поспешных выводов. Мечтала о Париже, оказалась в Париже, стала писать на французском языке, окончательно забыла про бабушку и про её мир, стала француженкой, французской писательницей. В какой-то мере это так, но именно «в какой-то мере».
По мере взросления она не могла не понимать, для Парижа, в котором она теперь жила, это были годы «праздника, который всегда с тобой»[99], её парижскому окружению не было дела не только до Баку, но и до всей России. Как бы враждебно не относились к ней на Родине, как бы дружественно не относились к ней в Париже, как бы ни восторгался ею знаменитый русский писатель Иван Бунин[100], к её русскому языку и, следовательно, к ней самой, он относился иронически как к провинциалке.
Не случайно, позже она скажет: «Мой род со своими Али-бабой, Гюльнарами, Лейлами и прочими вышел из Персии, а вовсе не из Ярославля или Царицына. Я не русская и пишу не для одной русской эмиграции. Да, я считаю себя западным человеком и западным читателем, а ещё больше – гражданкой мира».
Не будем обвинять Банин в том, что она говорит о «Персии», для неё это просто метафора того, что не Россия, не Франция, не Запад.
На вопрос «стала ли она гражданкой мира или не стала?» можно ответить, только если знать что означает быть «гражданкой мира». Главное, что она сама считала себя «гражданкой мира».
…Кенизе Мурад: поиски идентичности: «турчанка»…
Уже говорил, повторю, о Кенизе Мурад, на русском языке материалов почти нет. Пришлось, хотя бы отчасти заполнить этот пробел статьёй о Кенизе Мурад в Википедии на турецком языке, и 6-ти часовой передачей по Турецкому ТВ «Tarihin Arka Odası» (можно приблизительно перевести как «Неизвестные страницы Истории»), в которой Кенизе Мурад отвечала на вопросы и рассказывала о себе.
Кенизе Мурад внучка Хатидже Султан[101], дочери Османского султана Мурада V[102]. Это был необычный султан, поэтому о нём чуть подробнее.
Мурад V был известен кротостью характера, симпатиям к европейскому просвещению, склонностью к реформам, имел поэтический и музыкальный талант. Сильное влияние на него оказала французская культура.
С первого же дня правления стал обнаруживать явные признаки «психического расстройства»,
…можно допустить, что никакого психического расстройства не было, просто оказался неадекватным своему сану времени, обстоятельствам жизни, ведь не станем же с высоты XXI века считать меланхолию или сентиментальность «психическим расстройством»…
которые можно объяснить и разными излишествами, злоупотреблением спиртным, и несоответствием между мягкой натурой султана и бесконечными заговорами, которые плелись во дворце. Мурада V лечил специально выписанный из Вены психиатр, но вылечить его так и не удалось, возможно, и по той причине, что изменить обстоятельства жизни Мурада V психиатр был не в состоянии. Не стоит удивляться, что через 93 дня после восшествия на престол, Мурад V был низложен.
О Хатидже Султан, дочери султана Мурада V, Кенизе Мурад написала роман под названием «Из дворца в изгнание». Роман написан на французском языке, переведён на 34 языка, последним оказался турецкий язык (насколько могу судить, на русский язык роман не переведён). Роман получил широкую известность, только во Франции было продано 1200000 экземпляров (!).
Исторические обстоятельства предопределили перипетии жизни Хатидже Султан.
Во-первых, она родилась и воспитывалась во «дворце». Если представить себе, что в султанском гареме могло одновременно проживать от 700 до 1200 женщин, становится понятно, что это целый мир со своей иерархией, нормами поведения, борьбой за престиж, и многим другим.
Во-вторых, дочь низвергнутого султана, арест в самом дворце, полная зависимость от правящего султана (как оказалось последнего правящего султана Турции).
В-третьих, в период республиканской Турции, изгнание из страны всех отпрысков султанов.
Хатидже Султан и умерла в изгнание, в Бейруте в 1938 году.
Дочь Хатидже Султан от второго брака Сельма Рауф Ханым Султан[103] и стала матерью Кенизе Мурад. Отцом её оказался индийский раджа. Таким образом, формально Кенизе Мурад можно считать индианкой, по крайней мере, полуиндианкой, полутурчанкой.
Мать Кенизе Мурад умерла через несколько месяцев после рождения дочери (почти как мать Банин). Слуга матери (этнический албанец) вывез девочку сначала в Ливан, затем в Индию, наконец, в Париж. Когда немцы взяли Париж, слуга с девочкой нашли приют в Швейцарском посольстве, откуда её, после того как она подросла, передали во французский монастырь. После смерти слуги её удочерила и вырастила шведская семья.
Ей уже было 20 лет, она училась психологии в Сорбонне, когда впервые узнала о своём происхождении. Через год она поехала в Индию, нашла своего отца, который оказался индийским раджей, но решила в Индии не оставаться и вернулась в Париж.
После Сорбонны Кенизе Мурад стала международной журналисткой, прежде всего потому, что ей было интересно, что происходило в разных странах мира, особенно в горячих его точках. Её особенно привлекало то, что происходило в странах Ближнего и Среднего Востока, в Ливане, в Пакистане, в Индии, в Турции – она чувствовала своё родство с этими странами. Какое-то время она провела в лагерях беженцев, много писала об израильско-палестинском конфликте.
Она была в Пакистане в тот день, когда на Беназир Бхутто[104] было совершено покушение. У неё с Беназир были доверительные отношения, они встретились днём, договорились о вечерней встрече, но Беназир погибла в результате террористического акта.
Когда у Кенизе спрашивают, чувствует ли она себя принцессой, хотела бы жить так, как подобает правнучке султана, она отвечает отрицательно, ей больше по душе жизнь журналистки, сопричастной ко всему, что происходит в мире.
В Турции она оказалась поздно, уже известной журналисткой. Пошла во дворец Долмабахче[105], в котором жили османские султаны. Как сама признаётся, хотела прикоснуться до некоторых предметов, ведь ими пользовались её предки, но смотритель не разрешил. Потом она услышала, что рассказывает экскурсовод о психическом расстройстве Мурад V, не выдержала, вмешалась, не согласилась, экскурсовод удивился, откуда она это знает, пришлось признаться, что она его правнучка, носит его имя, хотя в первый раз приехала в Турцию. Её окружили, стали целовать руки, она смутилась, не привыкла к такому обращению, но почувствовала, она у себя дома, хотя в этом «доме» ей уже не позволяют дотрагиваться до предметов, которые стали экспонатами.
В одном из интервью её спросили:
«Кем вы себя чувствуете? Вы частично турчанка, частично индианка, частично шведка. Ваша идентичность очень пёстрая».
Кенизе Мурад ответила:
«Конечно по образованию и по языку я француженка. Но я не чувствую себя француженкой. Я из Среднего Востока. Индия это что-то другое. Я не чувствую себя индианкой, может быть по той причине, что не люблю Индию. В отличие от Турции, в Индии я чувствую себя чужой. В большей степени я турчанка, я из Турции»
Ведущий многочасовой передачи, о которой упоминал выше, спрашивал Кенизе Мурад сожалеет ли она о том, что не знает турецкий язык. Он был достаточно корректен, но задал этот вопрос, поскольку понимал, что он обязательно возникнет у телевизионной аудитории.
Кенизе Мурад отвечала спокойно и откровенно. Так уже сложилась её жизнь, она поздно узнала о себе, в первый раз приехала в Турцию уже взрослой, и сегодня ни о чём не сожалеет.
Со своей стороны добавлю, что в свои семьдесят лет (сужу по времени телевизионной передачи) Кенизе Мурад достаточно миловидна и обаятельна, держится с достоинством, часто улыбается. Она подчёркивает, что здесь она у себя дома, хотя живёт в другой стране и говорит на другом языке.
Что до идентичности, повторю, главное не происхождение, не «кровь», а то, как сам человек себя воспринимает.
Кенизе Мурад могла бы назвать себя и индианкой, и француженкой, и шведкой.
Назвала турчанкой, вот и весь ответ.
…«французский дух»
Банин называют «азербайджанская писательница, пишущая на французском», «французская писательница азербайджанского происхождения», и т. п. Какое из этих определений более точное? Всё зависит от смыслового контекста.
Если говорить о «Кавказских днях», то, на мой взгляд, в них есть то, что назвал бы французским духом. Мне трудно внятно объяснить, что я понимаю под этим «духом». Может быть то, что в книге Банин происходящее между мужчиной и женщиной отодвигает на второй план любые исторические или социальные потрясения. И когда это «между» описывается с некоторым озорством и лукавством, избегая каких-либо назиданий и морализирования. А в остальном надеюсь на воображение читателей, по крайней мере, тех из них, которые наделены таким воображением.
Теперь более конкретно.
Бабушка ворчит, непонятный новый век, главное для неё молитва, чадра, «чистые» и «нечистые». Банин иронизирует, когда-то муж бабушки бросил её и ушёл к русской женщине. Вот и объяснение рьяной религиозности. Богатство же бабушка принимает как должное, классовой солидарностью не страдает…
Пришли русские, большевики. Отец Банин, бывший депутат, бывший министр, в тюрьме. Умм эль-Бану влюбляется в большевика, работает в комиссии по описи, составляя список имущества окружающих домов, носит значок с изображением Ленина, притворяется, что её заставили.
Дальше, больше. Ходит в гости к этому большевику, ведёт себя с ними достаточно вольно, недотрогой назвать её нельзя. Решает с ним уехать в Россию, стать женой комиссара. Ей 15, ему 40, он русский, комиссар, классовый враг, но какое всё это имеет значение, если комиссар в её воображении похож на Андрея Болконского из «Войны и мира»[106].
Откровенно признаётся: «улетучилась куда-то наука добропорядочности, забылись традиции. Моё счастье пахло чёрной гимнастёркой, табаком и кожей». А это только возбуждает любовное чувство.