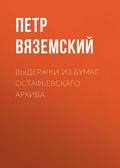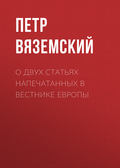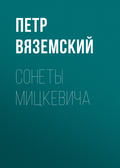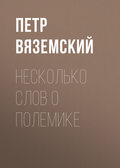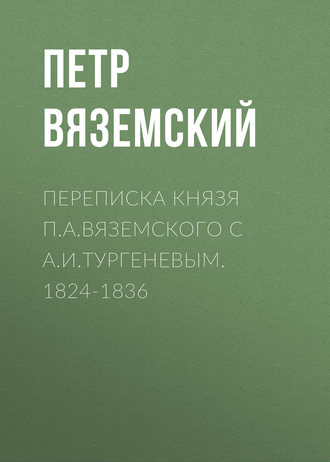
Петр Вяземский
Переписка князя П.А.Вяземского с А.И.Тургеневым. 1824-1836
747. Князь Вяземский Тургеневу. 25-го октября 1835 г. [Петербург].
Булгаков – Константин Яковлевич.
Голицын – князь Александр Николаевич.
Барант – барон Амабль-Гильом-Проспер-Брюжьер (род. 10-го июня 1782 г., ум. 23-го ноября 1866), член Французской академии, государственный деятель и известный историк, начавший гражданскую службу при Наполеоне, в 1819 г. бывший пэром Франции, с 1830 г. посланник в Турине, а с сентября 1835 во август 1841 занимавший такой же пост в Петербурге. Барант был сторонником Июльской монархии. Революция 1848 г. заставила его удалиться от дел.
Кроме исторических трудов, среди которых первое место занимает «Histoire des ducs de Bourgogne de la maison de Valois, 13 tt. Paris. 1824-1826 (отрывки в русском переводе печатались в Московском Телеграфе 1825 г.), Барант занимался критикой, публицистикой, написал «Tableau de la littérature fransaise au XVIII siècle». Paris 1806. (Русский перевод Ф. Молдинского: «Французская литература в течение XVIII столетия». С.-Пб. 1837) и переводил Лессинга, Шекспира, Шиллера. Его «Mélanges historiques et littéraires», три тома, были изданы в Париже в 1835 году.
После Баранта остались «Воспоминания» («Souvenirs»). Париж 1890-1900, 8 томов. Сюда же входят его депеши и переписка. Извлечения из них см. в Русском Архиве 1896, 1890, 1891 гг. и в Историческом Вестнике 1900 г., т. 81.
Барант был женат (с 1811 г.) на графине Цезарине Гудето. Один из сыновей его, барон Эрнест, дрался на дуэли с Лермонтовым в 1840 году.
Киселева – Софья Станиславовна. – Хвостов – граф Дмитрий Иванович (см. тт. I и II).
Бартенева – Федосья Ивановна (см. выше). Она имела восемь человек детей.
Шувалова – графиня Текла Игнатьевна (см. выше). – Потоцкая – графиня Мария Александровна. – Долгорукова – княгиня Екатерина Александровна. – Фикельмонт – графиня Дария Федоровна.
Камергер Август фон-Гёте, единственный сын великого писателя, умер в Риме 20-го октября 1830 г. в цветущем возрасте. «Сын Гёте бил страстный энтузиаст Наполеона; он сбирал все его портреты» (А. И. Тургенев. Отрывок из записной книжки путешественника – Современник 1837 г., т. V, стр. 300).
Виельгорская – графиня Луиза Карловна.
Смирнова – Александра Осиповна.
– (Стр, 277). Шереметев – граф Дмитрий Николаевич (см. выше), родная тетка которого, графиня Варвара Петровна (род. 2-го января 1759 г., ум. 27-го мая 1824), была замужем за графом Алексеем Кирилловичем Разумовским (см. т. II). С. С. Уваров был женат на их дочери, графини Екатерине Алексеевне (род. 5-го января 1781 г., ум. 14-го июля 1849) и таким образом, по жене приходился родственником графа Д. Н. Шереметева. Известно, что болезнь последнего и дала Пушкину повод написать стихотворение «На выздоровление Лукулла», которое било переведено на французский язык бывшим профессором Казанского университета Альфонсом Жобаром и посвящено Уварову.
Литта – граф Юлий Помпеевич (см. выше). – О княжне Марии Васильевне Долгоруковой су. выше. – О её отце, князе Василии Васильевиче, см. т. I.
Демидов – Павел Николаевич (род. 6-го августа 1798 г., ум. 25-го марта 1840), сын тайн. сов. Николая Никитича Демидова (род. в 1773 г., ум. в 1828) от брака его с баронессою Елизаветою Александровною Строгановой (ум. 7-го апреля 1818), егермейстер, известный благотворитель и меценат, в 1831-1834 гг. занимавший пост Курского губернатора. В 1836 г. он женился на А. K. Шернваль (см. выше).
748. Тургенев князю Вяземскому. 6-го ноября 1835 г. [Париж].
Булгаков – Константин Яковлевич. – Татаринов – Александр Николаевич. О жене Баранта см. примечание к 275-й странице. – Арженитинов – Иван Семенович.
Три волюма Баранта – его «Mélanges historiques et littéraires». (см. выше).
Киселева – Софья Станиславовна.
«Les chants du crépuscule» Виктора Гюго тогда только что появились в печати.
Вдова Е. Я. Булгакова, Мария Константиновна (см. т. II), получила пенсию в 6000 р. и аренду на 24 года по 3000 в год (Письма Жуковского к Тургеневу, стр. 290). У неё были дети: сын Александр (род. 18-го ноября 1816 г., ум. 7-го марта 1878), тогда корнет Кавалергардского полка, впоследствии генерал-маиор; дочери: Софья (ум. 25-го января 1902 г.), по смерти отца назначенная во фрейлины, впоследствии жена графа Бориса Алексеевича Перовского (род. в 1814 г., ум. в 1881); Мария (род. 28-го апреля 1823 г., ум. 8-го июля 1848), фрейлина, умершая девицею, и Екатерина.
749. Князь Вяземский Тургеневу. 30-го ноября 1835 г. С.-Петербург.
Ломоносов – Сергей Григорьевич (см. выше).
Прянишников – Федор Иванович (род. в Пержи 2-го февраля 1793 г., ум. в Петербурге 28-го апреля 1867), сын председателя пермской Гражданской палаты, питомец Московского университетского пансиона. Он начал службу с 1804 г. в Министерстве финансов и продолжал ее с 1819 г. в Министерстве народного просвещения, а с 1824 г. в почтовом ведомстве. В 1827 г. Прянишников был командирован князем А. Н. Голициным в Англию для изучения почтового дела и по возвращении оттуда представил просит реформ почтового управления в России, чем обратил на себя особенное внимание императора Николая. В 1831 г. Прянишников был назначен помощником петербургского почт-директора, в 1835 г. – директором, в 1854 – членом Государственного совета, в 1857 – главноначальствующим Почтового департамента. Кроме того, он состоял членом Совета Человеколюбивого общества, главного совета женских учебных заведений и почетным опекуном петербургского Опекунского совета.
Прянишников был большим любителем и знатоком картин и книг. Собранная им замечательная картинная галлерея, состоявшая из произведений русских художников, еще при его жизни была куплена императором Николаем и передана в Румянцевский музей. – А богатое книжное и рукописное собрание было пожертвовано вдовою его частию в тот же музей, частию в библиотеку Одесского университета, частию в симбирскую (Карамзинскую) библиотеку, частию в Белевскую, имени Жуковского, а также в Белградскую публичную. Императорская Публичная Библиотека, которой Прянишников с 1852 г. был почетным членом, получила в дар, кроме различных иллюстрированных изданий, драгоценную коллекцию масонских рукописей. (Формуляр. – Сушков, Н. В. Московский университетский благородный пансион, стр. 33. – А. Д. Ивановский. Ф. И. Прянишников и его картинная галлерея. С.-Пб. 1870. – Отчет И. П. Библиотеки за 1869 г.).
Прянишников был женат (с ноября 1818 г.) на Вере Александровне Леонрод (ум. 24-го апреля 1872 г., на 67 г.), воспитаннице Александры Петровны Хвостовой, рожд. Херасковой, поклоннице Лабзина, в ложе которого «Умирающий Сфинкс», основанной в 1800 году, Прянишников долгое время был членом и секретарем (Воспоминания А. Е. Лабзиной. С предисловием и примечаниями Б. Л. Модзалевского. С.-Пб. 1903, стр. 129).
Коллежский ассессор Владимир Филиппович Пфеллер состоял при VI-й экспедиции петербургского Почтамта, как «чиновник, знающий иностранные языки»; впоследствии он служил в Министерстве внутренних дел а в 1857-1862 гг. был Подольским губернатором. Умер в конце 1885 или в начале 1886 г. (Архив Капитула орденов). Пфеллер был сын страсбургского уроженца Филиппа-Фридриха Пфеллер, который состоял доктором при лазарете московского Почтамта.
Булгаков – Александр Константинович (см. примечание в стр. 278-и).
Разумовская – графиня Марья Григорьевна, жена графа Льва Кирилловича. О них см. т. I и Полн. собр. соч. князя П. А. Вяземского, т. VII, стрр. 100-101.
Владимир Григорьевич Бенедиктов (род. в Петербурге 5-го ноября 1807 г., ум. 4-го апреля 1873), воспитанник Петрозаводской гимназии (1817-1821) и 2-го кадетского корпуса (1821-1827), сперва офицер Измайловского полка (1827-1832), а затем чиновник Министерства финансов (1832-1860), дослужившийся до чина д. ст. советника, только что выпустил тогда книжку своих стихотворений, изданную его приятелем, В. И. Карлгофом (род. в 1796 г., ум. в 1841), вдова которого, Елизавета Алексеевна, по второму мужу Драшусова, сообщает в своих мемуарах следующие любопытные известия о первых литературных шагах Бенедиктова: «3нали, что он писал стихи, но он никому их не показывал; наконец мы упросили его прочесть и были в восторге. Мой муж, как и я, страстно любил поэзию и был увлечен стихами Бенедиктова; он носился в ними, как с неожиданно найденным сокровищем, прочитал их многим литераторам, которым они также чрезвычайно понравились, и все радовались появлению в русской литературе нового поэта с таким выдающимся дарованием. Не смотря на огромный успех, который имели в гостиных стихотворения Бенедиктова, он не решался печатать их, тем более, что находился тогда в довольно стесненных обстоятельствах и не имел на это средств. Мой муж взялся напечатать на свой счет… Томик его стихотворений скоро был раскуплен, и они имели необыкновенный успех. О них везде говорили, их клали на музыку, учили наизусть» («Жизнь прожить – не поле перейти» – Русский Вестник 1881 г., № 9, стрр. 141-142). И. И. Панаев рассказывает, что петербургские чиновники и литераторы, включая сюда и Жуковского, приходили в совершенный экстаз от стихов Бенедиктова, Только один Пушкин оставался хладнокровным к восходившему светилу (Литературные воспоминания. Изд. 3-е. С.-Пб. 1888, стр. 77). Журналистика не отстала от публики. В Московском Наблюдателе, в Библиотеке для чтения, в Литературных Прибавлениях к Русскому Инвалиду и в Северной Пчеле появились в высшей степени хвалебные отзывы о стихотворениях Бенедиктова. Только Телескоп в лице Белинского и отчасти Сын Отечества в лице Н. А. Полевого нарушили общественный гипноз, по милости которого Бенедиктов из заурядных гиперболических стихотворцев с оттенком пошлости и цинизма был возведен в первоклассные поэты. Замечательно, что теоретическим предшественником Белинского в деле уничтожения литературного авторитета Бенедиктова был глава того кружка, в которому принадлежал наш знаменитый критик. Вот что писал Станкевич Я. М. Неверову 10-го ноября 1835, еще до появления в печати первой статьи Белинского: «Бенедиктова я читал и не соглашусь с тобою. Он не поет или пока заглушает в себе поэзию. Из всех его стихотворений мне нравятся два: «Полярная звезда» и «Два видения». Во всех других одни блестки, мишура. Увлекая тремя-четырьмя счастливыми стихами, он вдруг холодит тебя каким-нибудь вычурным словом, которое он считает за прелесть! Что не стих, то фигура; ходули беспрестанные. Чувство выражается просто. Ни в одном стихотворении Пушкина нет вычурного слова, необыкновенного размера, – а он поэту Бенедиктов блестят яркими, холодными фразами, звучными, но бессмысленными или натянутыми стихами. Набор слов самых звучных, образов самых ярких, сравнений самых странных – души нет!» (П. В. Аненнков. Н. В. Станкевич. М. 1857. Переписка Станкевича, стрр. 156-156).
Козловский – князь Петр Борисович. О нем см. выше. – Киселева – Софья Станиславовна. – Виельгорский – граф Михаил Юрьевич.
Мысль о создании национальной оперы явилась у Глянки во время пребывания его в Италии (1830-1833). В 1834 г., по возвращении на родину, Глинка объявил о своем намерении Жуковскому. Последний, говорит Глинка в своих мемуарах, «искренно одобрил мое намерение и предложил мне сюжет Ивана Сусанина. Сцена в лесу глубоко врезалась в моем воображении; я находил в ней много оригинального, характерно-русского. Жуковский хотел сам писать слова и для пробы сочинил известные стихи: «Ах, не мне бедному, ветру буйному» (из трио с хором, в эпилоге). Занятия не позволили ему исполнить своего намерения, и он сдал меня в этом деле на руки барона росена, усердного литератора из немцев… Ему предстояло не мало труда; большая часть не только тем, но и разработки пьес были сделаны, и ему надлежало подделывать слова под музыку, требовавшую иногда самых странных размеров. Барон росен был на это холодец: закажешь, бывало, столько-то стихов, такого-то размера, двух, трех сложного и даже небывалого – ему все равно; придешь через день, уж и готово… Когда же размер и мысль не подходили к музыке и согласовались с ходом драмы, тогда являлось в моем пиите необыкновенное упрямство. Он каждый свой стих защищал с стоическим геройством» (Записки М. И. Глинки. С.-Пб. 1887, стрр. 101, 102, 103). Глинка свысока относившийся к либреттисту, остался недоволен неуклюжими, писанными под его деспотическую диктовку стихами росена, но сам автор, как видно из письма его в А. С. Пушкину от 13-го декабря 1836 г. (К. Я. Грот. Страничка из прошлого. Из истории оперы «Жизнь за царя». С-Пб. 1904. Оттиски из №№ 69 и 70 Правительственного Вестника. – Дневник Н. В. Кукольника – в журнале Баян, 1888, № 10, стр. 89), не смотря на насмешки Современников, был высокого мнения о своем произведении и гордился им (см. статью росена: «О странном похищении авторства» – в Северной Пчеле 1854 г., № 137. – И. C. Усов. Из моих воспоминаний – Исторический Вестник 1882 г., т. VII, стрр. 121-123). Первое представление «Жизни за царя» состоялось 27-го ноября 1836 г. на сцене возобновленного Большего театра (см. Северную Пчелу 1836 г., №№ 277, стрр. 280, 287-288, 291-292. – Московский Наблюдатель 1836 г., ч. IX, октябрь, кн. I, стрр. 374-384).
Барон Георгий Федорович росен родился в Ревеле 16-го декабря 1800 и получил солидное домашнее образование, в основу которого было положено изучение древних классиков. Особенно хорошо владел он латинским языком; на этом языке он писал даже стихи («Забытый писатель», статья М-е в газете Новое Время 1901 г., № 8986). По свидетельству Ю. К. Арнольда, лично знавшего росена, последний «имел глубоко-основательные познания в истории, в этнографии и в науке о древностях и был знаком с философскими учениями не только древнего мира, но и более новых и новейших эпох от Декарта и Спинозы до Канта и Фихте включительно. А что касалось начитанности его в сфере европейской литературы, в особенности немецкой и русской, то она была изумительна, как и память его» (Воспоминания Юрия Арнольда. Выпуск II. М. 1892, стр. 182). В 1819 г. росен поступил в Елизаветградский гусарский полк и, прослужив девять лет, вышел в отставку; но в 1831 году снова определился в военную службу, с назначением состоять при дежурном генерале главного штаба. В 1835 г. росен, переименованный в коллежские ассессоры, был, по ходатайству В. А. Жуковского, назначен секретарем в великому князю Александру Николаевичу, которого и сопровождал в заграничном путешествии 1838-1839 гг.; но в 1840 г., по болезни, вышел в отставку с чином надворного советника и с пенсиею в 400 рублей (Месяцеслов на 1832 год, ч. I, стр. 94;– росен, Л. Е. Очерк фамильной истории баронов фон-Розен. С.-Пб. 1876, стрр. 79-80;– Русский Архив 1878 г., кн. II, стр. 47; 1883 г., кн. II, стрр. XXXIV–XL: Письма Жуковского в Александру II). Он купил небольшой дом в Палюстрове, близ Бушелевского сада, и поселился в нем, женившись на своей экономке. Ведя затворнический образ жизни, росен занимался изящною литературой, лингвистическими, философскими работами, а также воспитанием детей своего брата и собственных. Умер он в Петербурге 23-го февраля 1860 г. Почти все оставшиеся рукописи росена, как ненужный хлам, были уничтожены братом его, бароном Павлом Федоровичем (Арнольд, стр. 184;– Новое Время 1900 г., № 8913: М. Иванов. Музыкальные наброски; 1901 г., № 8986; Северная Пчела 1860 г., № 46).
Из автобиографии росена, приложенной в немецкому переводу его трагедии «Дочь Иоанна III» (С.-Пб. 1841), а также из некоторых произведений его, имеющих автобиографическое значение: «Розалия», повесть, «А. Н. Дьяконову», стихотворение, «Константин Левен» (альманахи: Царское Село, 1830 г. и Альциона на 1831 г.), видно, что в нем рано пробудилась страсть к поэзии. «Моими первыми любимейшими поэтами, говорит он, «были Вергилий и Гораций; они жили со мною на берегах Дона и Волги, когда я начал служить в гусарах… Я убедился, что без поэзии дышать не мог, и оставалось мне только одно средство – вступить в тайную любовную связь с поэзией». При поступлении на службу росен плохо владел русским языком и потому стал усердно изучать грамматику, версификацию и главным образом заниматься переводами на немецкий язык лучших русских писателей, начав с современных и кончив старинными. После семилетнего упорного труда он настолько освоился с русским языком, что ногъ' довольно правильно, хота и тяжелым слогом, писать на нем. Достигнув таких результатов, росен не только выступил в печать, но вскоре стал считать себя даже знатоком русской речи, которой, выражаясь его словами, придал небывалый дотоле «блеск и колорит». «Известнейшие наши литераторы», поясняет росен в своей автобиографии, «часто выражали мне свое удивление, каким образом я, с трудом научившись русскому языку в манеже и на службе, так глубоко мог вникнуть в дух русской народности, как о том свидетельствовали первые мои драмы. Ответ был не труден. Быв совершенно отлучен от немецкого духа и от немецкой жизни, и в таком возрасте, когда сердце стремится в даль, в образованный мир, я должен был довольствоваться русскою национальностью. Первые мои любовные излияния должны были выражаться на русском языке. Часто приходилось мне с гусарами стоять в степной деревне, в ста верстах от полкового штаба, идиллически принимать участие в играх деревенской молодежи, слушать старинные сказки от краснобаев, веселые и унылые песни парней и девушек, одним словом – участвовать во всех отношениях народной жизни, и я неприметным образом всею душою обжился с духом национальным. Могу сказать положительно – и мое суждение будет беспристрастно – что в действительной жизни моей я ничего не встретил привлекательнее русской народной жизни, как мы находим ее вдали от столбовой дороги, в природном состоянии». Среди остзейских немцев росен представляет вообще редкое явление: живя в России, он полюбил ее и не только охладел в своей родине, но даже относился в ней иронически, что видно, между прочим, из стихотворения его: «Два ночлега» (Новое Время 1901 г., № 8986).
Первые литературные опыты росена появились в Дамском Журнале 1825 г. и в Московском Телеграфе 1826 г. Затем он сотрудничал в Северной Пчеле, Московском Вестнике, Русском Зрителе, Сыне Отечества, Литературной Газете, Северном Меркурии, Гирлянде, С.-Петербургском Вестнике, Библиотеке для чтения, Литературных Прибавлениях к Русскому Инвалиду, Современнике, Москвитянине, Отечественных Записках. Многочисленные произведения росена в стихах и в прозе печатались также в альманахах 30-х годов. Кроме Альционы (С.-Пб. 1831-1832-1833 гг.), издававшейся им самим, и Царского Села (С.-Пб. 1830), изданного сообща с Н. М. Коншиным, пиесы росена встречаются еще в следующих альманахах: Подснежнике 1829 г., Северных Цветах 1829, 1830, 1832 гг., Эвтерпе 1831 г., Венере 1831 г., росе Граций 1831 г., Невском Альманахе 1832 г., Новоселье 1833 г., Комете Белы 1833 г., Сборнике на 1838 год. Приведенный перечень журналов и альманахов, в которых сотрудничал росен, указывает на то, что он вращался в самых разнообразных литературных сферах обеих столиц. Между прочим известно, что в период усиленного развития своей литературной деятельности он посещал собрания, происходившие у А. Ф. Воейкова, Греча, Краевского, Кони, И. И. Панаева (В. Д. Бурнашов. Мое знакомство с Воейковым в 1830 году – Русский Вестник 1871 г., №№ 9-11. Его же: Из воспоминаний петербургского старожила – «Памятники новой русской истории». Сборник, изд. В. Кашпиревым, т. II. С.-Пб. 1872, стр. 77; Литературные воспоминания И. И. Панаева. С.-Пб. 1888, стр. 68; Воспоминания Юрия Арнольда. Выпуск II. М. 1892, стр. 176). Не смотря на свою беспартийность, росен оказывал однако явное тяготение к Жуковскому и в особенности к Пушкину, своим литературным покровителям. Старые же связи с Москвою он поддерживал через Шевырева и Погодина, с которыми находился в переписке. Из отдельно изданных произведений росена известны: 1) Три стихотворения. М. 1828; 2) Дева семи ангелов и тайна. С.-Пб. 1829; 3) Рождение Иоанна Грозного, поэма. С.-Пб. 1830; 4) Россия и Баторий. Историческая драма в 5 д., в стихах. С.-Пб. 1833. 5) Осада Пскова, трагедия в 5 д., в стихах. С.-Пб. 1834. Представлена в первый раз на Александринском театре 1-го октября 1834 г.; 6) Петр Баскаков, трагедия в 5 д., в стихах. С.-Пб. 1835; 7) Дочь Иоанна III, трагедия в 5 д., в стихах. С.-Пб. 1835; 8) князья Курбские (переделанная «Осада Пскова»); трагедия в 5 д., в стихах. С.-Пб. 1857.
Из всех трагедий росена только «Осада Пскова» появилась на театральной сцене, но и та не имела успеха. Патриотическая трагедии «Россия и Баторий» очень нравилась императору Николаю, который желал даже видеть ее на сцене, во потребовал некоторых перемен. Трудолюбивый автор не замедлил, с помощию Жуковского, перекроить свою пьесу, но на сцену она все таки не попала (Русский Архив 1868 г., ст. 636. – Н. П. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. IV. С-116. 1891, стрр. 155-156). От этой драмы хотят, чтобы она произвела хорошее впечатление на дух народный», записал в своем дневнике А. В. Никитенко («Моя повесть о самом себе», т. I. С.-Пб. 1904, стр. 234).
росен был поклонником классицизма, но это не мешало ему признавать заслуги романтизма, который «связал нас с прошедшею жизнию образованного мира, передал нам то, от чего, вследствие исторических судеб, мы были отделены, именно – век рыцарства доблести этих героев креста, Ахиллов христианского мира, их высокие понятия о чести, о личности, их благородное служение во имя красоты и любви». Случалось, что росен и осмеивал русских романтиков, но только запоздалых (кроме однако Марлинского), а не эпохи Жуковского, к которому относился с глубоким уважением, как к инициатору «новых нравственных начал, пробудителю высокого чувства и великодушных увлечений» (Рецензия росена на «Новые Стихотворения Жуковскаго» – Отечественные Записки 1849 г., т. LXII, отд. VI, стр. 8).
В литературной деятельности росена, отличавшейся большою производительностью и разнообразием, отчетливо выделяются три главные ступени: лирика, драма и критика.
Хотя некоторые из современников росена и называли его «отличным лирическим поэтом», хотя сам поэт и говорил, что Пушкин признавал в нем поэтическое дарование («Ссылка на мертвых», статья росена в Сыне Отечества 1847 г., кн. VI, отд. III, стр. 12), в действительности же росен был одним из заурядных стихотворцев своего времени, пиесы которого ни по своему содержанию, ни по внешней форме не представляли ничего замечательного.
Из воспоминаний современников росена и собственных его отзывов видно, что он считал себя не только знатоком драматического искусства, но и выдающимся русским драматургом. Такая высокая самооценка объясняется болезненно-развитым самолюбием автора, поощряемого дружески-одобрительными отзывами о нем Жуковского, князя Вяземского и Пушкина, хотя отзывы их и отличались вообще сдержанностью, даже уклончивостью, чего, конечно, не замечал самоочарованный драматург (Сын Отечества 1847 г., кн. VII, отд. III, стр. 11; Сочинения Пушкина, изд. под ред. П. О. Морозова, т. VII, стр. 552; Письма князя П. А. Вяземского к И. И. Дмитриеву – Русский Архив 1868 г., ст. 636; Литературные воспоминания И. И. Панаева. С.-Пб. 1888, стрр. 68-69). Замечательно верную оценку ему дал Булгарин в своем «Панорамическом взгляде на современное состояние театров в С.-Петербурге»: росен «до сих пор не создал ничего истинно-драматического, то-есть такого, что бы имело жизнь и движение на сцене… В драмах его есть создание, то-есть завязка, потому что он поэт, то-есть человек с воображением; во в частностях нет вовсе драмы. Это просто романы или повести в драматической оболочке – и эти романы или повести также не выдержаны. Барон росен начал поздно изучать русский язык, и он до сих пор принимает весьма многие слова и обороты в ином, неверном значении, обманываясь созвучием или не замечая во фразе оттенков. Кажется, что он преимущественно любит слог русских летописей, потому что выбирает из них беспрестанно устарелые, неупотребительные слова и перемешивает их с словами новыми или самодельными. Из этого выходит ужасная путаница в слоге» (Репертуар русского театра, на 1840 г., т. I, кн. III, стр. 20).
Признавая в себе «способность сделаться порядочным критиком» (Сын Отечества 1847 г., кн. VI, Отд. III, стр. 10), росен начал развивать в себе эту способность на сочинениях Пушкина (рецензии: 1) на «Бориса Годунова» – в Литературной Газете 1831 г., №№ 1, 2; 2) на «Стихотворения», изд. 1832 г. – в Северной Пчеле 1832 г., № 81; 3) «Мнение о драме Пушкина Борис Годунов» – в Литературных Прибавлениях к Русскому Инвалиду 1834 г., №№ 2, 3; 4) критические статьи на «Историю Пугачевского бунта» – в Северной Пчеле 1834 г., № 295; 1835 г., № 38), сделавшись впоследствии присяжным рецензентом Сына Отечества, и помещая время от времени критические статьи в других периодических изданиях. Есть известие, что росен был редактором Сына Отечества, одновременно с К. П. Масальским, который редактировал названный журнал в 1842-1851 гг. (В. Р. Зотов. Петербург в сороковых годах – Исторический Вестник 1890 г., т. XL, стр. 558. – Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. III. С.-Пб. 1896, стр. 79). Однако, старания трудолюбивого критика не увенчались успехом, так как он был лишен того эстетического чутья, без которого критик делается неспособным правильно понимать новые литературные течения и беспристрастно относиться к вин. Таким образом «Ревизор» и «Мертвые души», по понятиям росена, враждебно относившагося в Гоголю (см. статью: «Поэма H. B. Гоголя об Одиссее» – Северная Пчела 1846 г., № 181), явились образцами безвкусия, а сам автор их – «не более как забавный рисовальщих каррикатур»; истинным призванием Гоголя росен считал духовное писательство (Сын Отечества 1847 г., кн. VI, Отд. III, стр. 40; кн. IV, Отд. VI, стр. 12; 1848 г., кн. VII, отд. VI, стр. 31); Марлинского он называл «грандиозным, гениальнейшим из русских писателей» и, сопоставляя его с Лермонтовым, давал последнему такую оценку: «Произведения Лермонтова, при всей несостоятельности своей перед судом истинной критики, заслуживают внимания и, вероятно, понравятся еще молодым людям будущего поколения, в тот период жизни. когда дикое и отрицательное производит на людей какое-то прельстительное впечатление; но никто из нас, блюстителей русского Парнасса, в звании журнальных рецензентов, не должен сожалеть о том, что пресеклось столь нехудожественное, столь горькое направление поэзии; и самая поэзия эта, сколь ни замечательна при отдельном рассматривании её, теряет всякое значение в русской поэзии вообще, как проявление несозревшего дарования, не отличавшагося самобытностью и бывшего только подражательным» (там же, 1849 г., кн. I, Отд. VI, стр. 3); про Московский Телеграф, лучший из русских журналов своего времени, росен отзывался так: «Московский Телеграф только разрушал, ничего не созидая, и в добавок завещал своему журнальному потомству дурной пример, что можно приняться за журнал без всяких приготовительных сведений* (там же, 1848 г., кн. VI, Отд. VI, стр. 1. См. также статью росена: «Нечто о Московском Телеграфе» – Сын Omeчecmвa 1832 г., ч. 148).
В своей брошюре: «Вторая неудача Уваровских наград» (оттиск из Северной Пчелы, 1859 г., № 7) росен, коснувшись вопроса о современной ему критике, высказал следующий о ней взгляд, любопытный по отношению в Белинскому: «Мусульманское его, без сомнения, много повредило России в нравственном отношении; напоследок исламизм пробрался и в нашу журнальную критику: Осип Сенковский судил и рядил, как как Татарский, вслед за ним, столь же мало понимая изящное, Виссарион Белинский довершил Татарщину Русской критики. Странно, что сии два главные развратителя вкуса публики составляли самый резкий между собою контраст: один – учен и умен, но холоден, бездушен, истый Мефистофель! Другой – пламенный невежда, т.-е. без всякого образования; многошумный Koрибант в своих критических бреднях, безтолков, безразсуден до такой степени, что принимался ниспровергать своим кулаком вековой порядок эстетического мира». К наиболее существенным критическим статьям росена, кроме указанных уже, следует отвести еще следующие рецензии, напечатанные в Сыне Отечества: на сочинения Булгарина (1847 г., кн. III, IV; 1848 г., кн. XI), князя П. А. Вяземского (1848 г., кн. VI), Е. П. Гребенки (1848 г., кн. III), В. А. Жуковского (1844 г., № 2; 1849, кн. I), Ф. Б. Миллера (1849 г. кн. X), К. К. Павловой (1848 г., ни. V).
Не ограничиваясь лирикой, драмой и критикой, росен писал еще поэмы, повести, большею частью мистического характера, «без складу во складам, без толку по толкам», как выражался А. В. Бестужев (Письма в Полевым – Русский Вестник 1861 г., т. XXXII, стр. 327), легкие историко-географические очерки в форме путешественных записок и статьи, посвященные некоторым специальным вопросам. Между последними следует упомянуть статью «О рифме» (Современник 1839 г., кн. I), в которой автор проводит ту мысль, что «рифма не нужна для истинной, классической поэзии», и брошюру: «Отъезжия поля» (С.-Пб. 1857), представляющую попытку доказать происхождение русских от скифов.
Из переписки росена напечатаны письма его в Булгарину, 1848, 1853 гг. (Русская Старина 1901 г., т. СV, стрр. 387-392); к В. А. Жуковскому, 1834 г., (там же, 1903 г., т. CXV, стрр. 455-456; к А. С. Пушкину, 1831, 1833, 1836 гг. (В. Я. Брюсов. Письма Пушкина и к Пушкину. М. 1903), к С. П. Шевыреву, 1831, 1832, 1833 гг. (Русский Архив, 1878 г., кн. П, стрр. 47-48). Отрывки из писем в Погодину находятся в исследовании Н. П. Барсукова: Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. IV. С.-Пб. 1891, стрр. 14, 15, 19, 156, 156.
Кавказский росен – сын генерал-поручика барона Владимира Ивановича росена (ум. в 1792 г.) и баронессы Олимпиады Федоровны, рожд. Раевской, барон Григорий Владимирович (род. 30-го сентября 1782 f в Москве 6-го августа 1841), генерал-адъютант, генерал от инфантерии, с 1831 г. командир отдельного Кавказского корпуса, главноуправляющий гражданскою частью я пограничными делами в Грузии, Армянской и Кавказской областях, с 1837 г. сенатор. росен был женат (с 12-го февраля 1812 г.) на фрейлине, графине Елизавете Дмитриевне Зубовой (ум. в Москве 9-го февраля 1862 г., на 72 г.). 7 них была дочь, баронесса Прасковья Григорьевна (род. в Москве 15-го ноября 1825, ум. там же 12-го августа 1899), известная впоследствии игумения Митрофания, основательница Покровской общины сестер милосердия (А. Е. росен. Записки декабриста. Лейпциг. 1870 и его же; «Очерк фамильной истории баронов фон-Розен». С.-Пб. 1876. – Русская Старина 1902 г., тт. СИХ-СХИИ).