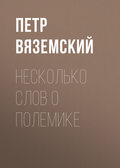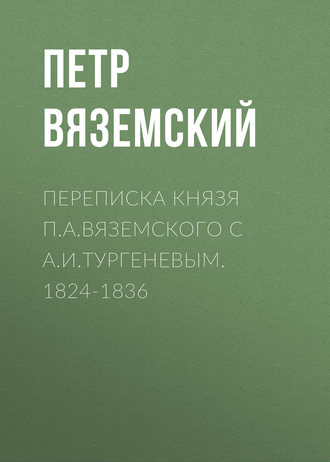
Петр Вяземский
Переписка князя П.А.Вяземского с А.И.Тургеневым. 1824-1836
715.
Князь Вяземский Тургеневу.
[Первая половина октября. Село Мещерское].
Я очень обрадован был, любезный друг, твоею мертвою граматою, а еще более живою – Эльфинстоном, которая была полнее первой и удовлетворительнее в ответах на вопросы участия и дружбы о твоем здоровье, житье-бытье и прочем; только по несчастию и живая-то грамата не очень расевает рот. Ос, кажется, молодой человек с познаниями и образованностью, но не свободно изъясняется на французском языке. Тебе хорошо! Ты, говорят, так и режешь на английском диалекте: то ли дело сидеть на рост-бифе. Эльфинстон нечаянно застал меня в Москве. Вперед рекомендуй мне своих европейцев в степи: высылай мне их в Тамбов, в Пензу, в Саратов. Разве ты забыл, что я живу в тех краях, в деревне у Кологривовых? Я здесь теперь по делам на короткое время. Собирался было уже ехати, обратно, но со второй станции должен был возвратиться, переломив два экипажа, потому что по нашим дорогам нет человеческой езды. Ты видишь, что на святой Руси все по старому: святость неизменная, мощи нетленные. Я твоим англичанам не показывал шапки Мономаховой, а показывал цыганок: это более по моей части. Впрочем, они все видели здесь, что можно видеть.
Что сказать тебе об нас закадышного? Все вяло, холодно, бледно. И война, которая могла придать жизни и поэзии нашему быту, обратилась в довольно гнусную прозу. Она наводит на всех большое уныние: удачи что-то неудачны, а неудачи действительны. Россия не нуждается в военной славе; могут нуждаться в ней некоторые лица, но народу и отечеству прибыли от того не будет. У нас нет взаимности и между массою и верхушками. А между тем и этой славы нет: Румянцевы и Суворовы не так дрались с турками; теперь только что нас не бьют наповал, а баснословных успехов нет. Вот что говорят единогласно, и я никогда, едва ли даже и в 1812 год, видел такое общее уныние, остудение, как ныне. Замечательно также, что, кроме Хвостова и Шаликова, нет певцов на газетные победы. Будущий Иоанн Миллер должен будет означить это в истории нашего времени.
Об отдаленных также ничего утешительного не слыхать, кроме того, что некоторые, выслужив свои каторжные года, переведены на поселение: например, Чернышев, Кривцов, о места поселения назначены им невыгодные. Пущину, Коковницыну, разжалованным в солдаты, возвращены офицерские чины в армии Паскевича. Кстати: мне давно Е. Ф. Муравьева дала поручение для тебя; со слезами на глазах просила она меня уведомить тебя, что Никита, уже после суда, клялся ей, что он никогда ничего не доносил на брата твоего, как о том сказано в отчете Следственной коммиссии. Ее душила эта ложь, и несколько раз умоляла она меня обнаружить ее тебе при первой возможности.
Несчастный Батюшков здесь, и все в том-же положении. Я хотел его видеть и, с согласия его доктора, написал ему предварительно записку; но он кинул ее на пол и сказал, что он никакого Вяземского не знает и никого не знает, потому что он сто лет уже умер. Он и на доктора своего сердит и не говорит с ним. Екатерина Федоровна присылала к нему на днях священника: он прогнал его и проклинал. Говорят, что в Петербурге заводится на Петергофской дороге дом для сумасшедших под ведомством вдовствующей государыни. Должно надеяться, что это заведение получит хорошее образование, и тогда думают поместить Батюшкова туда. Доктор, который теперь при нем и привез его из Дрездена, вероятно, далее года оставаться не захочет. Кому же тогда поручить его? Из хороших врачей здесь никто не пойдет в караульщики, а дюжинному доверить нельзя. Из числа несчастных сибиряков помешался князьФедор Шаховской, поселенный.
Получил ли ты мое письмо, писанное весною в Петербурге, с французским содержанием по французскому журналу? Нельзя ли как-нибудь прислать сюда этот журнал? Ведь он, кажется, не политический; следовательно, вероятно, пропустят. Теперь ценсура и внутренняя, и внешняя немного поотошла. О Дашкове, главном создателе ценсурного устава, ничего не слыхать. Он все при главной квартире, по существование его нигде не пробивается. Официальные бумаги им не пахнут, и его имя нигде не упоминается.
15-го октября.
Вчера пришедшее известие о занятии Варны нашими войсками немного поуспокоило умы; подробности еще неизвестны. Много лент, награждений;. но может ли быть что-нибудь для русского честолюбия в Андреевской ленте Дибича или в Владимирской Бенкендорфа? Ce sont les Suisses de Louis XVI. Единодушно жалеют о ране Меньшикова, которая не дозволила ему доварить Варны и передала ее Воронцову. О Воронцове скандалезеое известие: ос жаловался государю на Александра Раевского, сына Николая Николаевича, – и Раевского вывезли из Одессы с жандармом в Полтаву для прожития под присмотром. Подробности не достоверны, но сущность дела несомнительна. – .Так ли поступают у вас в Англии? Тимковский, бывши губернатором в Бессарабии, говорил, что он так уважает графа, что всегда жалеет, зачем нет его в английском парламенте.
О литературе сказать нечего. Она вся заключается в двух или трех журналах и в альманахах. Пушкин, сказывают, поехал в деревню; теперь самое время случки его с музою: глубокая осень. Целое лето кружился он в вихре петербургской жизни, воспевал Закревскую; вот четыре стиха, которые дошли до меня:
И мимо всех условий света Стремится до утраты сил, Как беззаконная комета В кругу рассчисленном светил.
Еще написал он народную балладу «Утопленник», где много силы:
И в опухнувшее тело
Раки черные впились.
Вероятно, все это будет в «Северных Цветах»; будет много и моего и прекрасно рассказанная сказка Боратыеского, который кончил также и свой «Бальный вечер». Чем более вижусь с Боратынским, тем более люблю его за чувства, за ум, удивительно тонкий и глубокий, раздробительный. Возьми его врасплох, как хочешь: везде и всегда найдешь его с новою своею мыслью, с собственным воззрением на предмет. Сегодня разговорились мы с ним о Филарете, к которому возит его тесть Энгельгардт. Он говорит, что ему Филарет и вообще наши монахи сановные напоминают всегда что-то женское: рясы, как юбка, и в обращении какое-то кокетство, игра затверженной роли и прочее. Мне кажется, это замечание удивительно верно. Филарет критиковал в «Борисе Годунове» сцену кельи отца Пимена, в которой лежит на полу Гришка Отрепьев, во-первых, потому, что в монастырях монахи не спят по двое; положим, это так; но далее: зачем заставлять Отрепьева валяться на полу? «Взойдите», говорит он, «в любой монастырь, в любую келью: вы найдете у каждого монаха какую ни есть постелитку, не богатую, но по крайней мере чистую». Каково это тебе покажется, господин филофиларет? И не правду ли отгадал я в своем поэте, когда заставил его сказать:
И что я в умники попал –
Не знаю, как случилось.
Наконец, Безобразова кончила свои вдовьи похождения, и неделю тому обвенчали мы ее с Тимирязевым, тебе знакомым. Он снова вступил в службу в Варшаву, и недели через две они туда отправятся. Кривцовы живут в деревне на неопределенные времена, в нашем соседстве, то-есть, по степному, верст около ста; по мы видимся изредка: это все таки хорошо, чтобы выполоскать себе рот свежими речами, а то засохнет во рту от домашних разговоров. Я называю свой край «la Saratovie pétrée», от Петра Александровича Кологривова, и говорю, que je m'у suis empêtré, по той же этимологии. Впрочем, думаю, что у нас теперь в провинции можно жить: материальные материалы существуют, а интеллектуальных немногим менее, чем в Москве. В России – один Петербург, где можно найти все удобства жизни; но как там жить, не продав души, подобно Громобою? Надобно непременно приписать душу свою в крепость, а не то – в крепость…
Денис Давыдов называет победы Паскевича: «des pasquinades». Врасплох заставляют меня кончить письмо. Я в него напичкал все, что мог, кроме ума, потому что ума, право, нет. Я, очевидно, здесь деревенею. Шутки в сторону: мне этого интеллектуального заточения не выдержать, и того смотри, что экспатрируюсь. А твой брат о том горюет. Я его не понимаю. Неужели можно честному русскому быть русским в России? Разумеется, нельзя; так о чем же жалеть? Русский патриотизм может заключаться в одной ненависти России, такой, как она нам представляется. Этот патриотизм весьма переносчик. Другой любви к отечеству у нас не понимаю. Скажи это брату и обними его за меня. Он может быть еще хорошим русским: пускай пишет о России без желчи, по с строгою истиною. Я не люблю малодушие, которое он показывает: любовь к России, заключающаяся в желании жить в России, есть химера, недостойная возвышенного человека. Россию можно любить как – , которую любишь со всеми её недостатками, проказами, но нельзя любить, как жену, потому что в любви к жене должна быть примесь уважения, а настоящую Россию уважать нельзя. Dixi. Обнимаю тебя нежно.
716.
Князь Вяземский Тургеневу.
14-го ноября 1828 г. Москва.
Недавно писал я, тебе с твоим англичанином, теперь пишу с своим Charnier, морским капитаном; он прожил с нами несколько недель и расскажет тебе о Москве. Смерть императрицы захватила все веселия в самую минуту их распускания. Она очень всех огорчила; и в самом деле, потеря важная по многим отношениям. Она была наш лучший администратор, и места, ей подведомственные, расстроятся без неё. Она была и последнею связью с прошедшим. Теперь новая эра, новое поколение: как ни говори, elle couservait les traditions d'un meilleur temps, по крайней мере в формах вежливости, которая также род цивилизации. Теперь что-то холодно, мороз по коже подирает. Как бы мне хотелось прочь убраться лет на десять, пока Павлуше можно еще быть отлученным из России. Я для России уже пропал и мог бы экспатрироваться без большего огорчения; признаюсь, и за Павлушу не поморщилась бы душа, а за дочерей и говорить нечего. Я не понимаю романической любви к отечеству. Я не согласен на то, что где хорошо, там и отечество, но и на то не согласен: «Vive la patrie quand même», или по крайней мере: «Vis dans ta patrie quand même!» Сделай одолжение, отыщи мне родственников моих в Ирландии: моя мать была из фамилии O'Reilly. Она прежде была замужем за французом и развелась с ним, чтобы выйти замуж за моего отца, который тогда путешествовал. Сошлись они, кажется, во Франции и едва ли не в Бордо. Жаль мне, что переписка их, бумаги развода и другие теперь в Остафьеве, а то я мог бы дать тебе более подробностей. Может быть, и придется мне искать гражданского гостеприимства в Ирландии. Еще лучше, если бы нашелся богатый дядя или богатая тетка для моих детей. Вот славное приключение романическое! Будь Вальтер Скоттом нашего романа.
Пушкин, сказывают, написал поэму «Мазепа», в трех песнях, кончающуюся Полтавской битвой. Ему всегда было досадно, что Байрон взялся за него и не доделал. У нас довольно или очень странное явление» в литературе. Муравьев, статс-секретарь, издал свои сочинения под названием: «Некоторые из забав отдохновения Н. И. Муравьева, статс-секретаря е. и. и., тайного советника, сенатора и проч.» Этому статс-секретарю, государственному редактору, «Московский Вестник» доказывает, что он без логики, без грамматики и без человеческого смысла. Тут выводится заключение: если таково его отдохновение, то какова его работа? Жаль, что у меня нет книжки «Московского Вестника» для выписок. «Телеграф» говорит о книге или «Забавах»: «Читая их, видим, что автор создал себе особенный род сочинений, слога, мыслей и даже слов». У нас для развлечения скуки проскакивают явления довольно потешные. За то какая и мерзость в «Московском Вестнике»: ругательная критика Арцыбашева на «Историю» Карамзина! В глазах его и заглавие неправильно; «Надобно», говорит он, «сказать: История о государстве Российском, а «История государства Российскаго» не по-русски». Вся критика в этой силе. Я не утерпел и отпустил в «Телеграф» сказку на этих мерзавцев и дураков. Дмитриев точно растревожен гнусностью этих подлецов. В этом холодном человеке и, по многим приметам, эгоисте страстная дружба к Карамзину умилительна и совершенно с ним примирительна. Друзьям Карамзина нельзя не прилепиться к Дмитриеву: в нем горит петленное чувство.
Прости, любезный друг! На днях еду во-свояси, то:есть, в саратовские степи. Когда увидимся? Да помолись же европейскому Богу, чтобы он призвал меня на свое лоно, на свой просвещенный континент! Я, право, здесь, как несчастный Робинсон, брошенный на острове, окруженном океаном варварства и скуки. Здесь у меня и есть Пятница, по беда в том, что здесь семь пятниц на неделе, а воскресения нет. Обнимаю тебя от всей души. Скажи мое почтение и дружбу брату. Ради Бога, перетащите меня в Ирландию!
Я сейчас распечатал пакет Жихарева, чтобы вложить мое письмо, и узнаю, что он говорит тебе о том, что я ее хотел тебе говорить: мне не хотелось огорчить твою дружбу ко мне до времени. Дело в том, что по поводу какого-то журнала, о котором я понятия не имел, сказали государю, что я собираюсь издавать журнал под чужим именем, а он велел мне через князя Дмитрия Владимировича Голицына объявить, что запрещается мне издавать оную газету, потому что ему известна моя развратная жизнь, недостойная образованного человека, и многие фразы, подобные этой. Я прошу следствия и суда; не знаю, чем это кончится, но если не дадут мне полного и блестящего удовлетворения, то я покину Россию. Вот ключ к моим ирландским изысканиям. Я уверен, что удовлетворения мне не дадут, потому что и теперь уже слышно, что сбиваются на какое то письмо мое, которое должно било мне повредить. Эпиграмма – не преступление и не разврат. При первом случае постараюсь тебе доставить мою и обо мне официальную переписку.
1830.
717.
Тургенев князю Вяземскому.
Апрель. Париж.
Вот тебе первая лекция марсельского Вильменя – Ампера, моего приятеля, уважаемого и Нестором Германии – Гёте и, что всего лучше, обожателя милой вдовы Рекамье. Вероятно, вложу в пакет и речи Ламартина, Кювье и стихи Лебрена, в коих найдеть несколько стихов, напоминающих твои, не помню откуда. Я был на приеме Ламартина. Он кадил всем и каждому и не похвалил только Дарю, коего хвалить был обязан. Cuvier – гигант и в безделицах! Если бы сердце было на месте, то описал бы тебе его беседы субботния и буйные вечеринки поэта-литератора, коего назвать тебе не смею, но вся эта мелочная литература только мимоходом занимает меня. Я живу в других идеях и полон иным чувством. Я бы должен был уступить тебе мои здешния знакомства и отношения к некоторым; ты бы лучше выжал из них сок, который не питает, не оживляет твоего Тургенева; увы, «где прежний я»? Где прежний Гримм? Обними Карамзиных. Встретимся ли в Европе? Даже и о них мало думаю, хотя и нередко.
Посылаю и несколько прелестных куплетов моего немецкого поэта. Прочти их Козлову, если ты читаешь по-немецки, и обними его и весь круг его милых ближних. Скажи ему, что я здесь вижу часто его приятельницу, графиню Шувалову. Все три сестры здесь, и я люблю эту милую троицу, особливо Потоцкую, которая не одним острым носиком и томными глазками здесь нравится.
Скоро будет новый прием в Академии – графа Сегюра, автора «Французской войны в России». Теперь еще ваканция, и кандидаты бессмертия, по обыкновению, разъезжают с визитами по 39-ти бессмертным в надежде избрания. «Фигаро» предлагал тринадцати кандидатам нанять для сих разъездов один omnibus, à six sols par immortel. Cousin, Ancelot, Pongerville – главные претенденты, но Cousin, по таланту и трудам, – достойнейший. Понжервиль – переводчик Лукреция: c'est tout dire. Да еще и какой: желая не одному чорту свечку ставить, он нашел в нем догмат бессмертия души! Кстати о бессмертии: Рекамье, за неделю перед сим овдовевшая, сблизила меня с Шатобрианом, и я имею право встречать его иногда у ней en tête à tête (моя голова не в суете) и наслаждаться их беседою. Скоро он выдает первые томы своей «Французской истории», которую депутат левой стороны – Гизо освещает теперь иным светом.
Сын бывшего подольского губернатора, ныне пэра Франции, St.-Priest, пишет историю Петра Великого. Он известен по сию пору только переводом русских трагиков и собственною трагедиею, которую только еще здесь слушают на вечеринках, а не читают, и статьею о Гишпании в «Revue franèaise», где много оригинальных замечаний и новых о сей старой монархии. Что же ты ничего не прислал для «Revue»? Она – все лучшее периодическое издание; и новая жена Гизо – также писательница, и доставляет статьи в «Revue». Но лучшие, по моему мнению, – дюка Броглио, обнимающего не одну французскую ученость, но я немецкую философию, идеи метафизические германцев с практическою политикою Франции и Англии. Жена его – дочь madame Staёl. Я люблю её милую и строгую рожицу и ум методический, и религиозность методистов. Есть я еще умная и некогда слабая и прелестная женщина – St.-Aulair, жена пэра-писателя, с милыми и умными дочерьми, с коими слушаю я курс истории естественных наук Cuvier и болтаю о немецкой и английской поэзии; а они могли бы болтать и о греческой, если бы я звал по-гречески, как они. Все бы это для тебя по зубам, а еще более по душе и, конечно, не уступили бы в любезности твоим княжнам, фавориткам Чернышевского переулка.
Третьего дня Соболевский, который месяца четыре был здесь в числе fashionables и в туфлях ездил на вторники madame Ancelot, уехал чрез Брюссель и Голландию в Лондон. Он желал что-то послать к тебе, но не знаю, удалось ли?
Сверчкова, урожденная Гурьева, сказывала мне, что у ней есть остаток денег, тебе принадлежащий. Она точно не знала тогда сколько, но обещала счесть и сказать мне и просила спросить тебя, что с ними делать. Кажется, около или немного более ста франков, оставшихся по уплате долга за князя Федора Гагарина. Если хочешь, я получу с неё эти деньги и, по рассчету, скажу Жихареву, чтобы он выдал тебе. Ожидаю разрешения. Прислать на них ничего нельзя, ибо ничего не берут курьеры, а других оказий нет. Не знаю, и речи примут ли? Пиши ко мне. Я желал победить тоску и беспокойство письмом к тебе, но в голове бродит иная, все поглощающая мысль, и мыслям посторонним места нет. Какая веселая зелень в Тюлери! Как все цветет на гробах Пэр-Лашеза, как тихо на могиле моего Сережи! И под нею шумный и туманный Париж. Разъезжал в блестящем экипаже и шатался пешком в Longchamps. Заметь, добрый повеса, что религии обязан народ не только великими утешениями за гробом, но и простыми увеселениями здешней жизни. Некогда таскались знатные в монастырь Lougchamps на поклонение; теперь гуляет там народ вместе с пэрами.
Дай знать Жихареву, что получил его краткое письмо, возвещающее длинное, с князем Щербатовым. Роздай книгопродавцам объявления о Балаеше и о «Mercure des salons». Первый – мой приятель и penseur, второго протежирует князь Долгоруков. Отошли письмо Полетике.
718.
Князь Вяземский Тургеневу.
1-го января 1830 г. [Москва].
Здравствуй и на 1830-й год, любезный друг! Чего тебе желать?
Покою, мой Капнист, покою,
Которого нельзя купить
Казной серебряной, златою,
Ни багряницей заменить.
Я хотел бы только заменить в этих стихах слово Капнист, потому что он в стихотворцах выше тебя, а в поэтах гораздо ниже, а для меня поэзия и бессловесная гораздо выше стихотворчества самого словесного. В тебе именно нет покоя, а он именно тебе необходим. Положение твое очень сносное; только, родившись белокурым или поседевший, не бейся головою в стену с досады, что ты не черноволос. Как ни умничай, как ни горячись духом, но нет в природе убедительного доказательства, что беда быть белокурым. Твои письма раздирают мое сердце, но вместе и досаждают. Чего ты ждешь? Чего ты можешь ждать? Ты для меня похож на людей, которые ожидают от Полевого историй лучшей истории Карамзина.
21-го апреля. [Петербург].
Вот, мой милый друг, что писал я к тебе из Москвы в самый новый год и что подтверждаю тебе по совести и по душе из Петербурга, около четырех месяцев спустя. Ничто не переменилось, а хуже всего то, что ты не переменился, не утих душою, все еще волнуешься волнением без цели. Ты жил между нами; ты нас знаешь и строишь на нас воздушные замки; говоришь о Кушникове, требуешь от Кушникова героизма, мученичества за истину, ему чуждую. Верю, что, по мягкости сердца своего, он с теплотою и живостью принимал впечатления, которые ты вдавал ему; но, по той же мягкости головы, правил, обычаев, он не в состоянии сохранить эти впечатления, перенести их сюда и отпечатывать на других. И какое средство у нас законным образом противодействовать тому, что законом уже решено и совершено, совершено кем же? Верховным судом, против коего нет апелляции, разве пред одним судом потомства и Бога. Можно ли нарядить новый суд для исследования одного осуждения? Где избрать судей? Не прежние ли явятся с новыми предубеждениями, с новым упрямством, ибо тут должно им будет судить и себя, судить свой прежний суд; положим и не свой, но суд двоюродных братьев, дядей, одним словом, своих. С того времени нет еще у нас нового поколения, новой эры: мы все при тех же и при том же. Как дотронуться до одного осуждения, не расшевелив всех осуждений, не подъяв со дна Сибири всего дела, не повернув мертвых без гробов, не поразив ста семейств, которые в праве были бы требовать: «Пересмотрите дела и наших: наши еще несчастливее!» Верно и между ними есть невинные, и много таких, которые наказаны не по мере преступления. Ты можешь желать помилования, по и помилование невозможно, ибо оно было бы несправедливостью для других; и если миловать, так миловать скорее из тех, которые наказаны de fait, которых жизнь – какая-то живая смерть, не политическая, не умозрительная, но положительная смерть, которая родит живую смерть, как у Муравьева, Трубецкого и других, наживших или приживших детей, для коих нет будущего. Да и захочет ли помилования тот, qui est à la hauteur de son iufortuue, который не захочет сойти с неё; перейти – дело другое, перейти на степень себя достойную; но этот переход у нас невозможен. У нас выражение: «требовать суда» – неологизм. Как мог ты так скоро отстать от православных обычаев языка нашего, забыть их и замещать новизнами! Вся беда от того, что ты прицепился к ложному началу. Ты говоришь себе; «Был бы он в России, приезжай он в Россию в то время, и он был бы совершенно оправдан». Сбыточное ли это дело? Можно ли минуту сомневаться в неотразимой истине, что он был бы осужден наравне с другими? Не был бы он в первых категориях, охотно верю; но неминуемо был бы в одной из последних. Наказание нравственное – тоже политическая смерть. Но ведь мы не одно создание духовное, а судя о применении наказания, глядя на брата там, где он теперь и что он теперь, можешь ли не выплакать всех благодарных слез души своей за спасение его? Он бывал в Обществе, он знал о существовании Общества – у нас довольно: он государственный преступник; и, верно, брат твой не из тех, которых желали бы эскамотировать у суда. Ты знаешь предубеждения всех сильнее против него. Многие, без сомнения, не были виновнее его, а они там. И ты можешь быть в отчаянии! Неблагодарно и неблагоразумно! Да и положим несбыточное: он возвратился, и возвращены ему права его. Какое существование пересоздаст он себе из материалов прошедшего? А материалов этих уничтожить нельзя. Да и прежняя жизнь его, еще не омраченная грянувшею над нею грозою, была ли для него очень сладка? Чем она разразилась? Болезнями, вынудившими его искать другое небо. Теперь приедет он под старое, ждать чего? Новых болезней, чтобы снова иметь потребность ехать отдохнуть. И ты хлопочешь, ты рвешься – из чего? Чтобы кое-как, противоестественно, сколотить ему из обломков новую жизнь на старый лад; жизнь, для него невозможную, которой сто раз предпочтительнее нынешняя смерть; жизнь, лишенную нравственного и физического охранения, одним словом, необходимого благосостояния. И все это почему? Потому, что ты не хочешь видеть непреложность, неотвратимость, неизменяемость в событии, которое облечено сими тремя свойствами. Тебе все кажется, что люди могут переменить то, что совершила судьба, и судьба не случай, mais le destin, в истинном смысле древнего, в смысле необходимости. Ты хочешь, чтобы душонки и душечки Кушниковские и другие пошли против души России, то-есть, против того, что составляет её нравственное бытие; то, чем она именно Россия, а не Англия, не Франция. Переделайся жребий брата твоего, и Россия не была бы Россиею; тут нет увеличения, а строгая истина. Это раскрыло бы в ней новые элементы, которых мы не видим, которые дали бы ей совершенно новый образ. Вот мои мысли; мне нужно было излить их пред тобою. они справедливы, следовательно, должны быть убедительны. Но есть нечто убедительнее самой справедливости: это скорбь прекрасной, чувствительной души, и потому не надеюсь пересилить ее в тебе. Но, во всяком случае, умоляю тебя: покорись, résignez-vous! Не трать сил своих в напрасном искательстве, в душевной хлопотливости; предавайся всей скорби своей, но в спокойствии духа, без этих, так сказать, телодвижений духа; не стучи цепями: ты ничего не пробьешь ими, никого не выкликаешь. Вокруг тебя, пред тобою судьба; тут людям нет доступа; они с священным ужасом, с холодным, болезненным стеснением души проходят мимо, чувствуя все бессилие свое, всю ничтожность упований своих. Карамзин писал к Дмитриеву о впечатлениях своих в 14-е декабря: «Для меня опасность существует вдали, вдали беспокоит; вблизи она уже – судьба: смиряюсь». Так сказал он или почти так, но таков смысл его слов. Понимаю, что твое беспокойство раздражается мученическим, верховным спокойствием жертвы: ты перенес бы вопли его, роптания, но не выносишь молчания; ты возмущаешься покорством его. Все это так, все это в свойстве души; во, уступая природе, надели законною частью и рассудок. Смотри в этом случае на Россию, как на кладбище: плачь на нем, но не требуй от него то, что оно возвратить не в силах, Не ворочай надгробным камнем, не раздирай земли: ты только измучишься в насилиях безумной скорби, отроешь одни кости; но кладбище не возвратит жизни, которую оно пожрало; не возвратит минувшего, которое уже и не в нем, а в Боге. К тому же я убежден, что ты должен покоить себя не ради себя одного, а ради и его. Ты нарушаешь величие его несчастья своими житейскими волнениями; ты возмущаешь его перерождение, его успение, видами, надеждами, сожалениями, qui pour lui ne sont plus de son monde; ты не даешь ему закалить себя в новой стихии его, обжиться в новом мире, потому что он на тебе видит отражение, видит зыблющиеся тени другого мира, от которого, верно, отказался бы он легко один, но который ему еще мерещится в тебе, тобою и твоими усилиями. Твоим спокойствием ли, по крайней мере, успокоением, еще более усовершенствуется, пополнится, отделится его спокойствие. Вот настоящее, единственное пожертвование, которое ты можешь привести ему. Братья по природе и по душе, вы теперь близнецы по обстоятельствам, ибо ты несчастием его прирос к нему. Скрывай же от него то, чем он поразил тебя; делись с ним бедою его, но учись у него переносить ее; ибо то, что ты у него займешь, ты же возвратишь ему с лихвою. Он же будет сильнее силою, которую сообщил тебе. Тебя беспокоит здоровье его и вредный для него климат Англии? Был ли он здоров в России, в климате Совета, когда, повидимому, был он один из счастливцев мира сего, на чреде блестящей, в сфере деятельности и пользы? Был ли бы теперь он здоровее в Чите? Вот точка зрения, с которой должен ты смотреть на положение свое и его, если хочешь видеть истину, а не то, что бы тебе хотелось видеть.
Моя участь почти решена. Ты знаешь, что все это время был я целью доносов, предубеждений и прочего. Приехав сюда, увидел я, что никто не может помочь мне: один Бенкендорф имеет доступ, а этот Бенкендорф, по месту своему, именно источник и проточник, через который пробивался прилив и отлив неблагоприятных впечатлений для меня. Как же ожидать от него противодействия в собственном деле (и вот твое заблуждение)? Все, что мог я от него надеяться, это – прекращение враждебного действия, несколько слов слабых и неподсказанных внутренним убеждением, и все это до первого доноса Булгарина или другого нашего Видока. Ничего не мог основать я прочного на таких пособиях и решился написать прямо к государю письмо, в котором говорил, что я был оклеветав перед ним; что можно обвинить меня было в легкомыслии, даже в своеволии мнений, но не в поступках, и прочее. Государю мое письмо понравилось; он велел мне сказать что принимает меня в службу обеими руками и хотел, чтобы я определился по Министерству финансов. Таким образом я при Канкрине чиновником по особым поручениям; ибо я не захотел вице-губернаторского места, не осмотревшись прежде, не ознакомившись с делом и людьми. Я просился к Дашкову, то-есть, намекал Бенкендорфу, что если выбирать мне службу, то предпочитаю службу по Министерству юстиции. Дашков также просил меня сначала у государя, но без успеха. Увидим, что будет; но приходило так, что непременно должно было мне или в службу, или вон из России.
Спасибо за письмо и книжки. Ты бессовестен: присылаешь, Бог весть что, а между тем не присылаешь «Hernani». Ты просишь от меня статьи о литературе нашей. Постараюсь доставить тебе мое введение к биографии Фонвизина. Вот все, что я знаю о русской литературе. Переведи и тисни. На деньги, приходящиеся мне от Сверчковой, возьми мне билеты лотерейные, только поумнее; например так, чтобы числа били в некотором соответствии с именами детей моих, с числом букв их имен: Маша, Пашенька, Павлуша, Наденька; на это употреби 75 франков, а остальное дай какой-нибудь бедной сироте. Лотерейные билеты запиши на имя каждого из детей моих.
Дельвиг сейчас был у меня и тебе кланяется и посылает свою «Газету». В ней найдешь статью Пушкина на Булгарина под именем Видока. Видок-Булгарин бранил его в своих журналах на чем свет стоит за то, что почитал рецензию «Дмитрия Самозванца» писанною им, а она Дельвига. Пушкин теперь в Москве; здесь все говорят, что он женится, но, вероятно, это вздор.
Прости, мой милый друг! Карамзины здоровы, Вяземские также; они теперь в Остафьеве. Не знаю еще, как устроить свое будущее: здесь дорого жить всем домом, а розно жить тяжело. Обнимаю тебя от всей души.