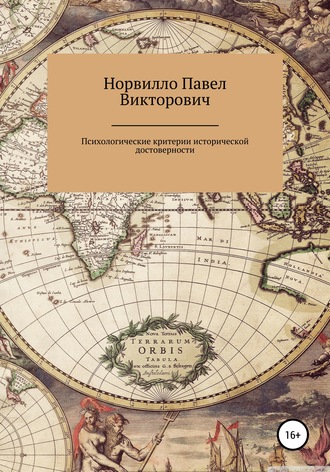
Павел Викторович Норвилло
Психологические критерии исторической достоверности
Нам же, возвращаясь к главной проблематике настоящих заметок, остаётся лишь ещё раз подчеркнуть, что этот несомненный научный успех был достигнут в том числе благодаря тому, что имели место, во-первых, принципиальное доверие к фольклору как живой памяти народа, и во-вторых, чёткое понимание того, что общий характер, общий эмоциональный фон взаимоотношений людей является ближайшей предпосылкой соответствующих поступков этих людей по поводу друг друга (как известно из истории дипломатии, подписание договора далеко не всегда сопровождается его выполнением, а тем более – своевременным и точным выполнением).
Но, пожалуй, самым показательным примером продуктивной опоры на психологию является деятельность такого историка-непрофессионала, как А. М. Членов, в своё время тоже засомневавшегося там, где “никто ни минуты не сомневался”. А именно: рассматривая писаные, устные и иные исторические свидетельства прежде всего как творение рук людей, движимых определёнными мотивами, он начинает с сопоставления логики, приписываемой событиям различными источниками, с фактически наблюдаемыми данными и задачами, объективно стоявшими перед участниками этих событий. Что позволяет отделить версии, подтверждаемые всем комплексом сведений, от явно надуманных и в последующих реконструкциях использовать полученные по ходу исследования данные об образе мыслей и характерном стиле действий исторических персон уже как самостоятельный аргумент. За счёт такого подхода А. М. Членов – не говоря уже об уточнении множества интерпретаций, – во-первых, доказал фиктивность ряда событий, доселе считавшихся бесспорными фактами, во-вторых, открыл длинный ряд фактов, которые многие штатные историки, располагавшие тем же набором исходных материалов, не рассматривали даже как теоретически допустимые варианты. Вот лишь некоторые из фрагментов, введённых, а точнее сказать, возвращённых А. М. Членовым в картину отечественной истории:
Восстание древлян 945-946 гг. закончилось не поджогом и разгромом их столицы, красочно расписываемым в “Повести временных лет”, а переговорами и капитуляцией Древлянской земли на условиях текущего отказа от вооружённой борьбы и перспективного союза сегодняшних противников. Князь древлян Мал не только не был убит, но и принимал впоследствии участие в управлении Киевской славянской федерацией.
Одним из причастных к гибели князя Игоря в 945 г. и прямым соучастником убийства его сына Святослава в 972 г. был их “ближайший сподвижник” Свенельд.
Добрыня Малович не только формально, как глава правящего дома, но и по существу стоял во главе всех предпринимавшихся с 980 г. и до своей смерти (около 996 г.) крупных государственных начинаний. Так что и для превращения христианства в государственную религию Руси Добрыня сделал уж точно не меньше, чем его племянник Владимир Святославич.
Сам Владимир Святославич действительно скончался в 1015 г., но не от болезни, а был убит в результате боярского заговора.
Из двух детей Владимира, Бориса и Глеба, погибших, согласно летописи, в 1015 г. и провозглашённых затем святыми, только Глеб встретил свою смерть в этом году и в связи с мятежом в пользу двоюродного брата Святополка (“Окаянного”). Борис же по ходу первого этапа усобицы не только остался жив, но и стал престолонаследником при другом своём брате – Ярославе (впоследствии “Мудром”). Однако именно это обстоятельство пробудило у последнего острое желание избавиться от Бориса и тремя годами позже, в 1018 г., Борис всё-таки пал от рук посланных братом убийц.
Вместо упоминаемых в летописи под 1021 г. нападения Брячислава Полоцкого на Новгород и разгрома его Ярославом имели место нападение смоленского князя – скорее всего, Судислава – на Полоцкую землю и его капитуляция под давлением прибывших с севера войск Новгородской земли.
В 1026 г. Ярослав с Мстиславом делили по Днепру “Русскую землю” не сами по себе, а по приговору верховного арбитра державы, коим выступал тогда новгородский посадник Константин (Добрынич).
Правда, это не помешало Ярославу в конце концов прорваться к власти, истребить всех близких родичей, установить в стране режим личной диктатуры и объявить свою династию варяжской.
Желающим более подробно ознакомиться с принципами и результатами работы А. М. Членова могу порекомендовать, в частности, его книгу “По следам Добрыни. Сын Добрыни.” (М., Мир, 2004).
* * *
Итак, на наш взгляд, включение в арсенал историка наряду с археологическими, текстологическими, этнографическими и другими традиционными средствами также психологических методов и критериев может ощутимо расширить возможности исторической науки. Как представляется, в свете всего вышесказанного такой вывод уже не должен казаться взятым с потолка или практически не реализуемым.
Правда, не подлежит никакому сомнению и то, что даже самая искренняя готовность историков опереться на психологию – это только одна сторона дела. Чтобы действительно мог состояться переход от спорадических и полуинтуитивных попыток к систематической и планомерной эксплуатации в историческом анализе психологических данных, психологи должны быть в состоянии оперативно и компетентно реагировать на запросы коллег, в осмысленные сроки предоставляя им заслуживающие доверия ответы. Однако возможности и проблемы психологии – а у неё немало не только вторых, но и первых – есть сюжет весьма обширный, требующий для своего рассмотрения отдельного и обстоятельного разговора и заведомо гарантирующий безуспешность попыток разобраться с ним наспех и между делом. Поэтому здесь мы ограничимся общим указанием на то, что для обеспечения надёжного и продуктивного взаимодействия истории и психологии требуется встречное движение представителей двух наук, и выражением надежды при случае вернуться к этому вопросу более подробно.
За сим, для завершения настоящих заметок и во избежание разночтений, остаётся лишь оговориться, что тезис о недооценке официальной историей психологических факторов не следует понимать в том смысле, будто историки совершенно не учитывают менталитета исследуемых эпох и отдельных личностей2*. И тем не менее, несмотря на отдельные удачные психологические зарисовки в том числе историков-профессионалов, “безлюдность” нашей истории – это факт, на грубости и зримости которого никак не отразились разговоры о необходимости его преодоления, поскольку, кроме разговоров, для решения непростой задачи реконструкции внутреннего облика физически уже несуществующих личностей ничего реального так и не было сделано. И это лишний раз доказывает, что, предоставленные сами себе и не получая помощи извне, историки вряд ли сумеют разобраться со всеми имеющимися к их услугам вопросами.




